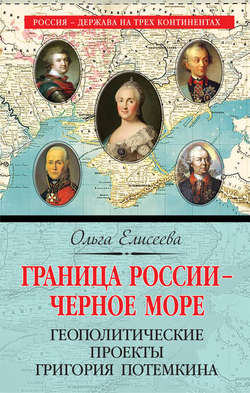Читать книгу Граница России – Черное море. Геополитические проекты Григория Потемкина - Ольга Елисеева - Страница 5
Введение
Проекты Потемкина в кругу внешнеполитических планов его современников
ОглавлениеПрежде чем непосредственно приступить к разбору документов светлейшего князя, мы считаем важным рассмотреть проекты Потемкина в кругу внешнеполитических планов его современников. Поскольку именно тогда впервые были высказаны идеи, заложившие основы дальнейших внешнеполитических теорий, столь ярко повлиявших на историческую судьбу России в XIX–XX вв.
Так, в первую половину царствования Екатерины II, когда во внешней политике России почти безраздельно господствовала так называемая «прусская» партия, возглавляемая первоприсутствующим, то есть фактическим руководителем, Коллегии иностранных дел и воспитателем наследника престола графом Никитой Ивановичем Паниным, идея неизбежного сближения между Россией и Пруссией, столь часто и драматично оживавшая на протяжении XIX и XX вв., получила свое наиболее раннее теоретическое обоснование. Уже в 1764 г., всего через пару лет после переворота 28 июня 1762 г., Панин использовал проект русского посла в Дании Н. А. Корфа об основах русско-датского альянса против Швеции для создания своего, более масштабного документа. Творчески переработав предложения Корфа, Панин вносит в альянс еще одного союзника – Пруссию и еще одну контролируемую сторону – Польшу, а затем выступает перед императрицей с широко известной впоследствии концепцией «Северного аккорда» – то есть союза России, Пруссии и Дании, как держав «активных», призванных контролировать Северную и Центральную Европу, подчиняя своей воле державы «пассивные», в частности Польшу и Швецию[4].
Этот проект Панина – Корфа уже нес в себе зерна традиционных для сторонников русско-германского альянса рассуждений о Пруссии как о «естественном союзнике» России в Центральной Европе, о «непротиворечивости» интересов двух держав и необходимости государств с «активной» внешнеполитической линией разделять свои сферы влияния над странами «пассивными», погруженными во внутренние неурядицы, умело подогреваемые извне.
Этот проект не получил реального воплощения, хотя вынужденная для России в начале царствования Екатерины II близость с берлинским двором, которую много лет спустя, уже в годы второй русско-турецкой войны 1787–1791 гг., императрица в письме Г. А. Потемкину назовет «прусским гнетом», продолжалась до начала 80‑х гг. Она была расторгнута только после подрыва «русской» партией светлейшего князя влияния «прусской» группировки.
Сразу оговоримся, понятия «прусская» и «русская» партии заимствованы историографией из донесений иностранных дипломатов при петербургском дворе[5], они не употреблялись самими сторонниками данных группировок. В обе партии входило много как русских вельмож, офицеров и чиновников, так и иностранцев на русской службе. Сторонники «русской» партии базировали свои взгляды на идеях канцлера Андрея Ивановича Остермана, высказанных еще в 30‑х – начале 40‑х гг. XVIII в. Остерман считал, что империи следует держаться своих собственных, «особенных» интересов, не подпадая под влияние какого-либо иностранного двора[6]. Многочисленная и, по удачному выражению английского посла сэра Джеймса Гарриса, «привыкшая властвовать» «прусская» партия, напротив, была убеждена, что Петербург недостаточно силен, чтоб самостоятельно действовать на международной арене и добьется успеха только в союзе с Берлином.
Высказанные Н. И. Паниным идеи о необходимости прочного альянса с Пруссией были повторены его учеником великим князем Павлом Петровичем в 1773 г., уже в новых политических условиях. Начало 70‑х гг. – канун совершеннолетия наследника престола и время, последовавшее за женитьбой цесаревича в 1773 г. на принцессе Вильгельмине Гессен-Дармштадтской (в православном крещении Наталье Алексеевне), – отмечено множеством сообщений иностранных дипломатов, аккредитованных при русском дворе, о старании представителей «прусской» партии и лично Панина вынудить императрицу либо передать власть сыну, либо согласиться на «со-регентство» с ним[7].
В этой обстановке в 1774 г. молодой великий князь без каких бы то ни было намеков со стороны августейшей матери отваживается подать ей пространную записку с размышлениями о политическом положении России «Рассуждение о государстве вообще, относительно числа войск, потребных для защиты оного и касательно обороны всех пределов». В ней через призму рассмотрения чисто военных вопросов Павел старался показать несостоятельность, на его взгляд, внешнеполитического курса России того времени, то есть первой русско-турецкой войны и вообще попыток решить вопрос взаимоотношений с Турцией и Крымом военным путем[8]. Великий князь вновь, как 9 лет назад Панин, говорит о неизбежной близости интересов Петербурга и Берлина в Европе и на Балтике, от себя он добавляет рассуждения о необходимости жестко регламентировать все стороны жизни страны на прусский манер, перестроить войска по образцу «лучшей армии мира» – армии Фридриха Великого. Записка была подана как раз тогда, когда сама императрица работала над «Учреждением о губерниях», обнародованным в следующем, 1775 г., и ясно рисует отношение Павла к внешней и внутренней политике матери.
В названном проекте заметно сильное влияние идей Панина. К его составлению привлекались секретари Никиты Ивановича – Денис Иванович Фонвизин и Петр Иванович Бакунин, то есть как раз те лица, которые вместе с Паниным в это же время трудились над конституционным актом, долженствовавшим ознаменовать вступление Павла на престол, а затем оказались участниками заговора 1773 г. в пользу цесаревича[9]. Можно сказать, что рукой Павла Петровича во внешнеполитической части проекта водил Панин, но ученик шел дальше своего учителя, предлагая не просто установить «сердечное согласие» и дружбу с берлинским двором, а полностью изменить жизнь России по прусскому образцу. При этом молодой Павел не замечал никаких препятствий для осуществления своих идей ни в культуре, ни в принципиальной разнице географического и военного положения двух стран.
Следует, однако, отметить одно существенное различие между планами «ученика» и «учителя». Если в вопросах развития внешней политики России они совпадали, то внутренняя политика государства виделась Панину и великому князю по-разному. Даже за два дня до своей смерти в марте 1783 г. Никита Иванович продолжал убеждать будущего императора установить после восшествия на престол конституционную монархию[10]. Умение великого князя не сказать в таких случаях ни «да», ни «нет» порождало у сторонников Павла Петровича много иллюзий насчет будущей конституционной реформы. Однако наиболее ранний из самостоятельно составленных им проектов выдержан в гораздо более самовластном духе, чем «Учреждения о губерниях» Екатерины II, носившие яркую тенденцию централизма и укрепления государственного аппарата.
«Рассуждение…», а также написанное в близкое время «Мнение о государственном казенном правлении и производстве дел по свойству их рассмотрения и распоряжения его зависящих», где цесаревич предлагает отказаться от выборности дворянских судей в нижних земских судах, отменить генерал-губернаторов, как лиц, мешающих осуществлению принципа единоначалия во взаимоотношениях между императором и губернаторами, подрывают образ молодого Павла как либерала и конституционалиста. Но вернемся к области внешней политики.
Сам факт подачи «Рассуждения…» свидетельствовал об уверенности сторонников «прусской» партии в силе своих позиций. Однако их чаяниям на скорую замену царствующей особы на русском престоле не суждено было сбыться. После раскрытия заговора в пользу Павла осенью 1773 г. Екатерина II вызывает с фронта своего старого друга генерал-майора Потемкина, который до войны много работал под ее руководством, и вводит его в фавор[11].
Борьба за независимый, самостоятельный от видов Пруссии курс подталкивала Россию к сближению с Австрией, также стремившейся к разделу европейских земель Оттоманской Порты, как и Россия. Союз двух держав был заключен весной 1781 г. в необычной форме обмена письмами между императрицей Екатериной II и императором Священной Римской империи Иосифом II. За «альянс» с цесарцами выступала плеяда молодых политиков, в первую очередь Потемкин и Александр Андреевич Безбородко. Потемкин видел в сближении с Австрией временную меру и считал, что постоянным принципом русской политики в Центральной Европе должно быть поддержание равновесия сил между немецкими государствами и создание препятствий для усиления одного из них[12]. В отличие от светлейшего князя Безбородко и влиявшие на него Петр Васильевич Завадовский и Александр Романович Воронцов считали Австрию постоянным союзником России. Они согласились принять от Иосифа II крупные денежные субсидии и составили при дворе весьма влиятельную проавстрийскую партию, известную в мемуарной литературе и дипломатической переписке под названием «социетет».
Политический вес этого круга вельмож уже в 1780 г., после свидания Екатерины II и Иосифа II в Могилеве, был достаточен для того, чтоб Безбородко мог подать императрице составленный им в сентябре «Мемориал по делам политическим», проектировавший условия союзного договора с Австрией и предусматривавший последующее расчленение Турции[13]. Этот документ, привлекавший к себе внимание исследователей куда меньше, чем знаменитый «Греческий проект», уже нес в себе идеи, позднее развитые в письме Екатерины II Иосифу II 10 (21) сентября 1782 г., считающемся изложением «Греческого проекта». В связи с этим уместно было бы задаться вопросом, насколько воронцовская партия вообще причастна к написанию черновика данного документа? Мы постараемся осветить обстоятельства возникновения названного письма ниже, когда будем подробно разбирать проект Потемкина «О Крыме».
Непосредственным поводом для составления письма послужил встревоженный запрос австрийского посла в Петербурге графа Людвига Кобенцеля о событиях в Крыму весной 1782 г., где началось восстание против хана Шагин-Гирея, ставленника России. Безбородко посоветовал императрице непосредственно обсудить с Иосифом II «соглашение о приобретениях» за счет Порты, буде она нарушит пункты Кючук-Кайнарджийского мира. Екатерина II поручила ему составить черновой текст письма, которое и следует считать протографом «Греческого проекта», официально так никогда и не оформленного в виде отдельного документа. Входившее в текст письма «Соглашение о приобретениях» предусматривало: полное изгнание турок из Европы, восстановление Греческой империи, корона которой предназначалась внуку императрицы Константину Павловичу, образование из Молдавии и Валахии буферного государства Дакии, приобретение Россией Очакова с областью и одного-двух островов в Архипелаге Адриатического моря, а Австрией – практически всей западной части Балканского полуострова[14].
Вопрос о соотношении неосуществленного «Греческого проекта» и успешно реализованного проекта присоединения Крыма весьма сложен и многогранен. Во‑первых, до сих пор до конца не выяснено авторство «Греческого проекта». Хотя инициативные документы этого проекта написаны рукой Безбородко, изучение бытования идеи захвата Константинополя в русском обществе того времени, а также черновых документов, относящихся к подготовке данного проекта, показывает, что проект был составлен Безбородко в ответ на запрос императрицы и по ее прямому указанию.
Во‑вторых, трудно сказать, чем на самом деле являлась записка Потемкина «О Крыме»: альтернативным проектом, который перечеркивал «Греческий проект» Безбородко; тайным проектом, который русская сторона старалась осуществить под прикрытием «Греческого проекта»; или первым шагом на пути реализации грандиозных планов воссоздания Греческой империи?
Один из путей решения этого вопроса – обращение к исторической традиции, результатами которой явились оба проекта. На первый взгляд они реализовывают одну и ту же линию русской внешней политики – активное продвижение на юг, на земли, подвластные Турецкой империи. Однако цели этого продвижения различны. В «Греческом проекте» – это обладание Константинополем и вместе с ним контроль над черноморскими проливами. В записке «О Крыме» – это уничтожение Крымского ханства – векового врага России, установление стабильной границы по морю, предотвращение постоянного оттока рабочих рук с южных земель империи вследствие постоянных набегов крымских татар, уводивших громадные полоны пленных на средиземноморские рынки Оттоманской Порты.
Изучение истории возникновения идеи захвата Константинополя-Царьграда позволяет сказать, что впервые четко она была высказана еще Петром I, перед Азовскими походами 1695–1696 гг. Император непосредственно не ставил перед собой подобной цели, но в связи с чтением летописных текстов о походах Олега на Царьград в 911 г. высказывался за необходимость для России изгнать турок из Европы[15]. Затем подобные суждения высказывали фельдмаршал Б. Х. Миних, А. И. Остерман, а сама Екатерина II не раз использовала идею захвата Константинополя как тему для конфиденциальной беседы со своим союзником австрийским императором Иосифом II и переписки с ним. Таким образом, «Греческий проект» как бы венчал петровское направление русской внешней политики на юге.
Что касается Записки «О Крыме», то ее идеи восходят к другим, более ранним документам, в частности к требованиям правительства царевны Софьи Алексеевны времен неудачных походов в Крым князя В. В. Голицына 1687–1689 гг. Тогда русская сторона предъявляла к Турции в отношении Крыма как раз те претензии, которые смогла реализовать только через сто лет: возвращение Крыма России, выезд из него татарского населения, возвращение русских пленных без выкупа, передача России крепостей Очакова в устье Днепра и Азова в устье Дона[16].
Необходимо признать, что два проекта – «Греческий» и «Крымский» – были выдвинуты разными политическими партиями, действовавшими при русском дворе. Проекты ставили перед Россией совершенно разные цели. «Греческий» нацеливал страну на решение грандиозной задачи полного изгнания турок из Европы силами двух союзных государств с возможным привлечением Франции и Англии и раздела владений Оттоманской Порты между этими государствами. Проект «Крымский» предусматривал присоединение полуострова к империи и уничтожение ханства силами одной России. Именно этот проект и был впоследствии успешно реализован.
Таким образом, можно сказать, что Потемкин фактически подменил один проект другим, сузив грандиозные цели первоначального документа до размеров реально осуществимой силами одной России внешнеполитической акции. По мысли светлейшего князя, уничтожение Крымского ханства ставило точку в длительной борьбе России с осколками Золотой орды.
Однако сам по себе выход России к берегам Черного моря и обладание Крымом неизбежно ставили перед ней те вопросы, ответы на которые и содержались в «Греческом проекте». В переписке императрицы и светлейшего князя проблема о прохождении черноморских проливов поднималась не раз. К возможности ее решения через воссоздание «империи Константиновой» оба корреспондента относились серьезно, как к перспективному плану, рассчитанному на долгий срок, трудную дипломатическую работу, возможные военные столкновения, но вполне осуществимому при благоприятных внешнеполитических условиях, например при создании общей европейской коалиции для изгнания турок из Европы и раздела их земель.
В качестве конкретных официальных документов, а не обмена мнений в эпистолярном диалоге Потемкин выдвигал и разрабатывал проекты сугубо прагматичного характера, решавшие насущные вопросы внешней политики России того времени, осуществимые силами только самой империи и, что очень важно, имевшие глубокую историческую традицию. Таковы его так называемые записки «О Крыме» 1782 г., «О Польше» 1788, 1790, 1791 гг. и примыкающие к ним многочисленные документы делопроизводственного характера. Ниже мы подробно будем характеризовать эти материалы и обстоятельства их возникновения.
Смерть Потемкина в октябре 1791 г. прервала осуществление многих его планов. Реализацией целого ряда выдвинутых им проектов правительство Екатерины II занималось в последние годы царствования, в изменившихся политических условиях, руками людей, не всегда четко понимавших основные идеи светлейшего князя и подгонявших его предложения под новую международную ситуацию.
В кругу заметных внешнеполитических проектов конца екатерининской эпохи следует назвать «Персидский проект» последнего фаворита императрицы П. А. Зубова, поданный им государыне в 1796 г., во время войны с Персией из-за нападения на Грузию Астерабадского хана. Успешные действия русских войск, которыми руководил брат временщика В. А. Зубов, взятие Дербента и Баку, позволили Российской империи расширить территориальные приобретения в Закавказье и получить, как предлагал Зубов, господство над западным побережьем Каспийского моря[17]. Смерть императрицы положила конец военным операциям, однако сама идея продвижения империи в Закавказье имела большое будущее и постепенно осуществлялась при внуке Екатерины II – Александре I в течение первой четверти XIX в.
Важно отметить, что вопрос о принадлежности проекта собственно перу Платона Зубова вызывает сомнения. Последний статс-секретарь Екатерины II А. М. Грибовский, тесно работавший с Зубовым в годы его фавора, сообщает, что А. А. Безбородко, к которому после смерти светлейшего князя в 1791 г. попала значительная часть бумаг покойного, позднее передавал многие документы Потемкина новому фавориту, стараясь тем самым поддержать свое угасающее влияние на дела[18].
Существуют свидетельства, что в 1774–1776 гг. Потемкин составлял для Екатерины проект по персидским делам. В бумагах Григория Александровича встречаются записки императрицы, содержание которых сходно с идеями «Персидского проекта» Зубова, но относящиеся к Северному Кавказу. Например, записка «Об Осетии», поданная во время путешествия Екатерины II на юг в 1787 г., когда ей были представлены старейшины осетинских племен, просившие покровительства. Однако протографов потемкинских документов, касающихся Персии, не обнаружено.
Очертив круг идей и концепций, среди которых создавались проекты Потемкина, мы можем непосредственно перейти к их изучению.
4
Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. XIV. История России с древнейших времен. Т. 27–28. М., 1994. С. 168–171.
5
Horace Waipoie's Correspondence/Ed. W. S. Lewis. New Heawen. 1967/Vol. 23. P. 240.
6
Архив князя Воронцова. М., 1880. Кн. 24. С. 1–5.
7
Эйдельман Н. Я. Грань веков//В борьбе за власть. Страницы политической истории XVIII века. М., 1988. С. 309–310, 317–318.
8
Сорокин Ю. А. Павел I//ВИ. 1989. № 2. С. 50.
9
Эйдельман Н. Я. Указ. соч. С. 317–319.
10
Сафонов М. М. Конституционный проект Н. И. Панина – Д. И. Фонвизина//Вспомогательные исторические дисциплины. Т. VI. Л., 1974. С. 280.
11
Бартенев П. И. Брак Екатерины II//РА. 1906. № 11. C. 613–616.
12
Маркова О. П. О происхождении так называемого Греческого проекта//История СССР. 1958. № 4. С. 56.
13
Григорович Н. Канцлер Александр Андреевич Безбородко в связи с событиями своего времени//Сб. РИО. 1881. Т. 29.
14
Тиктопуло Я. Мираж Царьграда. О судьбе Греческого проекта Екатерины II//Родина. 1991. № 11–12. С. 59–60.
15
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1991. С. 57.
16
Там же.
17
Брикнер А. Г. История Екатерины Второй. Т. 2. М., 1991. С. 515–516.
18
Грибовский А. М. Записки о императрице Екатерине Великой. М., 1989. С. 14.