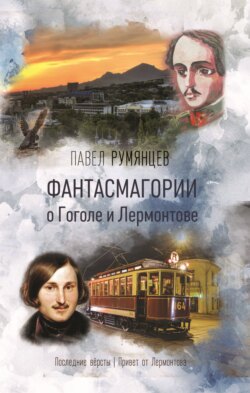Читать книгу Фантасмагории о Гоголе и Лермонтове - Павел Румянцев - Страница 6
Последние вёрсты
Четвёртая верста
ОглавлениеПётр Яковлевич Чаадаев одиноко брёл вдоль Москвы-реки. Он не любил скопления народа и поэтому решил подойти к Свято-Данилову монастырю со стороны Пятницкой. Набережная была пустынна. Да и какая это была набережная! Всего лишь жалкая тропка, тянущаяся от одного дома к другому. Всюду валялись доски, тряпки и прочий мусор. Москва – не Петербург, в ней, как в любом российском городе, всё рядом: величие Кремля и убогость замоскворецких домишек. Но невзрачный пейзаж не отвлекал Чаадаева от дум.
«Что было бы, если бы Гоголь не умер, а выжил после своей странной болезни, да ещё после сожжения второго тома “Мёртвых душ”? Гм-м… Его непременно объявили бы сумасшедшим! В России принято всё непонятное и неординарное причислять к умопомрачению». Чаадаев вспомнил Пушкина, дружбой с которым он по прошествии лет всё больше и больше гордился.
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, лучше посох и сума…
«А если ты не сумасшедший, а только объявлен таковым! И кем! Самим государем! И должен жить с этим ярлыком, и вынужден постоянно доказывать обратное. Нет, никто не поймёт моих мучений! Что может быть ужаснее, чем слыть светским юродивым… и что бы ты ни говорил и ни думал, всюду натыкаться на снисходительные взгляды и улыбки. Бр-р! Уж лучше смерть! Хорошо, что Гоголь умер! Прости, Господи, мои грешные мысли!»
Чаадаев остановился и перекрестился на купола ближайшего храма.
Чаадаев хотя и призывал Россию к объединению верою с Европой, в душе трепетал перед православными российскими храмами. Приземистые, по-бабьи пузатенькие, церквушки вызывали в нём умиление и восторг, и он осознавал, что это выше его, что это идёт не от холодного разума, а от его русской души, и ничего он поделать с собой не мог, да и не было в этом необходимости.
В одном из переулков Чаадаев увидел экипаж. Рысью промчались кони, распугивая прохожих. Невольно вспомнилась гоголевская тройка: «Эх, Русь, куда несёшься ты?» А может, ошибся Гоголь, и несётся тройка-Русь не в величии своём? А чтобы со временем преподать какой-нибудь великий урок миру… страшный урок… и оттого шарахаются от неё остальные народы? Кто знает? Не хотят вместе с ней участвовать в этом.
Чаадаев ещё раз перекрестился.
– Избави нас, Господи, от напасти!
Возле Чаадаева остановилась баба, шедшая по воду на реку.
– Эй, барин… господин! – поправилась она на городской манер. – Вы, случаем, не заплутали?
– Нет, – ответил Чаадаев розовощёкой бабёнке. – Я в Свято-Данилов монастырь иду!
– A-а… тады поторапливайтесь! Обедня скоро начнётся! – Баба подхватила вёдра.
– А ты водицы набрать? – спросил Чаадаев.
– Ага! – ответила баба, довольная, что господин её не обругал, как это бывало у них в деревне, а даже изволил поговорить с ней.
– И что ты недавно в Москве? В прислугах?
– Ага! – подтвердила баба, расплываясь в улыбке.
– И хороший у тебя хозяин?
– Хороший! Не дерётся!
– Вот и славно! – похвалил Чаадаев. – Когда хозяин хороший – и прислуга, смотрю, здоровьем пышет!
– Не жалуюсь! – засмеялась бабёнка.
– Оно и видно… И ничего тебя не беспокоит?
– Не-а!
– И мысли никакие не мучают?
– Чево?
– Это я так. Ступай! – ответил Чаадаев.
Баба послушно отправилась дальше.
«Святая простота! – подумал Чаадаев. – Но как она близка к Богу! И как её мигом может испортить плохой хозяин. Нет, нашему народу нужен хороший руководитель, чтобы всё решал, заботился… обо всех… тогда и нация наша будет такая же здоровая, крепкая, как эта деревенская, не испорченная ещё городом баба!» – глубокомысленно заключил философ, по обычаю своему из простой встречи сделав далеко идущие выводы.
«Да-да! – повторял Чаадаев. – Россия – она такая же наивная, как эта бабёнка! Ей нужен хороший ум, ей нужны свои мыслители, которые возбуждали бы разумение нации и заставляли её двигаться вперёд!» Чаадаев увлёкся своими рассуждениями. «Гоголь был подобным мыслителем… жаль его, умер, не понятый своим народом…»
А бабёнка, которую оставил философ, долго смотрела ему вслед, и ей было жаль этого чудаковатого барина, она даже почему-то по-бабьи всхлипнула несколько раз, а потом всё же взялась за вёдра и отправилась по воду.
«А ведь баба-то с пустыми вёдрами – плохая примета! – вдруг вспомнил Чаадаев. И почему-то засмеялся: – А ну их всех к лешему!» – и ускорил шаг.
Вновь перед ним промелькнула мчавшаяся по Замоскворечью тройка!
В тройке сидели Островский с Косицкой.
– Господи, хорошо-то как! – Быстрая езда захватывала женщину, и она плотнее и плотнее прижималась к своему спутнику, крепышу Островскому. Сани подпрыгивали на ухабах, грозя перевернуться, но возница ловко управлял, коней не придерживая, и сам увлёкся гонкой.
– Эй, поберегись! – кричал он.
– Давай, гони! – подзадоривал Островский и на каждом ухабе ещё крепче прижимал Косицкую.
Но вот сани выехали на широкую улицу, возница натянул вожжи.
– Куда едем, барин?
– На Пятницкую езжай! – ответил Островский. Кони замедлили шаг.
– Отчего люди не летают? – вдруг мечтательно произнесла Косицкая.
Островский не сразу заметил перемену настроения своей спутницы.
– Я говорю: отчего люди не летают? – повторила Косицкая. – Я бы сейчас взяла и полетела! Куда угодно, лишь бы было чувство полёта… хоть с обрыва в реку! Знаете, Александр Николаевич, я люблю Волгу! Там у нас, под Нижним, такие высокие берега! Я сколько раз представляла себя птицею. Разбегусь и замру на краю, боязно, обрыв внизу. Мне сказывали, одна замужняя женщина бросилась эдак с обрыва… и насмерть! От несчастной любви. Ой, простите! Видимо, похороны мрачные мысли навеяли.
– Отчего же! – откликнулся Островский. – Вы так проникновенно рассказывали, Любовь Павловна… Готовый образ для пьесы, скажу вам!
– Ну вот, – разочарованно произнесла Косицкая. – Что вы за народ, мужчины! Вам о чувствах, а вы только свой деловой интерес блюдёте. А я всё ту женщину представляла, себя на её месте. Смогла бы вот так полюбить, чтобы… в пропасть?
– Да! Да! Вы правы! Вот это любовь! – Островский с силой прижал к себе Косицкую. Та не стала уклоняться от поцелуя.
– Уф! – выдохнул Островский. – Однако вы ароматная женщина! – и тут же вернулся к прежнему. – Но пьесу я непременно напишу! Для вас! Вы будете в ней играть главную роль, клянусь! Я сделаю из вас великую актрису!
– Ах, оставьте! – смутилась Косицкая.
– Я даже представляю финальную сцену, ваш монолог…
– Островского, как это не раз с ним бывало, заносило всё больше и больше. – И как вы замечательно сказали: отчего люди не летают! Прямо гоголевская фразочка! Он любил такие обороты!
Вспомнив покойного, Островский притих и перекрестился. И Косицкая, которая слушала его с закрытыми глазами и представляла себя на сцене: как она стоит на краю обрыва с распростёртыми руками, готовая взлететь, и зал замер в ожидании… – также очнулась, открыла глаза. Оба почувствовали неловкость от своих фантазий. Но это было лишь секундное замешательство. Островский первый пришёл в себя и вновь обнял молодую женщину.
– Ах, Александр Николаевич! Потише! Поспокойнее! – останавливала Косицкая ласки Островского. – И куда мы едем? Я хотела просто вас подвезти!
– У меня здесь… неподалёку… приятель живёт… едемте туда… мне откроют… – шептал Островский, – ни о чём не беспокойтесь!
– Александр Николаевич! Мы оба безумны! – слабо сопротивлялась Косицкая. – Ну хорошо! Пусть будет по-вашему! – наконец и вовсе уступила она. – Побудем на миг вольными птицами! Едемте!
– Нет, летим! Летим! – воскликнул Островский, радуясь жизни и счастливым минутам.
За Каменным мостом процессия остановилась. Студенты возложили гроб на повозку и принялись растирать от мороза щёки, притоптывать ногами. Февральское солнце набирало высоту, разгорался день над Москвою.
Подъехали Грановский с Боткиным.
– Отдыхаем? – спросил профессор студентов и обратился к своему спутнику: – Ты, Василий Петрович, распорядился бы чаю подать молодым людям!
Боткин послал в ближайший трактир.
И вскоре студенты, обжигаясь, пили горячий чай и со свойственной молодости забывчивостью смеялись и шутили и дерзко поглядывали на гроб с мёртвым телом, в то время как их юные тела наливались приятною живительною силой.
Народ потихоньку подтягивался. Люди останавливались, переговаривались, ожидая продолжения шествия, а кто-то не выдерживал, шел вперёд.
Гоголь обиделся оттого, что интерес к нему утрачен, и, воспользовавшись паузой, воспарил над Москвой.
– Отчего люди не летают? – проворчал он, поднимаясь всё выше и выше. – Да оттого, что это удел душ! Если не летать после смерти, то и сама смерть тогда теряет смысл!
Гоголь расправил чёрный сюртук, вытянулся и прикрыл собою половину Москвы.
«Ах, оказывается, какая это прелесть – свободно парить! – увлёкся он полётом. – Ах, какая прелесть – разглядывать город сверху!»
Сюртук Гоголя зацепился за колокольню Ивана Великого. Ветер раздул фалды и затемнил ими солнце. Тень пала на Замоскворечье.
Чаадаев заметил перемены на небе, остановился, поднял голову. Он так пристально разглядывал Ивана Великого, что Гоголю почудилось, что Чаадаев видит его. Гоголь даже махнул философу рукою сверху. И показалось ему, что и Чаадаев кивнул в ответ и вновь погрузился в свои невесёлые думы.
А Гоголю, наоборот, стало необычайно весело!
Вон промчались сани с Островским и Косицкой. Перед Гоголем мелькнули их радостные лица. А вон студенты пьют чай возле его гроба.
Разрумянившиеся от мороза, о чём-то говорят, смеются!
Гоголь окинул взглядом Москву, дивясь всё более и более.
Ах, какие маленькие домишки и удивительно ровные улицы! Это там, внизу, ухаб на ухабе, а отсюда, сверху, – ровные, как по линеечке! А московские церквушки! Какое их множество! И какие они аккуратненькие! А люди! Люди! Как чёрные букашки! Забавно! А поди мнят из себя – венец природы! А из космоса, даже такого ещё недалёкого, всего-навсего крохотные точки!
Гоголя умиляли московские виды, он с любопытством разглядывал город. А ветер теребил его одежду, словно приглашая за собой. Гоголь отцепил сюртук от колокольни.
– Лечу! – крикнул он ветру.
И в неповторимых виражах, поворотах, то поднимаясь, то опускаясь, закружился над Москвою.
– Хорошо-то как! Красотища-то какая! – упивался он полётом. – Как жаль, что люди не летают!
Вдруг внимание Гоголя привлекла взлетающая с земли тень: прозрачная, словно дым, с большой головой и маленьким туловищем, похожая на православную икону.
– Ты кто? – спросил Гоголь.
– Душа новопреставленной рабы Божьей Екатерины! – ответила та и стремительно взмыла вверх.
– Постой! – попытался задержать её Гоголь.
– Не могу! Сороковой день пошёл… возношусь я! – только и успела крикнуть душа Екатерины, как скрылась в облаках.
Гоголь было расстроился, но пригляделся и обнаружил, что далеко не одинок. На крыше одного из домов заметил он похожий дымок. Гоголь пронёсся над ним, сделал круг, затем ещё один.
– Ну, чево порхаешь, туды-растуды! Помер и веселишься! А я вон горюю!
Гоголь приблизился к крыше.
– Я говорю, не мешай скорбеть! – отшила его чужая душа и вновь погрузилась в созерцание, стелясь еле видимым дымком по кровле.
– Подумаешь! – обиделся Гоголь.
– Да вы не серчайте на него, господин Гоголь! – вдруг раздался рядом детский голосок.
Гоголь огляделся и увидел, как к сюртуку его прицепилась маленькая, похожая на мыльный шарик, душенька.