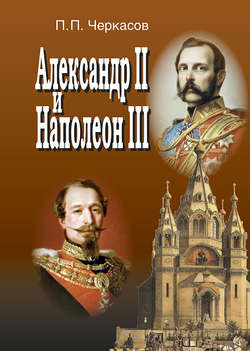Читать книгу Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870). - Петр Черкасов - Страница 4
Глава 1
Самодержавный либерал и император-социалист
Наполеон III
ОглавлениеКогда в ночь с 20 на 21 апреля 1808 г. в роскошном парижском особняке на улице Серрюти (ныне рю Лаффит) на свет появился Шарль-Луи-Наполеон (с самого начала в семье его станут называть просто Луи или Луи-Наполеон), никто, включая родителей новорожденного, не мог предположить, что именно ему суждено стать преемником великого императора[12].
Отцом основателя Второй империи был Людовик, младший брат Наполеона, сопровождавший великого полководца в Итальянском и Египетском походах, но совершенно равнодушный к воинской славе, как и к политике. В январе 1802 г. Наполеон женил брата, не посчитавшись с его желанием, а точнее – с нежеланием, на своей падчерице, Гортензии Богарне, дочери Жозефины от первого брака. Таким образом, новорожденный Луи-Наполеон доводился племянником Наполеону и внуком – императрице Жозефине. Правда, уже через год после рождения малыша его бабушка, оставленная мужем ради его второго брака с австрийской эрцгерцогиней Марией-Луизой, перестанет быть царствующей императрицей. Тем не менее, Наполеон изъявил желание быть крестным отцом своего племянника. Крестины состоялись в воскресный день 4 ноября 1810 г. во дворце Фонтенбло, причем в отсутствие отца ребенка, что стало поводом для новой волны слухов об интимных отношениях Наполеона со своей падчерицей, к чьим детям он относился с подчеркнутым вниманием. По слухам, впрочем, совершенно необоснованным, именно император был отцом всех трех сыновей Гортензии. Особо он отличал старшего из своих племянников – Наполеона-Шарля, родившегося в 1802 г. Не имея от Жозефины детей, Наполеон намеревался даже сделать его своим наследником и пожелал усыновить малыша, но натолкнулся на сопротивление законного отца мальчика, уязвленного слухами об отношениях старшего брата и Гортензии. Отказ Людовика уступить желанию Наполеона раздосадовал последнего, осложнив и без того непростые отношения между двумя братьями. Между тем в 1807 г., не достигнув и пяти лет, Наполеон-Шарль умирает, и потенциальным наследником все еще бездетного Наполеона становится второй сын Людовика и Гортензии, Наполеон-Людовик, родившийся в 1804 г., одновременно с учреждением Империи. Их третий сын, годовалый Луи-Наполеон, – следующий претендент на престол Бонапартов.
Исключительному положению детей Гортензии при дворе императора французов пришел конец в марте 1811 г., когда Мария-Луиза, вторая жена Наполеона, подарила мужу долгожданного наследника. Именно король Римский считался отныне преемником Наполеона. Гортензии пришлось удовольствоваться тем, что она стала крестной матерью царственного младенца.
Между тем брак Людовика Бонапарта и Гортензии Богарне, не задавшийся с самого начала, фактически распался. Бывший голландский король предпочел удалиться в германские земли, подальше от подавлявшего его влияния старшего брата. Гортензия, покинув Голландию, обосновалась в Париже, где вскоре обрела женское счастье в обществе светского повесы, 25-летнего кавалерийского офицера графа Шарля де Флао де Ла Биллардери, приемного сына Талейрана. От этой связи 20 октября 1811 г. у нее родится мальчик, которому дадут имя Шарль-Огюст-Луи-Жозеф. В скором времени он будет усыновлен бездетным графом де Морни. Впоследствии младший Морни, как сводный брат Наполеона III, станет одним из создателей и столпов Второй империи, министром, герцогом и председателем Законодательного корпуса.
Надо признать, что увлеченная красавцем Флао Гортензия никогда не забывала о двух своих «законных» сыновьях. Она была образцовая мать и не жалела сил для того, чтобы дать им надлежащее воспитание. Страстная поклонница Наполеона, Гортензия и детям внушала чувства романтического преклонения перед их великим дядей. Наиболее сильное впечатление материнские наставления производили на младшего, Луи-Наполеона, буквально боготворившего императора.
Первые детские годы Луи-Наполеона были поистине безоблачными. Мальчик проводил время между императорской резиденцией Тюильри, где он жил с матерью и старшим братом, загородным поместьем Маль-мезон, куда его часто возили к бабушке, опальной императрице Жозефине, и курортом Экс-ле-Бен, где Гортензия любила отдыхать и проходить лечение на водах. Именно там она встретила графа де Флао.
Безмятежная жизнь закончилась 31 марта 1814 г. В этот день шестилетний Луи-Наполеон из окна Тюильри видит, как войска антифранцузской коалиции входят в Париж. Позднее он узнает, что русский император Александр I имел благородное намерение обеспечить интересы императрицы Жозефины, ее дочери и внуков. 16 апреля 1814 г. он навестил ее в Мальмезоне. Они довольно долго беседовали о чем-то наедине. Но 29 мая того же года Жозефина, простудившись, внезапно умерла, и намерения русского царя (если они у него действительно были?) остались нереализованными.
С возвращением в столицу Бурбонов и установлением режима Реставрации положение многочисленных представителей клана Бонапартов, окруженных откровенной враждебностью новых властей, становилось угрожающим. Гортензия вознамерилась любой ценой обеспечить безопасность и материальную будущность своих детей. Она ясно видела, что из всех вождей антинаполеоновской коалиции может рассчитывать лишь на благоволившего к ее матери Александра I. Ее надежды на царя оправдались. При его активном содействии Гортензия Богарне-Бонапарт получает от Людовика XVIII титул герцогини де Сен-Лё, пенсию и апанаж (удел) в размере 400 тыс. франков, предназначенный ее сыновьям.
Неожиданное возвращение Наполеона с о-ва Эльба и последовавшие за этим Сто дней, завершившиеся его разгромом при Ватерлоо и окончательным отречением, в корне изменили ситуацию. Во Франции развернулся Белый террор в отношении бонапартистов и активных участников революции. 1 января 1816 г. был принят закон об изгнании всех членов семейства Бонапарт из Франции. Гортензия покинула Париж еще в июле 1815 г., успев заблаговременно распродать свое имущество. Одним из покупателей ее коллекции старинной живописи на очень выгодных для Гортензии условиях стал все тот же русский царь.
В это время ее настиг второй удар. Людовик Бонапарт, давно добивавшийся передачи ему на воспитание обоих сыновей, сумел «отсудить» у жены старшего, Наполеона-Людовика, которого в октябре 1815 г. Гортензия вынуждена была отправить к отцу, в Богемию. Младший, Луи-Наполеон, остался с матерью, которая в 1817 г. на вырученные от распродажи имущества средства и доставшееся после смерти матери наследство приобрела небольшой, но красивый замок Арененберг на севере Швейцарии, на границе с Баварией. Свой замок Гортензия превратила в своеобразный музей, воссоздав в нем обстановку эпохи Империи. Здесь изгнанников посещали родственники, друзья и заезжие знаменитости, среди которых – Александр Дюма-отец, Жорж Саид, Шатобриан и др. В замке Арененберг Луи-Наполеону доведется провести долгие семнадцать лет.
В июне 1819 г. Гортензия подберет ему воспитателя – некоего Филиппа Леба, сына бывшего члена Конвента, близкого друга Робеспьера. Сам Леба в молодости был моряком, затем офицером наполеоновской армии, отличившимся в ряде кампаний. С падением империи он стал школьным учителем. Ему было что рассказать своему воспитаннику о революции и ее героях, о войнах времен Республики и Империи. В сознании впечатлительного подростка рассказы Леба соединялись с тем, что он постоянно слышал от матери и ее гостей об исторических деяниях его великого дяди. В результате в нем сформировалось твердое убеждение в существовании некой сакральной связи между народом Франции, Революцией и вышедшим из нее Наполеоном Бонапартом. Убежденность в народном характере режима, установленного Наполеоном, племянник императора французов пронесет через всю свою жизнь.
Формирование умственного кругозора Луи-Наполеона, конечно же, не ограничивалось теми уроками, которые он получал в замке Арененберг. Гортензия отдала своего сына в Аугсбургский коллеж, где он получил хорошее общее образование и свободное знание трех языков – немецкого, итальянского и английского. В 1827 г. девятнадцатилетний Луи-Наполеон, под влиянием другого своего наставника, бывшего майора императорской гвардии Паркена, записывается в Военную инженерно-артиллерийскую школу, находившуюся в городке Тури, недалеко от Берна. Когда год спустя, начнется война между Россией и Турцией, Луи-Наполеон изъявит желание отправиться на помощь туркам, но это намерение не будет тогда реализовано. По окончании учебы он поступает на службу в швейцарскую армию, где в 1834 г. получит чин капитана артиллерии.
Падение режима Реставрации в результате Июльской революции 1830 г. возродило у Луи-Наполеона надежду на возможность возвращения во Францию, но закон, принятый новыми властями 2 сентября того же года, подтвердил прежний запрет для Бонапартов появляться на французской территории. Не имея возможности вернуться на родину, жаждавший деятельности двадцатидвухлетний Луи-Наполеон принял участие в заговоре моденского революционера Чиро Менотти, поставившего целью освободить Рим от светской власти папы. К этому заговору Луи-Наполеон сумел приобщить и своего старшего брата, Наполеона-Людовика, проживавшего с отцом во Флоренции. Вступив в ряды карбонариев, сражавшихся против австрийских войск, оба юных Бонапарта были одержимы фантастической идеей – выкрасть из Вены своего кузена, герцога Рейхштадтского и провозгласить его королем Италии (при рождении сына Наполеон, как известно, даровал ему титул короля Римского). До достижения им совершеннолетия регентство должен был осуществлять Наполеон-Людовик.
Однако всем этим планам не суждено было осуществиться. Затеянный Менотти в начале зимы 1830 г. поход на Рим, в котором приняли участие оба племянника Наполеона, к концу февраля 1831 г. потерпел неудачу, а сам Менотти был схвачен и расстрелян. Вскоре после этого, 17 марта от кори, которой он заразился в походе, умирает Наполеон-Людовик. Его младший брат, бежавший с английским паспортом во Францию, в начале мая 1831 г. был выслан оттуда и вынужден уехать в Англию. В августе того же года он вернулся в Швейцарию и возобновил необременительную службу в швейцарской армии. Все свободное время принц проводил в материнском замке Арененберг. Здесь Луи-Наполеон впервые приобщается к литературному творчеству, написав «Учебник артиллерии», а вслед за этим – «Политические и военные размышления о Швейцарии». Здесь же он получает известие о поразившей всех смерти в Шенбрунне 27 июля 1832 г. юного герцога Рейхштадтского, которого бонапартисты называли Наполеоном II. Быстро прогрессировавший туберкулез унес его в могилу в возрасте двадцати одного года.
Луи-Наполеон в полной мере сознает свое новое положение вождя бонапартистов и в том же 1832 году публикует программную брошюру под названием «Политические мечтания». Высказанные в ней идеи и притязания спустя семь лет найдут развитие в другом его сочинении – «Наполеоновские идеи». В этих двух работах Луи-Наполеон доказывает, что лучшая форма государственного устройства – это народная монархия, основанная на республиканских принципах, включающих не только разделение властей, но и всеобщее избирательное право. «Народ правомочен избирать и принимать решения, законодательный корпус – обсуждать законы, а император – осуществлять исполнительную власть», – заявляет Луи-Наполеон[13]. Автор убежден, что наполеоновская империя в полной мере соответствовала этому идеалу, который был утрачен после 1815 г. и который Франция обязана обрести вновь. Достижению этой заветной цели он и посвятит свою жизнь, рассчитывая, прежде всего, на помощь своих многочисленных сторонников.
Бонапартисты, принимавшие активное участие в Июльской революции, свергнувшей режим Реставрации, чувствовали себя обойденными при дележе пирога власти, узурпированной, как они считали, Луи-Филиппом и его партией (орлеанистами). Свои надежды на захват власти они связывали отныне исключительно с Луи-Наполеоном, который понимал, что обязан оправдать эти надежды. Поскольку в реалиях середины 30-х гг. бонапартисты не могли рассчитывать на законный, т. е. через парламентские выборы, приход к власти, они, по примеру итальянских карбонариев, взяли курс на подготовку восстания. У Луи-Наполеона уже имелся некоторый, правда, неудачный, опыт участия в подобного рода заговорах.
По совету своих сторонников, он тайно прибывает в столицу Эльзаса г. Страсбург, где полковник Бодрей, командир размещенного там артиллерийского полка, изъявил готовность поддержать восстание. 30 октября 1836 г. Луи-Наполеон во главе небольшого отряда пытается захватить казармы артиллерийского полка, но еще на подступах к ним наталкивается на энергичный отпор пехотных подразделений, которым за два часа удалось рассеять повстанцев. В большинстве своем они были захвачены в плен, включая самого предводителя.
Доставленный под усиленной охраной в Париж, Луи-Наполеон ожидал сурового приговора, но Луи-Филипп, наделенный не только осмотрительным умом, но и добросердечием, не отдал под суд племянника национального героя Франции, а ограничился его высылкой в Северную Америку. Что касается сообщников принца Бонапарта, то всех их, по письменной просьбе Луи-Наполеона, амнистировали и выпустили на свободу.
Пребывание молодого Бонапарта в США, где он подрабатывал преподаванием французского языка, было не долгим. В середине лета 1837 г. он возвращается в Швейцарию и успевает застать в живых свою, тяжелобольную мать. 5 октября 1837 г. Гортензия умирает, а ее сын вскоре уезжает в Англию, где вместе со своими ближайшими сподвижниками вынашивает планы нового заговора против Луи-Филиппа. Когда принц узнает, что в Париж с о-ва ев. Елены должны быть возвращены для перезахоронения в Доме Инвалидов останки Наполеона I, он решает, что настает самый благоприятный момент для осуществления его замыслов. В опубликованной им в июне 1840 г. в Лондоне очередной брошюре под названием «Наполеоновские идеи», он высказывает мысль о том, что во Францию должны возвратиться не только останки Наполеона, но и его идеи о соединении порядка и свободы. И эти идеи принесет во Францию он, Луи-Наполеон Бонапарт.
Ранним утром 6 августа 1840 г. отряд из 60 человек высаживается с английского парохода в районе городка Булонь-сюр-Мер (департамент Па-де-Кале), откуда, как предполагалось, при поддержке местного гарнизона, должен был начаться победный марш на Париж. Но в Булони отряд не только не получает обещанной помощи, но, напротив, встречает вооруженный отпор. Итог короткой стычки – двое убитых и около пятидесяти пленных, среди которых и Луи-Наполеон.
На этот раз Луи-Филипп уже не был столь великодушен. По приговору суда принц Бонапарт был осужден на пожизненное заключение в крепости Ам. Король, правда, распорядился, чтобы именитому узнику обеспечили сносные условия заключения. Так, ему было позволено выписывать себе в тюрьму любые, интересующие его книги. Это дало возможность Луи-Наполеону с пользой провести время, занимаясь литературным трудом. Среди написанных им в тюрьме книг – «Угасание пауперизма», где чувствуется сильное влияние идей Луи Блана. Публикация этой книги привлечет к автору симпатии социалистов. Находясь в заключении, Луи-Наполеон пользовался определенной свободой передвижения по территории крепости, что помогло ему в мае 1846 г. организовать удачный побег и через Бельгию благополучно перебраться в Англию. К подготовке бегства его подтолкнули известия о резком ухудшении здоровья его отца, с которым он хотел попрощаться. Луи-Наполеон успел застать его в живых, побывав у него в Тоскане. Бывший король Голландии умер 25 сентября 1846 г., оставив сыну немалое наследство – крупную недвижимость в Италии и 1 млн. 200 тыс. золотых франков.
В Англии, где Бонапарт пытался восстановить подорванное в тюрьме здоровье, он познакомится с некой мисс Харриет Ховард, молодой, очаровательной и что не менее важно – весьма состоятельной женщиной, которая украсит его двухлетнее одиночество на берегах Темзы. Их роман продлится несколько лет и окончится лишь с женитьбой Луи-Наполеона в 1853 г. Поговаривали, правда, что и после этого, по крайней мере, до 1855 г., он поддерживал связь с Харриет Ховард. В благодарность за ее самоотверженную преданность, император французов дарует бывшей возлюбленной графский титул и замок, принадлежавший ранее маркизе де Помпадур, фаворитке Людовика XV.
В Лондоне он дождался революции во Франции, свергнувшей в феврале 1848 г. Июльский режим. Революция освободила из тюрем политических заключенных, в т. ч. и сторонников Бонапарта, которые сразу же развернули широкую кампанию в пользу своего вождя, обеспечив ему на майских выборах 1848 г. избрание в Учредительное собрание сразу от четырех департаментов. Уже через два месяца его кандидатура была выдвинута на пост президента республики, и на выборах 10 декабря 1848 г. он получил более 74 % голосов, оставив далеко позади всех других претендентов.
Как объяснить успех человека, которого вообще мало кто знал во Франции, чья жизнь прошла за ее пределами?
Безусловно, на него работала наполеоновская легенда, всегда жившая в сердцах многих французов, и особенно – среди крестьян. Бонапартисты умело использовали эти ностальгические настроения в предвыборной кампании своего вождя. Ко времени проведения выборов сильно скомпрометированным в глазах многих избирателей оказался главный конкурент принца Бонапарта в борьбе за пост президента, генерал Луи-Эжен Кавеньяк, утопивший в крови восстание парижских рабочих (23–26 июня 1848 г.) протестовавших против антисоциальной политики республиканского правительства. Тогда в Париже от рук карателей погибло 5600 человек. Более 11 тыс. были арестованы и 4 тыс. депортированы в отдаленные заморские владения Франции.
Июньский кризис нанес сильнейший удар по молодой, еще не успевшей окрепнуть, Второй республике – удар, от которого она так и не смогла оправиться. Зато принц Бонапарт в полной мере сумел извлечь пользу из этого кризиса, расположив к себе избирателей большинства политических партий, включая республиканцев. В своей предвыборной кампании он обещал покровительство религии и одновременно гарантировал свободу вероисповедания и светского образования, говорил о защите семьи, собственности и выставлял себя защитником интересов рабочего класса. Как кандидат на пост президента, Луи-Наполеон клятвенно обещал гарантировать стране порядок и свободы, а по истечении своего мандата передать власть вновь избранному преемнику. По закону президент мог избираться только на один срок. В действительности принц-президент, как его отныне стали называть, не намеревался выпускать из рук доставшуюся ему власть, стремясь продлить и расширить свои полномочия.
Когда в июле 1851 г. Луи-Наполеону не удалось получить согласие парламента на пересмотр положений конституции 1848 г. о сроках президентского мандата и возможности его продления, он решился на государственный переворот, к которому его давно подталкивало ближайшее окружение. В подготовке переворота, приуроченного к годовщине победоносной для Наполеона Аустерлицкой битвы, руководящее участие принял Огюст де Мории, сводный брат президента, назначенный им на пост министра внутренних дел. Надежные люди были поставлены во главе префектуры парижской полиции и столичного гарнизона. Конечно же, заговорщикам потребовались немалые финансовые средства для подготовки переворота. Денег, доставшихся Луи-Наполеону после смерти отца, явно не хватало. В этот критический момент в Париже появляется мисс Ховард, поддерживавшая с возлюбленным постоянную переписку, из которой она и узнала о его материальных затруднениях. Она привезла с собой значительную сумму, вырученную от продажи своего имущества в Англии и даже драгоценностей, пожертвовав всем ради любимого человека. Деньги мисс Ховард позволили Луи-Наполеону завершить подготовку заговора.
В ночь на 2 декабря 1851 г. были проведены аресты лидеров оппозиции, а утром парижане узнали три новости – о роспуске парламента и Государственного совета, введении всеобщего избирательного права и установлении временного режима военного положения. Попытки организовать сопротивление нарушившему присягу президенту были жестоко подавлены. Общее число арестованных по всей стране достигло 27 тысяч человек, возродив в памяти французов воспоминания о Белом терроре времен Реставрации.
Луи-Наполеон поспешил закрепить успех, прибегнув к народному плебисциту, который отныне станет излюбленным инструментом бонапартистского режима, претендовавшего на выражение общенациональных интересов и чаяний. В обстановке полицейских преследований, лишавших оппозицию возможности выступать легально, плебисцит, состоявшийся 21–22 декабря 1851 г., принес Бонапарту одобрение осуществленного им переворота 76 % избирателей, значительная часть которых прежде голосовала за левые партии. Таким образом, он получил общенациональный мандат.
А уже 14 января 1852 г. была обнародована новая, в сущности монархическая, конституция, наделявшая президента, избираемого на десятилетний срок, едва ли не безграничными полномочиями. Вслед за этим был принят ряд декретов, регламентировавших деятельность различных ветвей власти, печати, а также отношения между предпринимателями и наемными рабочими. Последние лишились своих прежних, профессиональных объединений, вместо которых повсеместно были созданы т. н. общества взаимопомощи под совместным патронажем мэров и священнослужителей.
Принц-президент не думал останавливаться на достигнутом. Он взял курс на восстановление наследственной монархии Бонапартов. С целью выяснить настроения масс осенью 1852 г. он отправился в пропагандистское турне по департаментам, где стараниями его приверженцев устраивались многочисленные демонстрации в пользу восстановления империи. Выступая 9 октября в г. Бордо, Луи-Наполеон произнес слова, явно адресованные европейским державам, опасавшимся возрождения наполеоновской империи. «Некоторые говорят, что Империя породит войну. Нет, Империя – это мир!», – с пафосом воскликнул он[14].
Убедившись, что самая многочисленная часть избирателей – крестьяне – с восторгом относятся к идее восстановления бонапартистской монархии, Луи-Наполеон по возвращении в Париж дал команду безотлагательно принять необходимые юридические меры для превращения президентской республики в империю.
21 ноября 1852 г. французские избиратели были в очередной раз приглашены высказаться – на этот раз по вопросу о государственном устройстве Франции. И опять Луи-Наполеон одержал убедительную победу – 76 % проголосовавших одобрили восстановление Империи.
2 декабря 1852 г. принц-президент Луи-Наполеон был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. Вторая республика прекратила свое существование, превратившись во Вторую империю[15].
Первейшая забота новоиспеченного императора состояла в том, чтобы обеспечить признание провозглашенной им наследственной монархии Бонапартов европейскими дворами. Наиболее подходящим средством для этого Наполеон считал династический брак с какой-либо принцессой из владетельного дома. В свои сорок четыре года он все еще оставался холостяком. Между тем с провозглашением империи вставал вопрос о продолжении династии, т. е. о наследнике. Официальное признание Европы Наполеону удалось получить без особого труда. Последним из европейских государей неохотно сдался Николай I, не желавший поначалу обращаться к «императору французов» в официальной переписке как к другим «природным» государям: «Сир, Брат мой».
Но все попытки французских дипломатов отыскать Наполеону принцессу из правящего дома окончились неудачей. Легитимные монархи не желали выдавать своих дочерей за французского «выскочку». В конечном счете император вынужден был остановить свой выбор на 26-летней испанской аристократке Евгении Монтихо, графине Теба, с которой познакомился четырьмя годами ранее.
Многие тогда посчитали этот выбор Наполеона вынужденным. Только хорошо знавший императора Александр Дюма-сын думал иначе. Он увидел в этом союзе «торжество любви над предубеждениями, красоты – над традицией, чувства – над политикой»[16]. Венчание императорской четы состоялось 30 января 1853 г. в соборе Парижской Богоматери. А накануне, в Тюильри, прошла гражданская церемония бракосочетания.
Воспитанная в строгих правилах христианской морали, истая католичка, императрица Евгения очень скоро разочаровала мужа, оказавшись если и не совсем фригидной женщиной, то достаточно равнодушной к интимной стороне жизни. Она искренне считала своим единственным долгом рождение наследника престола. Этого же она ожидала и от супруга, который, правда, придерживался иного мнения. Он и в браке намеревался оставаться свободным.
Столь разные взгляды на семейную жизнь едва ли не с самого начала осложнили отношения между супругами. Когда Наполеон попытался сохранить связь с мисс Ховард, продолжавшей воспитывать его внебрачных детей, Евгения самым решительным образом воспротивилась этому. Любовникам пришлось расстаться. Однако даже строгий надзор императрицы не мог изменить давно усвоенных привычек Луи-Наполеона, его непреодолимой слабости к прекрасному полу. Наполеон находил любовниц в разных слоях общества, предпочитая хорошеньких и модных актрис. Не пренебрегал он и дамами из высшего общества, включая наиболее привлекательных жен и даже дочерей своих ближайших сподвижников. Среди его любовниц были графиня Марианна Валевская, супруга министра иностранных дел, а впоследствии – председателя Законодательного корпуса, баронесса Валентина Османн, дочь знаменитого префекта департамента Сена, графиня Луиза де Мерси-Аржанто, графиня де Кастильоне, племянница графа Кавура, премьер-министра Пьемонта… Некоторые из них имели даже от императора детей.
Со временем императрица смирится со своей судьбой. Она научится не замечать частых увлечений мужа и не слышать того, о чем говорил «весь Париж». Не добившись верности, которую Евгения считала основой брака, она сумела добиться большего – подчеркнутого уважения со стороны императора, который все более внимательно прислушивался к ее мнению при решении государственных дел. Ее влияние всегда и во всем имело сугубо консервативную направленность, что вызывало беспокойство у тех сподвижников императора, которые придерживались левых взглядов.
Не жаловали императрицу и родственники Луи-Наполеона, справедливо упрекавшие ее в чрезмерном вмешательстве в государственные дела и откровенной расположенности к католицизму и Испании, что далеко не всегда отвечало как интересам Франции, так и правящей династии. Принцесса Матильда, кузина императора, в разговоре с русским послом графом П.Д. Киселевым однажды раскрыла тайну удивлявшей всех уступчивости Наполеона перед настойчивостью императрицы. На вопрос Киселева о том, почему император, «при своем превосходстве ума, позволяет таким образом господствовать над собой», Матильда ответила: «По лености. Он ленив во всем, что относится до домашней жизни; я несколько раз выговаривала ему это, но у него всегда один ответ: лучше отступить, чем продолжать спор о пустяках; притом, поясняет он, – таков уж мой характер; я не могу переиначить его, потому я даю ей говорить, сколько хочет, а сам молчу»[17].
К этому можно добавить, что нередко Наполеон уступал своей супруге не только в семейных делах, но и в политике. Последнее свидетельствовало не о его человеческой слабости, а о вынужденном постоянном лавировании между двумя тенденциями, характерными для бонапартистского режима.
Свой священный долг перед Францией императрица Евгения исполнила 16 марта 1856 г., когда на свет появился долгожданный «Императорский принц» (Prince Imperial). Ему дали имя – Эжен Луи Наполеон. В семье и при дворе он получит ласково-уменьшительное прозвище «принц Лулу».
По случаю этого радостного события император освободил из тюрем 1200 заключенных, в большинстве своем политических. К 1859 г., когда будет объявлена всеобщая амнистия, в тюрьмах и в изгнании останется менее 400 человек, среди них – Виктор Гюго, непримиримый противник Наполеона III и его режима, который он считал незаконным и диктаторским. Знаменитый писатель-демократ отклонит амнистию и предпочтет дальнейшее добровольное изгнание на острове Джерси. Гюго вернется на родину лишь после падения Второй империи в сентябре 1870 г.
Так что же представлял собой бонапартизм у власти, воплощенный во Второй империи?
Это был авторитарный режим, отвергавший парламентскую демократию и утверждавший сильную исполнительную власть, которая опиралась (через плебисциты) на свободное народное волеизъявление. Впервые бонапартистский режим был установлен в 1799 г. Наполеоном Бонапартом. Спустя полвека племянник попытался продолжить эксперимент, начатый его великим предшественником. Бонапартизм у власти представлял собой некий «третий путь» между рухнувшим старым порядком и революционным хаосом. Как в 1799 г., при Наполеоне Бонапарте, так и в 1852 г., при Наполеоне III, бонапартизм подвел символическую черту под революционными потрясениями 1789–1799 и 1848 гг., символизируя собой окончание революции, возвращение к законности и порядку, восстановление национального единства. Это была попытка соединить определенные элементы старого строя и революционных завоеваний (права новых собственников, политическое равенство, всеобщее избирательное право, индивидуальные свободы, социальная ответственность государства и т. д.) Авторитарный режим Второй империи создавал видимость всенародного государства, стоящего над интересами классов и партий. В действительности он опирался на крестьянство, чиновную бюрократию, армию, полицию и католическое духовенство.
Идеология бонапартизма эклектична, в ней причудливо сочетались постулаты национализма, консерватизма, либерализма и даже социализма (сен-симонизма). В годы Второй империи появился каламбур, ярко выразивший идеологическую мозаичность бонапартистского режима. Авторство этого каламбура молва приписывала самому Наполеону III: «Императрица у нас – легитимистка; принц Наполеон – республиканец; Мории – орлеанист; сам я – социалист; одного лишь Персиньи (один из давних и верных сподвижников Луи-Наполеона. – П.Ч.) можно назвать бонапартистом, но ведь он сумасшедший»[18].
Характернейшая черта бонапартизма – балансирование между интересами различных классов и социальных групп, что до поры обеспечивало режиму определенную устойчивость[19]. Провозглашение империи совпало с экономическим подъемом в стране и улучшением положения крестьянства и рабочих, что также способствовало укреплению позиций режима.
Во внутренней политике Вторая империя сочетала экономический либерализм, популизм и жесткие меры административно-полицейского характера. Так или иначе, но оживленная политическая жизнь во Франции, характеризовавшаяся прежде открытым соперничеством партий, с установлением Второй империи впала в летаргическое состояние. Луи-Наполеон еще в молодые годы пришел к твердому убеждению, что партии выражают не чаяния народа, а корыстные интересы отдельных фракций элиты, навязывающей обществу нужные им решения. К тому же, узкий круг избирателей, допущенных к участию в выборах, по его мнению, ни в коей мере не мог отражать настроения всего общества. Именно поэтому Наполеон III и сделал ставку на плебисцит, восстановив всеобщее избирательное право и консультируясь с нацией по основополагающим вопросам политической жизни.
Оппозиция, потерявшая почву под ногами, т. е. возможность действовать открыто, ушла в подполье. В создавшихся условиях часть оппозиционеров сделала выбор в пользу террора, как средства политической борьбы с режимом. Полиция раскрыла множество заговоров с целью убийства императора, но все же не смогла предотвратить трех попыток покушения на его жизнь – 28 апреля 1855 г., 8 сентября 1855 г. и 14 января 1858 г.[20]
Последнее сопровождалось многочисленными жертвами. 8 человек погибли и 156 получили ранения в результате взрыва трех бомб, брошенных в сторону императорской кареты, направлявшейся в Оперу. Наполеон и Евгения не пострадали. В обстановке возникшей паники, сохраняя абсолютное спокойствие, они проследовали в театр, где публика устроила им овацию. Последствием этого покушения стало принятие в феврале 1858 г. закона об общественной безопасности, ужесточившего преследование тех, кто вызывал подозрение у полиции.
Первый период в истории Второй империи, рожденной в результате государственного переворота, был отмечен подавлением оппозиции и репрессиями в отношении противников режима. Преобладающим влиянием на императора в этот период пользовались консервативно-реакционные круги из его окружения во главе с императрицей Евгенией. Почувствовав себя более уверенно, Наполеон III, начиная с 1859 г. берет курс на постепенную либерализацию режима. Авторитарную империю он намерен превратить в либеральную. В нем опять заговорил узник крепости Ам, интересовавшийся социалистическими теориями. Тогда, в середине 40-х гг., он писал, что «наполеоновская идея – это не война, а социальная, промышленная, торговая и гуманитарная идея»[21].
Наполеон III стал первым из европейских правителей, кто пытался проводить социальную политику, считая ее важным условием национального согласия и процветания государства. Его деятельность в этом направлении не ограничивалась лишь благими намерениями и словами сочувствия неимущим. Она проявилась в принятии совершенно конкретных решений, имеющих целью улучшение положения трудящихся и наиболее обездоленных слоёв населения.
Еще будучи президентом республики, Луи-Наполеон декабре 1851 г. запретил трудовую деятельность в выходные и праздничные (по церковному календарю) дни. Этот закон действовал до 1880 г., когда республиканские власти объявили его «клерикальным», и на этом основании отменили. Однако под давлением протестного рабочего движения Третья республика в 1906 г. вынуждена была вернуться к закону, инициированному Наполеоном. Разумеется, об авторе этого социального закона республиканское правительство предпочло не вспоминать. В феврале 1853 г. Наполеон III подписал декрет об учреждении «Общества материнского милосердия» для попечения об одиноких и неимущих матерях. По всей Франции были организованы 76 отделений этого общества, взявших под свою опеку 16 тыс. матерей. Верховное попечительство над всеми этими обществами возложила на себя императрица Евгения.
Рождение в марте 1856 г. долгожданного наследника император Наполеон отметил не только амнистией, о чем уже говорилось, но и актом крупной благотворительности. 14 июня 1856 г., в день крещения «принца Лулу», он издал распоряжение о создании в Париже приюта для детей-сирот. При этом императорская чета взяла на себя все расходы, как на строительство приюта, так и на содержание трехсот его воспитанников.
8 июня 1853 г. был принят закон о пенсиях для государственных служащих всех уровней, имеющих стаж 30 и более лет. Размер пенсии составлял % от ежемесячного жалования чиновника. В результате 154 тыс. госслужащих получили материальные гарантии на относительно обеспеченную старость. Действенность этого пенсионного закона была доказана длительностью его применения. Он был пересмотрен лишь в 1924 г.
В том же 1853 г. правительственным декретом были учреждены примирительные советы для урегулирования производственных конфликтов, а годом ранее в каждом департаменте были созданы трудовые инспекции. Спустя пятнадцать лет, в августе 1868 г., император инициировал принятие закона о равенстве свидетельских показаний работодателей и наемных работников при рассмотрении трудовых конфликтов в судах. Для тогдашней Европы это было смелым шагом вперед.
Еще в молодости Наполеон всерьез интересовался возможностями для смягчения антагонизма между трудом и капиталом. Придя к власти, он неоднократно доказывал, что интересы трудящихся классов были дня него не менее значимы, чем интересы имущих слоев. В 1854 г. была учреждена система т. н. «кантональной медицины», призванной оказывать бесплатную медицинскую помощь на дому жителям деревень. В 1860 г. услугами «кантональной медицины» воспользовались более 300 тыс. крестьян.
В числе других мер социального характера, принятых по инициативе императора французов, – создание в 1855 г. оздоровительных центров (т. н. «национальные приюты») для рабочих, которые получили производственные травмы или профессиональное заболевание. А в 1862 г. развернулось строительство 172 приютов и лечебниц для инвалидов.
25 мая 1864 г. Наполеон утвердил закон, предоставивший французским рабочим – первым в Европе – право на забастовку. Это право было ограничено только двумя условиями – избегать насильственных действий и уважать право на труд тех, кто не желал бастовать. Три года спустя, в 1867 г., рабочим было предоставлено право создавать профсоюзы по месту работы и объединяться в профсоюзные федерации.
Наполеоном предпринимались попытки организовать систему социального страхования и обеспечить максимально возможную занятость трудоспособного населения, в частности на общественных работах, как средства сокращения безработицы. В результате всех этих усилий в апреле 1870 г. Франция стала единственной европейской страной, обеспечившей полную занятость своему работоспособному населению. За время правления Наполеона III заработная плата наёмных работников возросла на 47 % в номинальном и на 20 % – в реальном исчислениях. Средний доход француза увеличился с 442 фр. в 1850 г. до 602 фр. в 1869 г.[22] Важно отметить, что инфляция за эти годы была чисто символической.
Последовательно, хотя и несколько хаотично проводимая социальная политика, стала важным залогом политической стабильности бонапартистского режима, который почти до самого своего крушения не знал серьезных потрясений, свойственных Июльской монархии (Лионские восстания) и Второй республике (Июньское восстание 1848 г. в Париже)[23]. Не исключено, что именно эта стабильность и вызывала негодование у противников и недоброжелателей Луи-Наполеона, как внутри страны, так и за рубежом. Пытаясь наладить диалог власти с неимущими слоями общества, желая понять их интересы и, по мере возможности, сгладить наиболее вопиющие проявления неравенства, Наполеон III, можно сказать, вторгался в зону традиционного влияния левых – буржуазных республиканцев и социалистов, посягая на их массовую опору. Социальные эксперименты императора французов отвлекали пролетариат от классовой борьбы, и именно это вызывало негодование у тех, кто считал себя вождями рабочего движения. Отсюда и постоянные нападки на Наполеона III со стороны публицистов-социалистов, в том числе и К. Маркса.
Между тем система принятых при Наполеоне мер обеспечила Франции устойчивое экономическое развитие, превратив ее в ведущую финансово-промышленную державу на континенте. Мощными двигателями экономического развития стали два крупнейших банка, созданные в годы Второй империи – «Креди фонсье» и «Креди мобилье». Первый кредитовал сельское хозяйство; второй – промышленность и дорожное строительство. В 1863 г. был основан впоследствии всемирно известный депозитный банк «Креди Лионне» («Лионский кредит»). Широкая банковская поддержка и внедрение системы кредитования обеспечили подлинный бум для таких отраслей промышленности, как металлургическая, текстильная и горнодобывающая.
Считая крестьянство одной из важнейших опор своего режима, Наполеон уделял самое пристальное внимание нуждам аграрного сектора и старался через систему финансового стимулирования и внедрение механизации создать наиболее благоприятные условия для его ускоренного развития. Его усилия себя оправдали. Среднегодовые урожаи по стране за период между 1848 и 1869 г. возросли на 50 %.
Франсуа Гизо, одному из столпов Июльской монархии, приписывают фразу, обращенную к французам: «Обогащайтесь! Обогащайтесь своим трудом и бережливостью»[24]. Труд и экономия были объявлены залогом благополучия, как отдельного человека, так и нации в целом. Наполеон III отчасти разделял эту мысль, но в новых реалиях считал ее недостаточной для достижения настоящего успеха, тем более в общенациональном масштабе. Он предложил французам другую формулу: «Работайте и вкладывайте свои накопления!»[25]. Инвестиции, инвестиции и инвестиции – вот что сделает Францию действительно процветающим государством. Таково было искреннее убеждение императора, считавшего, что государство должно действовать в одном направлении с гражданами.
При нем во Франции широкое развитие приобрели кредитные операции, была создана наиболее современная по тем временам банковская система. Парижская биржа, объем операций на которой возрос с 11 млрд. фр. в 1851 г. до 35 млрд, в 1870 г., становится крупнейшим финансовым центром на континенте. По инициативе императора началось введение в обращение нового платежного средства – чеков, получивших вскоре мировое признание.
За годы правления Наполеона III в стране была построена разветвленная сеть железных дорог, общая протяженность которых возросла с 3,8 тыс. км в 1852 г. до 20 тыс. к 1870 г. [26]
В целом по уровню экономического развития Франция к концу правления Наполеона III превратилась во вторую (после Англии) мировую державу. За период с 1848 до 1870 г. объем промышленного производства во Франции увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущими тремя десятилетиями. Даже столь непримиримый критик НаполеонаШ как К. Маркс не мог не признать, что при нем «буржуазное общество достигло такой высокой степени развития, о которой оно не могло и мечтать. Промышленность и торговля разрослись в необъятных размерах»[27]. Признанием экономических и научно-технических достижений Франции в годы Второй империи стали Всемирные выставки в Париже 1855 и 1867 гг.
Большое внимание правительство Наполеона III уделяло развитию образования. К 1869 г. системой начального и среднего образования в стране было охвачено до 70 % детей (около 6 млн.). Для сравнения – в 1848 г. школы во Франции посещали 3,8 млн. детей. Значительно выросли зарплаты учителей – с 493 фр. 1846 г. до 1 тыс. фр. в 1870 г. За годы существования Второй империи было открыто 78 новых факультетов на 10 тыс. студентов. Тогда же появились знаменитые впоследствии книжные издательства – Гарнье, Файяр, Ашетт, Ларусс, Плои и др.
Париж, перестроенный бароном Османном по инициативе императора Наполеона, именно в годы Второй империи приобрел заслуженную репутацию «столицы мира». Франция стала родиной первых крупных универсальных магазинов – Бон Марше, Базар де л’Отель де Билль, Прэнтан, Самаритэн и др. Все они возникли при непосредственном участии Наполеона III, утверждавшего все градостроительные проекты в Париже. При нем началось строительство Гранд Опера (ныне – Опера Гарнье), помпезное здание которой остается посмертным символом Второй империи.
Главные цели внешней политики Наполеона III состояли в том, чтобы сначала добиться ликвидации ограничений, наложенных на Францию Парижским миром 1815 г., а затем утвердить ведущее положение Франции на европейском континенте. Амбиции императора распространялись еще дальше – на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и даже в Новый Свет.
Племянник великого завоевателя не мог смириться с границами 1792 г., навязанными Франции победителями в 1814-15 гг. Более того, он хотел, как говорили в XVIII в., «округлить», т. е. расширить французскую территорию – на юге, в итальянском направлении, и к востоку от Рейна. В этом смысле его заявление о том, что «Империя – это мир», сделанное в 1852 г., было не более чем пропагандистской уловкой, призванной успокоить Европу. Намерение Луи-Наполеона изменить соотношение сил в пользу Франции предполагало не только дипломатические, но и военные средства достижения его внешнеполитических целей. Поэтому с момента своего рождения Вторая империя была обречена на войны, которые в конечном итоге приведут ее к гибели, как это случилось с ее предшественницей – Первой империей.
Следуя во всем заветам Наполеона I, продолжатель его дела не одобрял лишь одного – противоборства с Англией. Именно это противоборство, а вовсе не злополучный поход в Россию, по его убеждению, было главной причиной последующей национальной катастрофы. Русская кампания, как считал Наполеон III, была производной от затяжного конфликта с Великобританией, пытавшейся втянуть Россию в орбиту своей антифранцузской политики.
Продолжительное проживание в Англии, где за годы вынужденного изгнания у него появилось множество друзей, близкое знакомство с британской политической культурой сформировало у Луи-Наполеона уважительное отношение к «владычице морей» и «мастерской мира». Он пришел к твердому убеждению, что осуществление его далеко идущих внешнеполитических планов возможно только в тесном союзе с Великобританией, у которой, как он полагал, не было непосредственных территориальных интересов на континенте. Другие европейские державы могли быть более или менее полезны для французских интересов – каждая по-своему и, что не менее важно – в свое время.
Какое место в планах Наполеона III отводилось России?
Ответ на этот вопрос, собственно, и составляет одну из главных тем настоящего исследования. Но об этом речь впереди. Пока же можно напомнить об одном эпизоде, имевшем место в период, когда Луи-Наполеон проживал в Англии после побега из форта Ам.
Обосновавшись в Лондоне, Луи-Наполеон развернул активную работу по подготовке очередного заговора с целью свержения Июльской монархии. Направляя действия своих сторонников внутри Франции, он стремился заручиться поддержкой за рубежом. Учитывая «сердечное согласие», установившееся между Лондоном и Парижем после 1830 г., никаких надежд на содействие своим планам со стороны британского кабинета Бонапарта питать не мог. И он сделал ставку на Россию, зная
0 враждебном отношении императора Николая I к Луи-Филиппу. Об этом, в частности, свидетельствуют документы, недавно выявленные автором в Государственном архиве Российской федерации (ГА РФ). Речь идет о конфиденциальной переписке Луи-Наполеона с шефом российской тайной полиции (Третьим отделением) графом Алексеем Федоровичем Орловым, ближайшим сподвижником Николая I[28]. Эта переписка свидетельствует о высокой степени заинтересованности будущего французского императора в установлении личных контактов с Николаем I с далеко идущими политическими целями.
Все началось с того, что в последних числах апреля 1847 г. Луи-Наполеон посетил российского посланника в Лондоне барона Филиппа Ивановича Бруннова и передал ему письмо, адресованное генерал-адъютанту А.Ф. Орлову. В письме он просит Орлова исхлопотать для него у императора разрешение на приезд в Петербург с частным визитом. Эта просьба мотивировалась Луи-Наполеоном его давним желанием познакомиться с Россией и одновременно засвидетельствовать императору Николаю свою признательность за «великодушное» отношение к его матери, проявленное в 1814 г. Александром I.
Намерение Бонапарта не на шутку встревожило сановный Петербург. Государственный канцлер и одновременно глава русской дипломатии граф К.В. Нессельроде, которому Орлов передал полученное из Лондона письмо, настоятельно советовал императору отклонить представлявшуюся ему бестактной просьбу. Формально Луи-Наполеон считался бежавшим из тюрьмы заключенным. По этой причине, как полагал Нессельроде, русский император не мог себе позволить дать аудиенцию государственному преступнику, пусть даже приговор ему вынесен судом «фальшивой монархии». К тому же, с 1846 г. наметилась некоторая тенденция к нормализации российско-французских отношений, что не могло не быть известно Бонапарту. Уже одно это обстоятельство делало, по меньшей мере, нежелательным для императора Николая приезд в Петербург Луи-Наполеона. Царь согласился с доводами Нессельроде.
Вежливый, но недвусмысленный отказ не обескуражил Луи-Наполеона. Он верил в свою звезду и явно рассчитывал на дальновидность русского императора и его министров. Последующее развитие событий со всей очевидностью обнаружит, что лондонский сиделец переоценил способности Николая I и его окружения смотреть хотя бы на два-три года вперед. Даже после Февральской революции 1848 г., похоронившей Июльскую монархию, в Петербурге не склонны были всерьез принимать этого изгоя. Между тем, и депеши российского посланника во Франции Н.Д. Киселева, и донесения парижского резидента Третьего отделения Я.Н. Толстого свидетельствовали о подъеме бонапартистского движения и росте популярности Луи-Наполеона.
Через месяц после Февральской революции, напугавшей Петербург не меньше, чем Июльская революция 1830 г., Бонапарт, остававшийся пока в Лондоне, но уже готовившийся к возвращению в Париж, предпринимает вторую попытку найти взаимопонимание с Николаем I. При этом он проявляет наивысшую степень доверия к царю, поставив на карту свое политическое будущее.
В конфиденциальном письме на имя графа Орлова от 28 марта 1848 г. Луи-Наполеон говорит, что понимает всю степень угрозы, исходящей от революции во Франции для «спокойствия Европы». Он заверяет Орлова, а через него Николая I, в своих миролюбивых намерениях и в готовности навести во Франции порядок, в котором жизненно заинтересованы все европейские государства. При этом он ссылается на свою растущую популярность во Франции. Но для восстановления порядка ему требуется не только доверие, но и деньги. «Имея в своем распоряжении один миллион франков в год до достижения поставленной цели, автор этих строк берется быстро достичь желаемых результатов в интересах как можно более скорого установления спокойствия в Европе, – пишет Луи-Наполеон. – По серьезности моего демарша пусть судят о серьезности интересов! По моему глубокому доверию к Вам пусть судят об искренности моих чувств!», – добавляет он.
И, действительно, такое безграничное доверие Луи-Наполеона к сохранявшим ледяную сдержанность русским адресатам не может не поражать. Если бы это письмо каким-то образом получило огласку, то репутация и политическое будущее его автора были бы безвозвратно погублены. Он никогда не стал бы ни президентом, ни императором. Более того, ему бы даже не позволили вернуться во Францию. Скорее всего, он провел бы остаток жизни в изгнании, презираемый всеми.
Как объяснить такую степень откровенности Луи Наполеона с Николаем I?
Здесь можно предположить две причины. Во-первых, как видимо, полагал Луи-Наполеон, никто в Европе не опасался возможных последствий Февральской революции больше, чем русский царь, который должен быть заинтересован в локализации и последующей ликвидации революционного взрыва. Во-вторых, готовя свое возвращение во Францию, Луи-Наполеон лихорадочно искал деньги для реализации своих далеко идущих замыслов, не имевших ничего общего с планами «февральских» революционеров-республиканцев. Он искренне надеялся, что осознание нежелательных международных последствий революции во Франции должно подтолкнуть царя на оказание финансовой помощи единственному человеку, способному укротить революционную стихию, как это сделал Наполеон Бонапарт 18 брюмера 1799 г.
Но в Петербурге словно не замечали протянутую руку дружбы. Там, как свидетельствует обнаруженная переписка, по-прежнему не желали всерьез воспринимать Луи-Наполеона как перспективную политическую фигуру, видя в нем лишь сбежавшего из тюрьмы преступника. Недалекое будущее покажет, что не только в либеральном Лондоне, но даже в полуабсолютистских Вене и Берлине найдутся более трезвомыслящие политики, свободные от легитимистских предрассудков.
Так или иначе, но Николай I отказал Луи-Наполеону в финансовой поддержке. Не слишком вежливый отказ последовал и на другую просьбу Бонапарта – принять в Петербурге его доверенное лицо, банкира Аристида Феррера, уполномоченного провести переговоры о возможной покупке для Эрмитажа коллекции картин и предметов антиквариата, оставшихся у Луи-Наполеона после смерти матери общей стоимостью 21 400 английских фунтов стерлингов. В паспорте на въезд в Россию Ферреру было решительно отказано, а в личной беседе с Луи-Наполеоном барон Бруннов заявил, что «музей Эрмитаж весьма богат картинами и… не нуждается в новых приобретениях». Все это происходило в конце августа 1848 г., всего лишь за месяц до триумфального возвращения Луи-Наполеона во Францию.
Интересно, как бы повел себя Николай I, если бы знал, что через три месяца, в декабре 1848 г., Луи-Наполеон станет президентом Французской республики, а затем и императором Франции?.. Впрочем, это вопрос риторический.
Так или иначе, но первоначальные надежды Бонапарта на Россию потерпели неудачу. Но не менее очевиден и политический просчет Николая I в отношении Луи-Наполеона. Этот просчет, допущенный в 1847–1848 гг., был усугублен в последующие годы, предшествовавшие Крымской войне, когда Россия и Франция впервые после 1814 г. скрестили оружие[29].
Новую попытку наладить отношения с Россией Наполеон III предпринял с воцарением Александра II. О том, какие цели он при этом преследовал, пойдет речь в следующей главе.
* * *
Краткое обозрение жизненных путей двух императоров к тому времени, когда, на исходе Крымской войны, государственные интересы поставили в повестку дня вопрос о том, какой характер оба государя желали придать двусторонним отношениям между Россией и Францией, обнаруживает как определенное сходство, так и существенные отличия в их воспитании, характере, привычках и вкусах, в жизненном опыте, наконец, в политических воззрениях и идеалах.
По рождению оба они принадлежали к царствующим династиям, правда, Луи-Наполеону совсем недолго пришлось пользоваться преимуществами своего привилегированного положения. В неполные шесть лет, с падением Первой империи, у него началась другая жизнь, закалившая характер и сформировавшая личность, которая твердо знала, к чему она стремится. Восстановление империи и возвращение Франции значения ведущей европейской державы стало тем «Великим замыслом» (“le Grand dessein”), осуществлению которого будет подчинена вся жизнь Луи-Наполеона.
Суровая жизненная школа, усвоенный им опыт Французской революции, наконец, знакомство с политическими идеями, провозглашавшими социальную справедливость, привели Луи-Наполеона к убеждению в необходимости построения такого общества, в котором извечно существующие классовые и социальные антагонизмы, если и не могут быть окончательно преодолены, то должны быть смягчены. Именно этой цели будет подчинена социальная политика императора французов. В этом отношении он, безусловно, был крупным реформатором, инициировавшим социально-экономическую модернизацию Франции.
Александр II, как известно, тоже был реформатором, но несколько иной направленности. Наследник тысячелетней монархии, он был убежденным поборником самодержавных устоев, считая своим священным долгом их сохранение и укрепление. Перед ним был пример служения России, которому он всегда стремился подражать – его отец, император Николай I.
Школа воспитания, которую он прошел под руководством В.А. Жуковского, сформировала у Александра гуманные, можно сказать, возвышенные представления о выпавшей на его долю миссии, но, в отличие от Луи-Наполеона, к моменту восшествия на престол он не имел никакой программы действий, кроме завещанного умирающим отцом напутствия – «Держи все…». Трудно сказать, стал бы он вообще великим реформатором, каким остался в истории России, если бы не Крымская катастрофа, вскрывшая гнойник накопившихся за десятилетия проблем и поставившая молодого императора перед неотложной необходимостью модернизировать страну.
Вот здесь-то и оказались востребованными плоды просвещения, полученные Александром от Жуковского и подобранных им либерально мыслящих учителей и наставников. Александр оказался подготовленным для того, чтобы принять вызов времени и ответить не него глубоко продуманными реформами, существенно изменившими весь облик России. Правда, в отличие от императора французов российский самодержец не размышлял над социальными вопросами. Все его мысли были направлены на то, чтобы преодолеть опасную отсталость России от ведущих европейских держав, дать толчок ее ускоренному экономическому развитию, модернизировать политическую систему, но при этом сохранить самодержавие, дав ему второе дыхание.
Принципиально отличной была природа власти Александра I и Наполеона III. В первом случае – «Божьей милостью Самодержец всея Руси», унаследовавший престол от августейших предков, во втором – «Император французов», достигший верховной власти в результате государственного переворота и последовавшего всенародного волеизъявления на референдуме. К этому можно добавить, что Вторая империя, как и Первая, вышли из революций: одна – из 1848 года, другая – из 1789-го.
Революционные истоки бонапартистского режима, а в еще большей степени его имперские притязания, в частности, плохо скрываемое намерение исправить «несправедливые» границы, навязанные Франции в 1815 г., не могли не настораживать Александра II, одного из гарантов порядка, установленного Священным союзом в Европе.
Казалось бы, все это исключало саму возможность конструктивного диалога между Александром и Наполеоном, тем более на фоне войны, которая продолжалась и после смерти императора Николая, хотя с падением Севастополя в августе 1855 г. военные действия в Крыму практически прекратились. Тем не менее, именно Крымская война станет поворотным моментом в отношениях между Россией и Францией.
12
Наполеону III посвящена обширная литература. Среди новейших работ можно назвать: Anceau E. Napoléon III. Un Saint-Simon á cheval. P., 2008; Bordenove G. Napoléon III. P., 1998; Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. Guide. P., 2008; Cristophe R. Napoléon III au tribunal de l’histoire. P., 1971; Decker M. de. Napoléon III ou l’empire des sens. P., 2008; Girard L. Napoléon III. P., 1996; Lahlou R. Napoléon III ou l’obstination couronnée. 3-me éd. P., 2007; Milza P. Napoléon III. P., 2004; Sagnes J. Napoléon III. Le parcours d’un Saint-Simonién. P., 2008; Séguin P. Louis Napoléon le Grand. P., 1990; Smith W. Napoléon III. P., 2007.
13
Oeuvres de Napoléon III. T. 1. P., 1869. P. 383.
14
Цит. по: Anceau É. Comprendre le Second Empire. R, 1999. R 29–30.
15
Как известно, Первая империя, основанная Наполеоном I в 1804 г. просуществовала до 1814 г., а окончательно прекратила свое существование после повторного отречения Наполеона 22 июня 1815 г.
16
Цит. по: Cars J. des. Eugénie, la dernière Impératrice. P., 2000. R 165.
17
Цит. по: Булгаков Ф.И. Русский государственный человек // Исторический вестник. 1882. № 3. С. 677.
18
Dictionnaire du Second Empire / Sous la dir. de Jean Tulard. P., 1995. R 894.
19
Первым, кто обратил внимание на эту особенность бонапартизма, был К. Маркс. См. его работу – Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 8. С. 207, 214–215.
20
Attentats et complots contre Napoléon III. R, 1870.
21
Oeuvres de Napoléon III. T. 1. P. 172.
22
Carteret A. Napoléon III. Actes et paroles. P., 2008. P. 36.
23
Относительная стабильность не означала, конечно, исчезновение социальных конфликтов. Рабочие неоднократно выражали недовольство своим положением, организуя забастовки – в марте и июне 1862 г., в феврале 1867 г., в июне и октябре 1869 г., в январе и мае 1870 г. Некоторые из них сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. Однако вооруженных выступлений с кровопролитием отмечено не было.
24
Broglie G. de. Guizot. Р., 1990. P. 334. В действительности никто из биографов Ф. Гизо так и не смог найти документального подтверждения приписываемых ему слов, однако легенда оказалась живучей.
25
Carteret A. Op. cit. Р. 197.
26
Lahlou R. Napoléon III ou l’obstination couronnée. 3-me éd. P., 2007. P. 73–74.
27
Маркс К. и Энгельс Ф. Указ соч. Т. 17. С. 341.
28
См.: «Дело по просьбе Луи Бонапарта о разрешении ему прибыть в Россию. 24 апреля 1847 г. – 19 ноября 1848 г.» // Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 109 (Секретный архив). Оп. 4а. Д. 78. См. также публикацию: Неизвестная переписка Луи-Наполеона Бонапарта с графом А.Ф. Орловым, начальником Третьего отделения (1847–1848 гг.). Публикация, вступительная статья, перевод с франц. и комментарии П. П. Черкасова // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М… 2009. С. 166–189.
29
См. об этом: Кухарский П.Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. Л., 1941; Черкасов П. П. Николай I и Луи Наполеон Бонапарт (1848–1852 гг.) // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 9. М., 2009. С. 124–165.