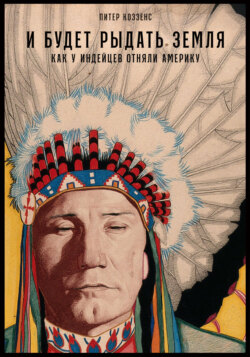Читать книгу И будет рыдать земля. Как у индейцев отняли Америку - Питер Коззенс - Страница 8
Часть первая
Глава 3
Воины и солдаты
ОглавлениеПосле «Войны Красного Облака» ни один армейский офицер, будучи в здравом уме, не стал бы похваляться вслед за капитаном Феттерманом, что рота солдат способна одолеть тысячу индейцев. Из презренных дикарей они превратились в противников, достойных высочайшего уважения. Сравнивая своих плохо обученных солдат с индейскими воинами, офицеры испытывали изумление. Полковник Ричард Додж, тридцать лет изучавший индейцев в свободное от сражений с ними время, пришел к выводу, что «бойцов лучше них нет в целом мире».
Конечно, индейцы стали превосходными воинами не вдруг и вовсе не с приходом белых на Запад. Племена издавна воевали друг с другом за охотничьи угодья и лошадей. Умение сражаться было частью культуры индейцев, и положение мужчины в обществе определялось его воинской доблестью. Хотя каждое племя отличалось собственными обычаями и характером (горячие команчи, например, полагали, что кайова слишком долго раздумывают, когда нужно действовать, а шайенны считали своих союзников арапахо слишком уступчивыми), в манере управления племенем и ведения войны между индейцами Скалистых гор и Великих равнин наблюдалось удивительное сходство. Отцы воспитывали сыновей, настраивая их на великие военные подвиги, и эта подготовка начиналась с детства. В 5–6 лет мальчиков тренировали пробегать длинные дистанции и переплывать реки, а также регулярно подвергали испытанию голодом, жаждой и лишением сна, чтобы закалить тело. Лет в 7–10 мальчик получал лук и стрелы и упражнялся сперва в дальности стрельбы, затем в меткости. К юношескому возрасту он уже не знал себе равных в верховой езде и был, снова цитируя полковника Доджа, не только великолепным бойцом, но и «ловким укротителем лошадей и образцом прирожденного конника»[62].
В 14–15 лет юноша отправлялся в свой первый набег – в роли живого талисмана отряда или мальчика на побегушках. К 18 годам он уже должен был засчитать ку, украсть коня и снять скальп с врага, к 20 годам мог зарекомендовать себя достаточно, чтобы возглавить небольшой отряд в набеге или сражении, а в 25 лет – стать помощником вождя. Если ему будут сопутствовать удача и успех, он совершит множество подвигов, украдет много лошадей, и, возможно, у него будет две палатки, и в каждой его будут ждать жена и дети. (В типи обычно проживало 6–8 человек.) В большинстве племен карьера воина заканчивалась к 35–40 годам – либо когда на смену ему подрастал сын. (Если человек достигал средних лет бездетным, он усыновлял ребенка другого воина, у которого было несколько прошедших инициацию сыновей.) Благодаря такой системе принудительного раннего «ухода в отставку» боевой состав племени оставался молодым и сильным. Уйдя на покой, воин становился наставником молодых, тренировал мальчиков или, если достаточно отличился в битвах и обладал могучей магической защитой, выступал вождем совета или предводителем отряда (как Красное Облако), отвечая за разработку стратегии и руководя большими сражениями. И хотя воины с гордостью заявляли о своем желании погибнуть в бою, долгая жизнь не считалась позором. Старейшины племени делились мудростью и опытом и при необходимости сдерживали молодых воинов. Помощь старейшин ценилась так высоко, что для них не считалось зазорным щадить себя и отсиживаться в безопасном месте, кроме тех случаев, когда враги нападали на сам лагерь[63].
Воинские подвиги оценивались по градуированной шкале, которая незначительно различалась в разных племенах. Самым весомым подвигом считалось ку – прикосновение к противнику, как правило, с помощью длинного разукрашенного прута, называемого жезлом для ку. Если жезла для ку в нужный момент под рукой не оказывалось, годился любой помещавшийся в руку предмет – чем менее смертоносным он был, тем выше оценивалась доблесть. Прикосновение к живому вооруженному врагу без попытки его прикончить ценилось выше, чем по отношению к сраженному противнику. Допустимое число ку на одном трупе у разных племен различалось, но самым весомым признавали первое. Помимо этого, воины считали ку на женщинах, детях, пленниках и угнанных лошадях. Более мелкие подвиги включали добычу трофеев вроде щита или ружья, а также снятие скальпа, служившее сразу нескольким целям. Прежде всего свежий скальп предъявлялся в качестве неоспоримого доказательства расправы над противником. Если стычка обходилась без жертв среди своих, то добычу вражеских скальпов праздновали всем лагерем, устраивая церемонию «пляски скальпов», или «пляски победы». Воины оторачивали скальпами боевые рубахи и штаны-леггины или привязывали к узде своих лошадей перед битвой.
Чаще всего скальпы снимали с мертвых, скальпирование как способ убийства не было в ходу. При отсутствии других серьезных ранений скальпированный, особенно если это был индеец, как правило, оставался в живых. Индейцы носили длинные волосы, поэтому скальп с вражеского воина снимался быстро и просто. Захватив одной рукой пучок волос или косу, победитель делал надрез шириной 5–10 см у основания черепа, обычно ножом для разделки туш. Резкий рывок за волосы – и кусок кожи отрывался от черепа, «хлопнув, словно пугач». С белыми приходилось повозиться, и иногда воин вынужден был снимать скальп со всей головы врага, чтобы после всех затраченных усилий не остаться с крошечным клочком волос. Индейские скальпы котировались выше скальпов белых, которых воины считали более слабыми противниками. Во время Битвы Феттермана, сняв с солдата скальп, индейцы тут же в знак презрения швыряли его на землю.
Увечить мертвое тело врага было принято у многих индейцев Великих равнин, и занимались этим и мужчины, и женщины. Белый Запад видел в этом безусловное подтверждение неисправимого дикарства индейцев – те же, в свою очередь, верили, что, обезобразив труп, защищают себя от преследования духом убитого в загробной жизни.
Подвиги были обязательным условием допуска в воинские общества, к которым стремился быть причисленным каждый молодой индеец. Эти общества отчаянно состязались между собой: в начале ежегодного сезона набегов каждое старалось нанести удар первым. Воинские общества Кистеня и Лисиц у кроу состязались не только на поле боя, но и в тылу, периодически похищая друг у друга жен, словно лошадей. (Как ни странно, никакими катастрофами это, судя по всему, не оборачивалось.) Воинские общества не обязательно сражались единым отрядом, но, если все-таки выходили все сразу, череда крупных потерь или одно сокрушительное поражение уничтожали все общество целиком. Ожидалось, что их предводители в бою должны презирать опасность, а иногда и заигрывать со смертью, поэтому возможностей для «продвижения» воинам хватало[64].
Подвиги были неразрывно связаны с отношениями полов. Боевые заслуги гарантированно покоряли женские сердца и служили для юношей превосходным стимулом геройствовать в схватках. У кроу, например, мужчина мог жениться только по достижении двадцати пяти лет или засчитав ку, а женатый кроу, не имевший ни одного засчитанного ку, лишался важной привилегии «разрисовывать лицо жены». У шайеннов юноше не позволялось даже ухаживать за девушками, пока он не продемонстрирует отвагу в битве или в набеге. Матери с пристрастием расспрашивали претендентов на руку дочери об их боевых заслугах и, если заслуг набиралось маловато, говорили, что за труса девушку не отдадут. Шайеннские женщины сложили особую песню для тех, кто мог дрогнуть в бою. «Если боишься нестись вперед, – пелось в ней, – поверни назад, и Женщины Пустыни пожрут тебя». Иными словами, женщины грозили затравить труса так, что смерть покажется ему меньшим злом и он еще пожалеет, что не погиб. «Идти в бой было нелегко, и мы часто боялись, – признавался шайеннский воин Джон Стоит В Изгороди, – но отступить и попасть под насмешки женщин было гораздо хуже». Однако даже под страхом подвергнуться осмеянию ни один воин не рискнул бы идти на бой без защиты своих духов – это понятие обычно переводят как «магия». От ее силы зависела его отвага, мастерство и сама жизнь.
Обретение магической защиты начиналось в юности с вызова видéния, именуемого также магическим сном. Уединившись в глухом опасном месте, искатель видения выжидал положенный срок – обычно четверо суток – без пищи и воды, призывая покровителя из числа природных объектов, зверей или птиц. Явившийся изъяснялся иносказаниями, которые затем истолковывал духовный наставник – как правило, знахарь за вознаграждение, – или сам искатель, до конца своей жизни размышляя над увиденным. Существо или природный объект, явленные в видении, давали искателю магическое покровительство. Воин старался подражать своему защитнику в бою (быть быстрым, как орел, или хитрым, как лис) и носил на шее мешочек с памяткой о видении. Символы видения он рисовал на своем щите, одежде, лошади и палатке и укреплял его мощь с помощью уникальной священной коллекции предметов, собираемых в большую магическую укладку. Воины, которым не удавалось добиться магической защиты посредством видения, иногда пытались повысить духовную силу через самоистязание. В крайнем случае воин мог купить магическую защиту у знахаря либо попросить поделиться ею друга или члена семьи. Однако магию, приобретенную из вторых рук, считали относительно слабой. К обладателям уже проверенной крепкой магии стекались другие воины в надежде, что она распространится и на них или им еще что-то перепадет от его божественных даров[65].
Ценнейшим имуществом воина считалось ружье, и индейцы не останавливались ни перед чем, чтобы заполучить новейшие многозарядники, среди которых фаворитом был легендарный рычажный винчестер. Однако позволить его себе могли единицы. Большинству приходилось довольствоваться старыми дульнозарядными мушкетами сомнительной эффективности или трофейными однозарядными армейскими ружьями. С большим трудом добывались и боеприпасы. Иногда их недальновидно продавали индейцам солдаты – и осознавали свою оплошность уже в перестрелках, когда получали свои патроны обратно в виде неприятельского огня. Для ремонта оружия индейцам (за редким исключением) не хватало необходимых знаний и инструментов, а отыскать сговорчивого белого оружейника удавалось нечасто.
Таким образом, многим оставалось полагаться лишь на лук и стрелы. Это не значит, что от традиционного индейского оружия не было прока: армейские офицеры изумлялись ударной силе стрелы, даже пущенной относительным новичком. Один молодой лейтенант научился у своих индейских разведчиков стрелять из лука с такой силой, что стрела насквозь пронзала бизона и кончик выглядывал с другого бока. «Чтобы было понятнее, с какой силой бьет стрела, скажу вам, что самый мощный кольт бизона насквозь не пробивает», – пояснял он. В руках индейца, которого с малолетства учили обращаться с луком, это оружие показывало результаты еще более ошеломляющие. «Я видел стрелу, пущенную на 500 ярдов[66], – добавил лейтенант. – А еще как-то раз я нашел пригвожденный к дереву стрелой мужской череп. Стрела не просто пробила кости насквозь, но вошла в ствол на такую глубину, что держалась в нем под тяжестью висящего на ней черепа». Полковник Додж, один из лучших знатоков индейского вооружения и тактики, поражался скорострельности луков. По свидетельству полковника, воин «держал в левой руке сразу пять – десять стрел и выпускал их так быстро, что последняя срывалась с тетивы, когда первая еще не коснулась земли». В колчане обычно носили по двадцать стрел, а когда они заканчивались, подбирали новые прямо на поле боя. Дополняли наступательный арсенал воина боевая дубинка и длинное, ярко раскрашенное копье.
Для обороны воины использовали небольшие щиты из бизоньей шкуры, по словам полковника Доджа, «непробиваемые, словно железо, почти безупречная защита от самого лучшего ружья». Веря, что надежнее всего оберегает щит, наделенный магической силой, воин наносил на него священные символы, подвешивал к нему перья и вражеские скальпы и молился над ним, доводя заключенную в нем магию до совершенства. Доказавший свою надежность щит хранили как зеницу ока и передавали по наследству от отца к сыну[67].
Перед боем воины старались по возможности обрести дополнительную силу в молитвенном ритуале. Некоторые выходили сражаться в лучшем воинском облачении – как объяснял один шайенн, не потому, что надеялись с его помощью повысить свое мастерство, а чтобы выглядеть как подобает, если случится отправиться к Великому Духу. Однако, если погода позволяла, воины обычно сражались в одной набедренной повязке, чтобы не стеснять движений и быть ловчее и стремительнее, а кроме того, по поверьям, так оптимизировалась сила магии. Для защиты раскрашивали себя и своих коней священными красками или наносили символы, извещающие весь мир об их победах. Боевая раскраска повергала в страх не только белых солдат, но и вражеских воинов. Разукрасившись должным образом и добыв в личном священном обряде благословение на бой, воин считал, что никакое зло его не коснется. И напротив, воин, застигнутый врасплох и вынужденный вступать в схватку, не проведя необходимых ритуалов, чувствовал себя настолько уязвимым, что зачастую при первой же возможности дезертировал. Магия – оружие обоюдоострое[68].
Между тем, даже если в схватке лицом к лицу индейцам не было равных, их тактика, разработанная за десятилетия межплеменной вражды, плохо подходила для открытого сражения с прошедшим боевую и строевую подготовку подразделением регулярной армии. Из солдатских рядов индейская орда часто представлялась непобедимой. Окружив толпой своего предводителя, индейцы образовывали неровный, но внушительный строй, который устремлялся в беспорядочную на вид атаку и по сигналу рассыпался, как ворох развеянных ветром листьев, чтобы затем, перегруппировавшись, наброситься с флангов, – тогда, по словам полковника Доджа, «долина превращалась в водоворот из кружащих в стремительном галопе всадников, которые то пригибались к шее лошади, то свешивались набок, уклоняясь от пуль, а то накатывали на врага живой лавиной грохочущего и вопящего ужаса».
Однако лавина эта почти всегда останавливалась на подступах. Индейцы не любили развивать атаку, если не были уверены в победе, и предпочитали расставлять ловушки или заманивать неприятеля в засаду, но и эта тактика срабатывала нечасто (Битва Феттермана оказалась редким исключением). Мало того что уловка обычно была очевидна для любого противника, кроме совсем уж неопытных, молодые воины к тому же часто портили элемент внезапности, выскакивая из засады раньше срока, чтобы засчитать свои первые ку.
Представление о победе на поле боя у индейцев было своеобразным. Если многим удавалось получить боевые заслуги, тот исход, который регулярные войска сочли бы тактическим поражением, индейцы расценивали как триумф. Если же в бою погибал предводитель или великий воин, сражение, независимо от исхода, считали катастрофой, особенно если погибший обладал сильной магией. Иногда гибели одного такого воина было достаточно, чтобы остановить атаку индейцев или положить конец битве. Кроме того, индейцы боялись артиллерии – несколько пушечных выстрелов неизменно обращали их в бегство.
При всем почтении к индейским военачальникам, влиянием они обладали довольно ограниченным. Они в общих чертах договаривались между собой, чего надеются добиться в бою. Затем каждый младший вождь собирал вокруг себя соратников и излагал им намеченный план, от которого все и отталкивались. Когда начиналась стрельба, военачальники подавали воинам сигналы несколькими способами, иногда указывая направление воздетым в руке флагом, копьем, ружьем или накидкой, иногда солнечными бликами с помощью зеркал, установленных на возвышении, иногда пронзительной трелью боевого свистка из орлиной кости. Воины, как правило, принимали эти указания в расчет, но все равно действовали по собственному усмотрению почти во всем, кроме выноса с поля боя погибших и раненых (поэтому подсчет военными потерь со стороны индейцев оказывался в лучшем случае приблизительным). Воины старательно и долго тренировались подхватывать павших с земли на полном скаку. «Из-за этой тщательно отработанной практики, – сообщал полковник Додж, – почти в каждом официальном рапорте о столкновении с индейцами писали буквально следующее: “Потери со стороны индейцев неизвестны; видели, как несколько человек свалились с коня”»[69].
В регулярной армии, судя по всему, не подозревали, что некоторые воины идут в бой с твердым намерением погибнуть: кто-то – чтобы стяжать славу любой ценой, а кто-то – чтобы избавиться от мук неизлечимой болезни или личной трагедии. Индейцы называли их воинами-смертниками. Принятый у них способ попасть в мир иной заключался в том, что они снова и снова кидались на врага безоружными, пока не падали замертво. И хотя особой пользы в сражении они не приносили, подобная гибель считалась самой почетной, и остановить человека, вознамерившегося именно так расстаться с жизнью, никто не пытался. К счастью для боевого состава племени, в смертники обычно стремились немногие.
Смертник как явление был апофеозом очевидного каждому индейцу принципа: на войне и в набеге воин решает сам за себя. Собственно, он всегда отвечал прежде всего перед самим собой. Да, воин слушал своих сверхъестественных покровителей и действовал в соответствии с их наставлениями. Он хранил верность своему воинскому обществу и соблюдал его правила, в число которых порой входило обязательство биться до последнего вздоха, что бы ни случилось. Однако превыше всего была обязанность защищать свой народ – от врагов племени или от солдат. На исходе 1860-х гг. основной массе индейцев солдаты казались меньшим из этих двух зол[70].
«Война Красного Облака» выявила прискорбную неготовность регулярной армии к борьбе с индейцами. Однако проблемы армии нисколько не волновали покорителей Запада, считавших, что генерал Шерман должен карать индейцев всегда и повсюду, где они мешают жить белым. Если Шерман с этой задачей не справляется, писала пресса на Западе, нужно призвать на федеральную службу местных добровольцев – уж эти не подведут. Возможно, рассуждали редакторы, Шерман в глубине души всего-навсего очередной слабовольный соглашатель.
Травля в прессе доконала Шермана. Уязвленный потерей фортов на Бозменском тракте, в конце 1868 г. он выступил с открытой отповедью для обвинителей:
За последние два года я сделал все, на что может надеяться любой здравомыслящий человек, и если кто-то не верит, пусть идет в армию, тогда он сам вскоре убедится, отрабатывает ли он свое жалованье. С теми мизерными силами, которые нам позволяет Конгресс, охрана незащищенных поселений – задача такая же заведомо невыполнимая, как переловить всех карманников в городах. Поэтому трепать в связи с этим мое имя попросту глупо. Мы исполняем свой долг, насколько это в наших силах.
Силы и средства армейцев не только жестко ограничивались, но и быстро таяли. Даже когда накал Индейских войн стал усиливаться, Конгресс, намеренный выплатить огромный государственный долг, накопившийся за время Гражданской войны, раз за разом сокращал численность регулярной армии. От заявленных в 1866 г. 54 000 человек ее численность рухнула к 1874 г. до ничтожных 25 000. Треть всего состава была отвлечена на Реконструкцию Юга, и армии оставалось только заняться партизанщиной. С любителями кроить бюджет объединялись представители возвращаемых в Союз южных штатов, желавшие обескровить своих бывших противников в синих мундирах, – в итоге от армии фронтира осталось одно название.
Сокращением рядов проблемы армии не исчерпывались. В нее больше не вливались серьезные и целеустремленные добровольцы, восстанавливавшие Союз. Им на смену пришел совсем другой контингент. Вопреки нападкам нью-йоркской газеты The Sun, состоял он отнюдь не из одних «разгильдяев и бездельников», хотя в ряды солдат попало непропорционально много городской бедноты, преступников, пьяниц и извращенцев. Мало у кого имелось приличное образование, многие были попросту неграмотны. На вербовочные пункты являлись сезонные рабочие, которые с легкостью дезертировали, как только подворачивалось что-то более денежное. Треть армии фронтира состояла из недавних иммигрантов, в основном немцев и ирландцев, некоторые из них служили в европейских войсках и потому были ценными кадрами, да и среди американцев попадались хорошие люди, которые попали в тяжелое положение. Тем не менее, как отметил один генерал, хотя армия стала получать гораздо более совершенные винтовки, «у нас нет умных солдат, чтобы стрелять из них»[71].
Привлекательного в армии было мало. К 1870-м гг. жалованье солдата составляло всего 10 долларов в месяц – на три доллара меньше, чем у добровольцев Гражданской войны десятилетием ранее. Повышение до младшего командного чина давало небольшую прибавку, а тридцатилетняя выслуга – небольшую пенсию, но выдержать такой срок удавалось лишь одному проценту личного состава. Как ни удивительно, учтя потребность армии в толковых новобранцах, после Гражданской войны минимальный возраст вербующихся подняли с 18 лет до 21 года, и это требование строго соблюдалось.
Новобранец попадал в ряды регулярной армии в одном из четырех крупных вербовочных пунктов – там его ожидали беглый медосмотр, обмундирование не по размеру, скудная кормежка и полное отсутствие боевой подготовки. До назначения в полк новобранцы занимались черной работой. Радость от долгожданной переброски на Запад обычно сменялась унынием при первом же взгляде на место службы, в большинстве случаев являвшее собой малопригодную для жилья развалюху на пустоши. Таким, например, заезжий репортер увидел Форт-Гарланд в Колорадо – горстка приземистых саманных и краснокирпичных бараков с плоской крышей, «своим откровенным убожеством уничтожающая на корню весь боевой дух». В Техасе дела обстояли не лучше. Когда после Гражданской войны полк регулярной кавалерии заново занял Форт-Дункан, выяснилось, что казармы кишат летучими мышами. Кавалеристы разогнали их саблями, но неистребимый «тошнотворный смрад» мышиного помета держался не один месяц[72].
Генерал Шерман знал, в каких нечеловеческих условиях живет большинство его солдат. Его рапорт 1866 г. по результатам инспекции гарнизонов Миссурийского военного округа читается как заметки на полях приходно-расходной книги хозяина доходного дома в трущобах. Форт-Ларами в Вайоминге оказался «скопищем разномастных построек всех мыслимых и немыслимых конструкций, разбросанных как попало. Два главных здания так сильно разрушены и так обветшали, что в ветреную ночь солдаты вынуждены спать на плацу». О Форт-Седжуике в Колорадо, первоначально сооруженном из дерна, Шерман писал так: «Если бы плантаторы-южане селили здесь своих рабов, эти лачуги давно бы заклеймили позором как воплощение жестокости и бесчеловечности». Однако улучшить условия жизни солдат фронтира Шерман вряд ли мог. Бюджет армии был мизерным, а число гарнизонов велико, так что оставалось только латать дыры[73].
В казарме дни сливались в однообразную отупляющую череду. От подъема до отбоя горн диктовал распорядок дневных дел, в которых не было почти ничего от военной службы. Солдаты тянули телеграфные линии и строили дороги, расчищали земельные участки, сооружали и ремонтировали гарнизонные постройки, валили лес, выжигали подлесок и валежник – т. е., как ворчал один офицер, делали все, «кроме того, зачем, как они думали, шли в армию». Из-за скудного финансирования лишь немногие счастливчики занимались боевой подготовкой чаще нескольких раз в год. Стрельбы стали обязательными только к началу 1880-х гг., до того считалось в порядке вещей выпускать на поле боя новобранцев, ни разу не стрелявших из винтовки и не сидевших в седле. Это оборачивалось сущим позором. Во время первого столкновения с индейцами только что присланный на Запад лейтенант с содроганием наблюдал, как его солдаты пытаются пристрелить раненую лошадь: из нескольких сотен выстрелов, сделанных с расстояния менее ста метров, в цель не попал ни один.
Плохой была не только подготовка, но и обмундирование. Летом бойцы жарились заживо в темно-синих шерстяных кителях и голубых брюках, зимой мерзли в тонких шинелях. Обувь была такой грубой, что с трудом можно было различить левый и правый ботинки. Кепи быстро разваливались, вынуждая многих солдат покупать на свое мизерное жалованье гражданские головные уборы. Рубахи были синие, серые или в клеточку – на усмотрение носящего. Кавалеристы повязывали на шею косынку, и большинство либо подшивало заднюю часть брюк парусиной, либо для большего удобства облачалось в парусиновые штаны или вельветовые бриджи, а кто-то вместо уставных ботинок надевал индейские мокасины. Побывавший на фронтире английский военный корреспондент писал, что одетые кто во что горазд солдаты «подозрительно напоминали разбойничью шайку»[74].
До 1874 г. вооружение американской армии являло собой причудливую смесь. Громоздкий пережиток Гражданской войны – дульнозарядный нарезной мушкет «Спрингфилд» – оставался штатным оружием пехоты до тех пор, пока не обрек на верную гибель отряд капитана Феттермана. К концу 1867 г. большинство пехотинцев вооружили «спрингфилдами», стрелявшими заряжаемым с казенной части патроном с металлической гильзой, – именно они так ошеломили лакота в «Битве на Сенокосе» и в «Битве у баррикады из фургонов». В 1873 г. основным вооружением пехотинца стал «спрингфилд» 45-го калибра, а популярные во время Гражданской войны капсюльные револьверы Кольта и Ремингтона сменил того же калибра револьвер Кольта одинарного действия (знаменитый «Миротворец»). Кавалерию вооружали револьверами и однозарядными карабинами Шарпса либо семизарядными Спенсера. Кроме того, им полагались сабли, которые, правда, редко брали в сражение, поскольку понимали: пока всадник доскачет до индейца, чтобы рубануть того саблей, его самого нашпигуют стрелами. Солдаты возмущались, что плохо вооружены, однако мало кто из них стрелял достаточно метко, чтобы не позорить хотя бы имеющееся оружие.
Отрезанные от остального мира и тупеющие на бесконечной физической работе, солдаты влачили «угрюмое и тягостное существование». Хорошее питание могло бы поднять боевой дух, но рацион был таким же однообразным, как и распорядок дня. Дежурную основу меню составляли поджарка с картофелем, печеная фасоль, водянистое мясное рагу, которое называли «трущобной похлебкой», грубый хлеб и жилистое мясо пасущегося в прериях скота. Солдаты дополняли рацион овощами, выращенными на гарнизонных огородах. В походных условиях провизия большей частью состояла из бекона и оставшихся с Гражданской войны галет.
Рано или поздно все солдаты, кроме самых праведных, впадали по крайней мере в один из трех грехов фронтира: пьянство, разврат и азартные игры. До 1877 г., когда президент Резерфорд Хейз, вняв увещеваниям поборников трезвости, запретил продажу спиртного на военных базах, солдаты покупали алкоголь у маркитантов, чьи лицензированные заведения были и магазином, и баром, и клубом, где за пьющими был хоть какой-то присмотр. Когда вступил в силу запрет на продажу спиртного в гарнизоны, солдаты проторили дорожки на «свинячьи ранчо» – притоны за пределами гарнизона, предлагавшие страждущим самопальный виски и дешевых проституток. Кроме того, в поисках плотских утех солдаты нередко наведывались в палатки гулящих индианок или ходили к гарнизонным прачкам, которые иногда не прочь были заработать «сверхурочные» к своему жалованью. Последствия угадать нетрудно. По словам одного будущего генерала, из-за разгула венерических болезней на заставах язвительно говорили, что у гарнизонных врачей «всех забот – прачек от работы отстранять да триппер лечить»[75]
62
Richard I. Dodge, Our Wild Indians, 426–27.
63
Mails, Mystic Warriors, 520; Grinnell, Story of the Indian, 111.
64
Grinnell, “Coup and Scalp”, 296–307; Marian W. Smith, “War Complex”, 452; Linderman, Plenty-Coups, 106–8; Mails, Mystic Warriors, 43–44; Nabokov, Two Leggings, 49.
65
Linderman, Plenty-Coups, 49, 106–7.
66
457 метров. – Прим. ред.
67
Parker, Old Army, 273–76; Clark, Indian Sign Language, 77–78; Richard I. Dodge, Our Wild Indians, 416–20, 422; Powell, People of the Sacred Mountain, 1:120.
68
Marquis, Wooden Leg, 140; DeMallie, Sixth Grandfather, 107.
69
Richard I. Dodge, Our Wild Indians, 430; de Trobriand, Military Life, 62; Grinnell, Story of the Indian, 100–108; Linderman, Plenty-Coups, 104.
70
Richard I. Dodge, Our Wild Indians, 434; Stands in Timber and Liberty, Cheyenne Memories, 60–61.
71
Rickey, Forty Miles a Day, 18, 22–24; “Army Abuses”, 80; Sherman, “We Do Our Duty”, 85.
72
Rickey, Forty Miles a Day, 339–42; Rideing, “Life at a Frontier Post”, 564–65; Kurz, “Reminiscences”, 11; “Causes of Desertion”, 322; 45th Cong., Reorganization of the Army, 122; Henry, “Cavalry Life in Arizona”, 8; Brackett, “Our Cavalry”, 384.
73
Шерман – Ролинсу, 24 августа 1866 г., 39th Cong., Protection Across the Continent, 5–6, 9.
74
Rickey, Forty Miles a Day, 122–24; Forbes, “United States Army”, 146; Гарри Бейли – Лукуллу Макхортеру, 7 декабря 1930 г., McWhorter Papers, Washington State Libraries.
75
Rickey, Forty Miles a Day, 116–21, 131, 141, 159, 168–69; “Life in Arizona”, 223; Forsyth, Story of the Soldier, 140–41; Elizabeth B. Custer, “ ‘Where the Heart Is,’ ” 309.