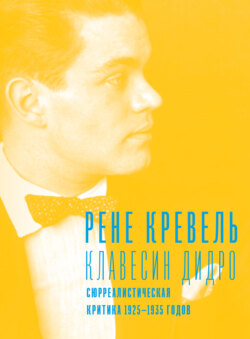Читать книгу Клавесин Дидро. Сюрреалистическая критика 1925-1935 годов - Рене Кревель - Страница 5
Клавесин Дидро
II. Лингвистика
ОглавлениеСколь полезной могла бы оказаться лингвистика в деле психоанализа нашего мира, если бы, обратившись к языкам мёртвым, эта наука в попытке сохранить – или, точнее, обрести – живую силу смогла вернуть в принадлежавшее им время целые семейства слов; в реальности же она довольствуется тем, что вскрывает их могилы с единственной целью: позволить трупам упиваться трупами.
Если привнести в изучение диалектов хотя бы крупицу диалектики (не нужно обвинять меня в игре словами: я всегда играю в открытую), классический сад греческих и латинских корней, сегодня напоминающий склад чудовищных коряг, вновь заполнился бы живыми членами, которые, черпая в земле питание деревьев и растений, позволили бы вызреть тем зёрнам ячменя, которые, как констатирует в «Анти-Дюринге» Энгельс, «…[биллионами] размалываются, развариваются, идут на приготовление пива, а затем потребляются. Но если такое ячменное зерно найдёт нормальные для себя условия, если оно попадёт на благоприятную почву, то, под влиянием теплоты и влажности, с ним произойдёт своеобразное изменение: оно прорастёт; зерно, как таковое, перестаёт существовать, подвергается отрицанию; на его месте появляется выросшее из него растение – отрицание зерна. Каков же нормальный жизненный путь этого растения? Оно растёт, цветёт, оплодотворяется и, наконец, производит вновь ячменные зёрна, а как только последние созреют, стебель отмирает, подвергается в свою очередь отрицанию. Как результат этого отрицания отрицания мы здесь имеем снова первоначальное ячменное зерно, но не просто одно зерно, а в десять, двадцать, тридцать раз большее количество зёрен»13.
Но разбирая под микроскопом отмершие культурные формы, что ищут те, кто, по их словам, посвящают свои дни изучению человечности: какие составляющие жизни надеются они обнаружить в тридцатикратно вековых колосьях Цереры или даже в куда более близких по времени увядших цветах романтизма?
Ячменные зёрна под предлогом изучения лишают теплоты и влажности, необходимых им для своеобразного изменения. Два отрицания равнозначны утверждению: возможно, в грамматике оно и так, но поскольку закон этот не ограничивается миром письменных или устных форм, специалисты-гуманитарии решают законсервировать то, что в силу способности к разложению как раз дало бы будущие всходы. Или же – и здесь исключение лишь подтверждает правило – профессора в своих лирических созерцаниях считают эту возможность распада неотъемлемым достоинством эпохи, места, отдельных существ, вспоминая Нерона, сгоревший Рим, Петрония, да мало ли кого и что ещё.
Кстати, те, кто корпит над ископаемыми языка (по большей части – жалкие импотенты, пытающиеся благодаря такой палеонтологии позабыть ускользающее от них настоящее и его создания), в конечном итоге влюбляются в свои фолианты, точно так же, как археологи – в своих мумий. И эти копрофаги древности, библиотечные… даже не крысы – вампиры! – награждают друг друга титлами безобидных книжных червей.
В Сорбонне, этой кунсткамере дряхлости и вырождения, с 1918 по 1922-й довелось мне знавать с полдюжины таких особей, как на подбор: сами они, впрочем, считали, что подобрали их под Анатоля Франса. С какой же радостью приносили они во имя гуманизма всё живое и современное на алтарь своих запылённых Таис14! Всё это было бы смешно, если бы академические программы не порывались (и рвутся так до сих пор) сделать этих болванчиков наставниками молодёжи, которая как раз всей душой жаждет человечности. На эту удочку, наверное, попадаются только самые отъявленные простаки. Удел же остальных – оглушительный взрыв раскалённого добела гнева как месть за потерянное время и залог того, что больше никому и никогда не придётся его терять.