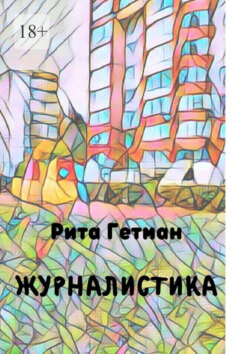Читать книгу Журналистика - Рита Гетман - Страница 9
«Я не хочу умирать за свободу, я хочу за неё прожить»/Большое злое животное
История №1
Оглавление«Книжный ребёнок против всего плохого и за французских экзистенциалистов»
Лет в 19, когда закончил учебу на первом курсе, открыл для себя Сартра. Мой неискушенный ум (когда ты еще далек от тридцатилетия, тексты французских экзистенциалистов равны божественному откровению) больше всего поразила вот эта фраза: «Если огонь свободы зажегся в душе человека, то дальше боги бессильны». Ну или что-то подобное: я давно не читал его книг, не воспроизведу сейчас цитату точно.
Меня поразило, насколько точно он это сказал. Пламя свободы, призванное низвергать все авторитеты – земные и божественные. Свобода как ценность и высший смысл, как боль, от которой заботливое Божество стремится нас уберечь. Как мы порой оберегаем своего ребенка, ограничивая его действия: ведь он такой наивный, так мало еще знает о мире и, если начнет делать все, что заблагорассудится, пострадает. Бесконтрольная свобода ребенка принесет ему страдания, а нам – беспокойство за свое творение. Ведь так мы относимся к детям, с позиции строгого Бога-родителя?
Я, кстати, всегда был против этих ограничений: юное существо познает окружающий мир и набирается опыта, чтобы с этими знаниями суметь потом в полной мере распоряжаться своей свободой. К сожалению, при рождении никому не выдают инструкцию по применению жизни, равно как не выдают пособий о мире и людях вокруг. Получается, чем больше ребенка в детстве контролируют, тем сильнее его страхи перед действительностью – он пребывает в неведении, он ограничен и предан тем сильным и большим взрослым, которые все решат за него. Такое существо обречено потом оставаться несвободным. Потому что никакая свобода действий, мыслей и воли невозможна без позитивных знаний. К сожалению, из-за неверной «политики» родителей дети растут неготовыми к активному взаимодействию с миром и вообще предпочитают, чтобы кто-то все думал за них. Таких большинство. И поэтому если я замечал, что студент проявляет способности к самостоятельному мышлению, старается рассуждать, используя собственные аргументы, я обычно давал ему задания повышенного уровня сложности. Если студент справлялся, я приглашал его в наш университетский интеллектуальный клуб, организованный моими силами и держащийся исключительно на энтузиазме нескольких коллег и студентов старших курсов.
Что мы там обсуждали? Ну, понятно – Сартра и Камю. Это вечные любимчики двадцатилетних. Кстати, когда я стал старше, Сартр начал мне нравится гораздо меньше. Коммунист с буржуазными привычками. Конечно, отказаться от Нобелевской премии было с его стороны смелым решением, но было в этом отказе что-то излишне показательное. То ли дело Камю: его философия, на первый взгляд мрачная и циничная, в сущности оказалась вся пронизана солнечным светом, любовью и той самой свободой. Когда ты добираешься в жару до берега моря и вдыхаешь свежий прохладный воздух, а впереди еще целое лето и целая жизнь…
Студенты, конечно, предпочитали Сартра и никогда не соглашались со мной в оценках творчества двух французов. Но это и прекрасно. Как раз к тому я стремился: не соглашайтесь со мной только потому, что я преподаватель и являюсь для вас «авторитетом». Все это не значит ровным счетом ничего: собственное мнение важнее, правда, в дискуссии нужно подобрать толковые аргументы. Как дело доходило до этой части, все пасовали. С другой стороны, разве не за тем молодежь идет в университет, чтобы научиться со временем любую свою точку зрения подкреплять аргументами?
Скажу так: нас не трогали. Небольшой некоммерческий кружок университетских интеллектуалов никого не интересовал – что плохого в том, что студенты и преподаватели в свободное время обсуждают труды, допустим, Ницше и Ясперса? Я, конечно, уточню здесь, что иногда нами интересовалось начальство, и тогда я, как руководитель кружка, просто приглашал декана и проректоров по безопасности и социально-воспитательной работе на наши встречи. Им становилось откровенно скучно, они на время отставали, и это было хорошо: пока нас никто не тормошил, мы могли нормально работать.
Через какое-то время, когда политическая ситуация в стране ухудшилась, и в обществе совсем «похолодало», в университете разом прибавилось всяческой бумажной работы. Я имею в виду, что количество бумаг и отчетов, которые заполняли преподаватели, и так было велико, но за короткое время оно выросло до состояния лавины. Под которой я и мои коллеги тонули. И пришлось забросить все дела – лекции, семинары, статьи – и заполнять отчеты. Они касались всего – возникало ощущение, что министерство и государство вдруг заинтересовались тем, что происходит в университете каждую секунду. Но особенно наверху взволновались по поводу содержания учебных программ и так называемой «внеаудиторной деятельности».
Мы все в общем-то привыкли к сверхконтролю со стороны государственных структур – они финансируют нашу деятельность и, как и подобает дотошным клиентам, требуют строгий отчет. Но помните, что я писал выше о родительском отношении, свободе и познании окружающего мира? Такое ощущение, что власть считает государство огромным детским садом, а граждан – неразумными детьми, которые самостоятельно и шагу не могут ступить. Под предлогом защиты ценностей государственного строя и безопасности граждан, вводятся непонятные абсурдные запреты. Когда я обсуждал этот вопрос с коллегами, они только ухмылялись: мол, мы люди подневольные, пока платят – все хорошо. Особо ведь никого не трогают – да и как могут «тронуть», что это значит? Мы ж тут не смутьяны какие-то, а интеллектуальная элита, и студенты у нас послушные, прилежные, так загружены учебой, что и разбираться в чем-то еще у них совершенно нет времени.
А потом государство сделало так, что никакой политики как искусства управления в условиях бесконечных компромиссов не стало. Потому что власть перестала идти на компромиссы, и даже не управляла, а будто бы пустила все на самотек, но постоянно чего-то требовала. В какой-то момент эти требования вышли за разумные пределы.
Кто-то из коллег уволился или был уволен (чаще второй вариант), а на их место приходили странные люди – прошедшие переподготовку на курсах административного управления в какой-то там государственной академии, не имевшие должных знаний и компетенций, зато идеологически подкованные и преданные власти. Кстати, если у преподавателя имелся сертификат о переподготовке в той Академии, то зарплата сразу повышалась. Мне тоже предлагали поучиться там, я отказался. В общем, качество преподавания резко ухудшилось, но, на самом деле, все предшествующее развитие нашего государства и общества к тому вело.
Кружок пришлось распустить, потому что… Знаете, об этом сказать не так просто, даже сейчас.
Я всегда был умеренным либералом и считал себя человеком весьма смелым и в то же время разумным. Потому что странным образом вышло, что личная смелость плохо сочетается с разумностью. А еще я считал себя честным и последовательным. Просто не возникало в моей жизни ситуаций, когда все эти качества можно было бы проверить. Наверное, я бы так и жил в иллюзии относительно собственной личности. Но спасибо государству, которое всех проверяет на прочность.
Однажды ко мне в кабинет пришли интересные люди, одетые в штатское, но не имевшие никакого отношения к гражданским властям. Постараюсь точно воспроизвести тот разговор.
– А расскажите нам, пожалуйста, о своих дополнительных курсах?
– О каких дополнительных курсах? Я не веду ничего такого, только по основной программе, а она еще полгода назад была подтверждена в министерстве. Поступившие замечания мы исправили, новое разрешение получили. У меня есть лицензия и…
– Нас не это интересует. А ваши сборища.
– Мои что? – я решил показать, что не позволю говорить со мной в подобном уничижительном тоне. Но они догадались, что на самом деле я трясусь, мне страшно, я не знаю, как правильно себя вести.
– Ну, несанкционированные мероприятия, где вы детям мозги пудрите. Поступила жалоба.
– От кого? От руководства университета? – меня больше всего удивило, что он назвал студентов «детьми».
– Неважно. От родителей, от руководства факультета. Главное, что вы нарушаете закон. Несогласованное просвещение запрещено. Программа занятий предварительно согласуется в министерстве культуры и образования, потом вы проходите стажировку в Академии повышения компетенций, потом курс предварительно заслушивают. Потом вы выходите с ним к студентам.
– Извините, но такой порядок, если я не ошибаюсь, введен только для основной программы. Эти занятия туда не входят.
– Не входят, но вы ведь обучаете там, что-то рассказываете. Вот что вы рассказываете там?
– Мы обсуждаем творчество философов, различные идеи, их влияние на людей и общество…
– А философы наши, отечественные?
– Из разных стран, мы не отбираем их по национальному признаку.
– Ну и какие идеи у философов?
– Идеи свободы и ответственности.
– И зачем это?
– Я не понимаю, у нас же социально-гуманитарный факультет, мы должны изучать философию, – пытался объяснить я, но они явно не намеревались меня слышать.
– Нет, вы не поняли, профессор: зачем это? Вы про любовь к Родине рассказываете? Про верность государству?
– Да при чем здесь это! Абсурд какой-то!
– Патриотизм, по-вашему, это абсурд?! Вы чему вообще можете научить детей?
– Почему вы студентов детьми называете?
– А они кто, по-вашему? Дети, которыми пользуются такие вот предатели Родины, как вы!
Все это напоминало дурной сон. Я слышал, что военная полиция проводит так называемые «беседы» с неблагонадежными гражданами, но никогда не думал, что они придут ко мне тоже.
Я пытался объяснить, что не имею ничего против нашей Родины и государства и, если нас всех обяжут, что ж, начнем учить студентов, как правильно любить свою страну.
– В общем, смотрите, профессор. Мы запросили справки у вашего начальства, – многозначительный взгляд и молчание, – никаких нареканий к вашей службе нет. У них. Но не нравится, что вы учите свободе без любви к стране, чему-то неправильному учите. Вы либо что-то с этим меняйте, либо уходите.
– Подождите, я не могу уследить за вашей логикой…
– А логика тут простая: ты, профессор, пятнадцать лет назад ездил на учебу во враждебное государство? Есть у нас такие данные. Ну, было такое?
– Да, ездил. Но я никогда этого не скрывал. К тому же, не я один прошел там обучение: многие мои коллеги…
– Они в высшем образовании больше не работают. Ну ты, профессор, решай. Ты у нас в списке неблагонадежных. Хочешь спокойно проработать здесь до пенсии – учи нормальным вещам, а не всей этой херне про свободу. Ты молодняку все это треплешь, а они потом думают невесть что и считать начинают, что плохо живут. Недовольные становятся, не понимают, что живут в лучшей стране мира. А почему?! Да потому что такие интеллигенты херовы им не объяснили, что они живут в лучшей стране мира.
Меня напугало, как изменился его тон. В тот момент я вспоминал одного книжного ребенка – серьезного подростка, который читал запоем французских философов и верил, что все написанное – правда. Боги бессильны, если горит в душе пламя свободы, да?
Я всегда был против всего плохого и более всего я выступал за свободу духа и мысли. А когда мне пригрозили, что уволят, потому что в нынешних реалиях быть свободным человеком опасно, я послушно закивал головой, словно немая овца на заклании, и подписал все нужные им для контроля надо мной документы. Давили ли на меня? Определенно. Но было ли это такое давление, которому невозможно сопротивляться? Скорее нет. Теория в моей голове была опровергнута практикой.
Студентам я ничего не объявлял; не смог. Просто запер дверь кабинета, где обычно проходили наши встречи, и повесил записку: по техническим причинам дальнейшая работа интеллектуального клуба невозможна. Приносим свои извинения.
Студенты все поняли. Некоторые перестали здороваться со мной в коридорах университета. После этого случая все внутри меня будто выцвело. Или так – остекленело. А потом разбилось вдребезги.
А тот человек, который со мной разговаривал, сейчас работает в министерстве юстиции в новом правительстве. Недавно я видел его выступление. Он рассказал, как тяжело было привести в порядок правовую систему государства, чтобы она соответствовала мировым демократическим стандартам. Он, если я правильно понял, также входит в ту знаменитую комиссию правды и примирения (не помню точное название).
Сейчас я состою в комитете академических работников, пострадавших от действий прошлого режима. Я слышу такие истории, от которых становится порой не по себе. Многие мои коллеги боролись и сопротивлялись, подписывали петиции и выходили на пикеты, а я просто был против всего плохого и за французских экзистенциалистов.
Текст приведен в небольшом сокращении редакции