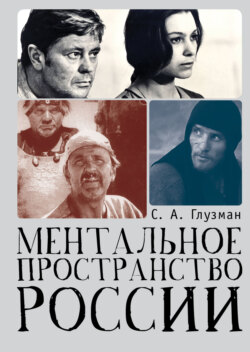Читать книгу Ментальное пространство России - С. А. Глузман - Страница 7
Глава 5
Ментальность допетровской Руси
ОглавлениеРусь принимала христианство душой и сердцем и оттого прежних богов низвергала безжалостно и жестоко. Летопись повествует, что в Новгороде епископ Иоаким приказал стащить идола Перуна с постамента и бросить его в Волхов. Тоже было сделано и с Перуном Киевским. По дороге к реке новгородского идола били палками, мучили, таскали по грязи и дерьму. В это время якобы вошел в него бес и он закричал страшным голосом— «Ах горе мне, достался я немилостивым рукам». Затем идола бросили в реку, и понесла его вода, когда же течение прибивало его к берегу, люди с руганью баграми отталкивали его, а когда проплывал он под мостом, то якобы забросил на мост свою палицу и изрек: «этим будут вспоминать меня дети новгородские». На этом мосту впоследствии проходили жестокие кулачные бои.
Принятие христианства для многих русских было актом мистическим, радикально изменившим отношение к жизни, ибо уверовали они всем сердцем, словно почувствовали вдруг близкое присутствие иного, потустороннего, божественного мира. Это коснулось, прежде всего, самого князя Владимира, крестившего Русь.
В язычестве князь, по свидетельству летописи, – необузданный «женолюбец», жестокий и коварный воин, изведавший изгнание и чужбину и захвативший власть в тяжелой кровавой войне.
Владимир-христианин, предстает уже совсем другим человеком. Окрыленный евангельскими заповедями, он тут же захотел воплотить их в жизнь, начав раздавать княжеское добро крещеному люду. Евангельскую идею обобществления имущества впервые на Руси пытался воплотить ее же первый христианский правитель. Правда, этот наивный порыв продлился недолго, однако в самой древней летописи с удивлением и восхищением сообщается о грандиозных пирах, которые давал князь простому народу, чтобы показать, как говорит книга Деяний Апостольских, что у всех «одно сердце и одна душа», и у всех «все общее». Убогим же и больным, которые не могли дойти до княжеского двора, отправлялось еда на телегах по месту жительства.
В общении с воеводами и слугами князь стал ласков и внимателен, почитал священников, начал строительство церквей. Летопись сообщает, что благотворительность Владимира была вовсе не его личной милостыней, но никогда прежде не виданной на Руси широкой социальной программой помощи бедным и убогим. Нестор-летописец писал, что Дух Божий чудесным образом привел князя к святой купели, «отрясши в нее слепоту душевную, вкупе и телесную». По словам митрополита Иллариона князь Владимир «возгорелся духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство». Так и случилось. Мир в головах язычников перевернулся и стал другим, соответственно их новой вере.
Однако благостная история раннего русского христианского порыва, бескорыстного евангельского энтузиазма, трагически прерывается уже со смертью Владимира. В одночасье христианская идея превращается в страшную трагедию его детей, при этом не утрачивая, но лишь усиливая евангельский драматизм истории, основанной на тяжелом разломе человеческой души, рождавшей в этой трагедии первых русских святых.
Очень символично для России, что в качестве первых святых земли русской были канонизированы не князь Владимир, крестивший Русь и не княгиня Ольга, принявшая христианство задолго до всеобщего крещения, а добровольные жертвы княжеской внутрисемейной распри, дети князя Владимира Борис и Глеб, убитые по приказу их старшего брата Святополка.
Причина убийства банальна— борьба за власть.
После смерти Владимира каждый из его детей: Борис, Глеб и старший сын Святополк получили земли и сильную дружину. Вопрос о престолонаследии оставался открытым, и неизвестно, чем могла закончиться междоусобная война. Однако младшие дети Владимира отказались от борьбы и добровольно пошли на смерть. Оба, без сопротивления, были зарублены солдатами Святополка. Согласно преданию, когда убийцы вошли в шатер Бориса, тот даже не прервал молитвы.
Братья Борис и Глеб формально не были мучениками веры, воинами Христа, блаженными чудотворцами или проникновенными богословами. Они лишь пытались сохранить чистоту своей души, о чем прежние язычники не могли даже помыслить. Языческий мир был лишен понятия морали как внутреннего цензора, определяющего непорочность помыслов человека. Борис и Глеб просто отказались от братоубийственной войны, хотя за этот отказ им и пришлось заплатить собственными жизнями. Они не захотели брать на душу грех братоубийства.
Ранняя христианская вера на Руси была наивной, простой и ясной, не замутненной витиеватыми схоластическими дискуссиями изощренных философов. В этот период христианство еще не разбудило в русских интеллектуального порыва, который отмечался во времена христианизации древнего Рима, или фонтанирующего филологического фейерверка, рожденного приходом ислама в Аравию. Россия шла по своему пути, расширяя собственное ментальное пространство глубинными религиозными ощущениями и формами преимущественно визуального характера. Русский религиозный дух был молчалив, часто косноязычен, литературно наивен и находил адекватное воплощение лишь в уникальной, ни на что не похожей архитектуре церквей, раскрывающей глубины русского религиозного сознания.
Русские интуитивно пришли к прозрению всех древних религий о том, что храм имеет форму Вселенной и одновременно человеческой души, где вместе обитают Бог и человек.
Силуэт церкви— это виртуальная лестница в небо, или, может быть, часть неба, сошедшего на землю и опустившегося внутрь человека, запечатлевшего это нисхождение в камне.
Ранние русские белокаменные церкви, но не столичные соборы, а одинокие, однокупольные, поставленные не для праздника, но для раздумий и молитвы, – аскетичны, холодны, воздушны и бесплотны. Их контуры не антропоморфны, в них много тоски, рожденной чувством недостижимого, неподвластного человеку, иного мира. Они словно выпадают из реальной жизни, в них нельзя жить, как делали это арабы в своих мечетях во времена раннего ислама, но можно лишь молиться. Их время – поздняя осень или ранняя весна, когда природа засыпает, или еще не проснулась, а вокруг пусто, голо, одиноко. Они символ ненарушаемой, неразрушаемой вечности, с которой человек еще не понимает, что делать. В этих строениях запечатлелось, наверное, самое главное религиозное чувство русского человека— безотчетная тоска по несбыточному, очевидно, и толкнувшая Русь к принятию христианства.
Ранние русские иконы отражали то же душевное состояние человека, что и церкви. Иконописный канон был перенесен на Русь из Византии, так как до христианства здесь не было художников. Рисование было делом новым и удивительным.
Русская икона более аскетична, чем византийская, пространство иконы двумерно, потусторонний мир развернут на плоскости и виден весь как на ладони. Иконы не рождают ощущения визуальной глубины пространства, в них нет живописной перспективы, все дано взгляду одновременно, все доступно, и вместе с тем таинственно и закрыто. Это иной, потусторонний для человека мир. Лики на иконах спокойны, отрешенны, строги. Святость ликов холодная, печальная, словно старцы, ангелы и сам Вседержитель знают какую-то общую тайну, которую они пока еще не готовы раскрыть человеку.
В иконах застыла такая же тихая печаль, как и в архитектуре церквей и скрытая тоска, рождающая острейшее и подчас болезненное религиозное чувство, которое явно или подспудно во многом определяло всю последующую русскую историю.
Тоска по несбыточному – одна из важнейших черт русского характера. Тоска как разорванность души, словно оставившей часть себя где-то совсем в ином, недоступном ни взору, ни мысли, ни фантазии мире. Эта утерянная часть ощутима лишь в туманных и неясных грезах и оттого она рождает боль, плач, молитву, а иногда и «страшный и бессмысленный русский бунт». Эта тоска вылилась и в фольклоре, в песнях со слезой, с надрывом, в монотонном, рвущем душу «однозвучном звоне колокольчика», в необъяснимом пьянстве и, конечно, во всей великой классической русской литературе.
Русское религиозное чувство, широчайшее и многогранное, вышедшее за церковные стены, переливается множеством оттенков, трансформируется в самые удивительные и непредсказуемые формы культуры, присутствуя во всех странных, а иногда и страшных перипетиях русской истории, рвущейся к трудно различимому, но постоянно висящему над страной и людьми миражу. Этот мираж не смогли уничтожить ни атеизм, ни коммунизм, ни капитализм. Они лишь трансформировали его и всегда присваивали себе.
Вместе с тем язычество на Руси тоже никуда не делось. Оно жило прежде при раннем христианстве, оно живет и сейчас. По его канонам во многом и строилась русская литература, как история, как сказка, ибо литература дело языческое, оттого, что процесс это бесконечный, нескончаемый, как само мышление, создающее обиталище уже не для святых и Спасителя, но для грешного человека, занятого своими человеческими делами.
Русский язык рождался не в летописях, на чем настаивают историки, но в сказках, ибо мир сказки всегда богаче убогого языка реальности, хитросплетения сказочного сюжета изощрённее сводок с поля битвы, а сказочные мотивы повторяют подспудные, внутренние движения человеческой души.
И если в христианстве конец мира уже прописан апокалиптическим завершением истории, то в язычестве мир, который впоследствии, в христианской мифологии, должен будет исчезнуть, еще только строится, еще только готовится услышать трубный глас. Еще возводятся стены и лабиринты, которые должны будут рухнуть, открываются новые земли, на которые прольются чаши гнева, рождаются Вавилоны земные, которым еще не ведомо окончание истории, в любви и грехе рождаются будущие участники христианского действа.
Мир в сказках расширяется, растекается по горизонтали, словно лава из бездонного вулкана, извергающего из себя удивительные, доселе неведомые образы и неизвестные прежде слова, давая свободу человеческой фантазии и порыву в таинственные дали. И если в иконе для человеческого глаза все открыто, но для души многое скрыто, то в сказке все наоборот.
Сюжетные хитросплетения сказок многое скрывают, но духовных тайн в них нет, ибо мир здесь хоть и фантастический, но свой, родной, понятный. И тогда отправляются Иван-царевич и Иван-дурак в дальние края, за моря и горы, за невестой, за пером жар-птицы или таинственным «тем, не знаю чем», поражая походя вражьи рати, страшных чудовищ, колдунов и кащеев, совершая добрые дела, спасая из плена своих друзей, родных и конечно избранниц. И ведут их дальние дороги, которые ими же и мостятся, как и мир, который перед ними раскрывается, ими же и создается, ибо если бы они не пришли сюда, то никто бы об этих местах и не узнал, словно их никогда и не было.
Эта мощная энергия созидания, расширения, движения бьет буйным фонтаном, делая язык изощренным и чувствительным к разнообразным оттенкам изменений человеческой души, одновременно не давая людям сидеть на месте, ибо слово произнесенное, слово сказанное уже тянет человека за собой, требуя превращения себя в реальность и обязывая и слушателя и рассказчика стать персонажем рассказанной удивительной истории.
При этом и христианские мифы библейского писания часто воспринимались русскими, как сказки, как литературные сюжеты, где все написано, все ясно, где реальность истории полностью соответствует словам ее выражающим, а потому и не рождает чувство религиозной тайны, вызывающей долгие и тягостные раздумья. Подобное отношение к религии, как к сказке, как к истории, где уже все сказано, рождало на русской земле новые, чисто русские ереси. Очень показательно в этом отношении распространение на Руси в XV веке так называемой ереси жидовствующих.
Новгородцы, пытавшиеся отстоять свою независимость перед Москвой, пригласили к себе из Польши князя Александра Олельковича. Князь прибыл со свитой, куда входили иудеи Схария, Моисей Схануш и Иосиф Шмойло, которые быстро вошли в контакт с верхушкой новгородской церкви.
Религиозный силлогизм, который предъявили иудеи наивным новгородским священникам, оказался для тех непосильной задачей и вызвал тягостные брожения в еще неокрепших философских умах средневековых русских христиан. Главным рычагом воздействия свиты князя Олельковича на православных была буква Ветхого Завета. Силлогизм состоял в том, что как написано в Евангелие от Матфея, Христос «пришел не нарушить Закон, а исполнить», следовательно договор Бога с Авраамом надо выполнять и свято следовать Ветхому Завету, как следуют ему иудеи.
Эта библейская истина привела церковный новгородский люд в сильное волнение. Хроники тех лет сообщают, что один из первых последователей нового учения, протопоп Алексей, взял себе имя Авраам, а жену свою нарек Сарою. Он даже собрался сделать себе обрезание, однако братья по новой вере пока отсоветовали это делать по конспиративным соображениям.
Новое поверье, возвращающее христиан к Ветхому Завету, стало распространяться подобно пожару. Из Новгорода ветхозаветная идея быстро ушла в села. Иван III, вскоре подчинивший Новгород Москве, сам попал под очарование нового течения религиозной мысли. Главных ветхозаветных проповедников, Алексия и Дениса, он делает протопопами столичных Успенского и Архангельского соборов. Иудейская вера обуяла не только огромное количество священников, но и мирской люд. Во главе светского крыла стоял министр иностранных дел дьяк Федор Васильевич Курицын. За министром пошли статс-секретари и князья. Лишь к концу 80-х годов XV века московские власти начали возвращать отступников в лоно церкви. Не упорствующим в ереси достаточно было покаяния. Упорствующих секли, а иногда и казнили.
Еретическое возвращение русских людей к Ветхому Завету, то есть, по сути, к иудаизму, было вызвано метаниями ищущего истины коллективного религиозного сознания, еще не заложившего фундаментальных основ собственной веры и вновь проходившего тернистый путь первых римских христиан, впрочем, даже, не догадываясь об этом.
Новозаветная идея для ранних римских последователей Христа, создававших новое вероучение на вдохновенной волне интеллектуального и мистического порыва, состояла не столько в пересказывании евангельской истории, но, прежде всего, в попытке понять и оценить необратимые изменения человеческой души, новую экзистенциальную психическую программу, которая и есть христианская вера, связанная с идеей Боговоплощения. Евангельскую историю они рассматривали не только как историю случившуюся на земле, но, прежде всего, как историю, свершившуюся в человеческой душе.
Святой Ириней Лионский в III в. писал об онтологическом перевороте, происшедшем в душах людей с воплощением Бога в человеческий образ, ибо в человеке открылся путь его нового предназначения. Бог в христианстве приобрел человеческий образ и потому стал доступен человеку. Он прожил на земле человеческую жизнь, и теперь каждый человек должен в душе свой уподобиться Христу. Иного пути, кроме приобщения к великим тайнам бытия, с точки зрения отцов церкви, у человечества больше не было. Однако для ранних русских христиан эта идея различия божественного образа в Ветхом и Новом завете еще не была азбучной истиной.
Тем не менее то, что произошло на Руси, лишь подтверждает евангельскую идею о трансформации в новой вере человеческой души. Новая вера— это новое сознание. Принятие новой религии русскими язычниками, как и язычниками европейскими привело к рождению совершенно нового культурного пространства и запустило исторический процесс там, где тысячелетиями человеческая жизнь не менялась, и у людей вообще не было ощущения поступательного движения времени.
Первое, что произошло с неграмотными русскими язычниками: они освоили письменность.
Письменность, текст – это средство удвоения мира. Человек, создающий осмысленный текст, создает новое виртуальное пространство, новый мир, который существует не по законам материальной реальности, но по законам человеческого сознания.
Через текст мифа, предания, литературы, философии разливается мощнейший информационный поток, рождаемый человеческим сознанием, создающим виртуальный мир, в котором человек и начинает жить.
Начало грамотности и учения воспринималось на Руси по-разному. Первый русский просветитель, Кирилл Философ, в XII веке в «Прогласе святого Евангелия» писал о том, что «безбуквенная душа мертва», и, как глаз без света не радуется красоте мира, так и человек без письменности не видит ясно божественного закона, ведущего его к истине.
Одновременно матери детей, которых отдавали в учение, плакали о них, как об умерших. Однако процесс создания нового, виртуального текстуального мира на Руси, вышедшей из язычества, уже начался.
С появлением письменности сразу появились русские религиозные писатели, которые стали строить совершенно новый мир русского христианского богословия. С XII века уже появляются тексты епископа Кирилла Туровского, игумена Авраамия Смоленского, монаха Иакова, пытавшихся связать события реальной жизни и библейские сюжеты в попытке найти в реальности следы вечных законов, двигающих человеческую историю.
Подавляющее большинство работ в области русского богословия, а затем и философии, всегда носили выраженный специфически русский религиозно-исторический характер. Европейская богословская и философская мысль шла по иному пути. Она занималась схоластическим моделированием и формулирования законов бытия, словно бы без присутствия живого, реального человека. Мир и человеческое мышление в текстах европейских мыслителей представляются сложнейшей машиной, гигантским механизмом, который работает объективно, сам по себе, не требуя человеческого присутствия.
Мир в богословских и философских работах созданных в рамках русской культуры, всегда не просто включает в себя реального, живого, несчастного, грешного человека, но и ставит его в центр созданной системы. В исторической перспективе вся русская философия, в отличие от философии западной, всегда оказывается религиозной. Среди гигантов философской мысли в России не было нерелигиозных мыслителей.
Русская философия, с самого ее зарождения, определяемого началом письменности, всегда была построена на остром чувстве общего драматизма земной и небесной жизни. Она очень похожа на миф, на литературу. Так же, как и классическая русская литература именно этим же ощущением единого земного и небесного драматизма всегда похожа на философию, совершенно не в западном, но чисто русском ее прочтении.
В вместе с тем совершенно иным, противоположным направлением развития коллективного религиозного чувства на Руси, было монашество, аскеза, уход из мирской жизни, попытка прекращения всякой жизненной драматургии. Множество людей, практически с самого начала христианства, покидали свои дома, оставляли семьи, уходили в затворники, становились отшельниками и молчальниками, чтобы по давней, уже почти тысячелетней монашеской традиции, пережить весь драматизм человеческой жизни внутри собственной души, очиститься и полностью от него освободиться. Подавляющее большинство русских святых— уединенные монахи, проводившие время в одинокой молитве, раздумьях и внутренних бореньях, которые по своей напряженности значительно превосходят эмоциональный накал обыденной мирской жизни.
Монашеское затворничество – тяжелейший психологический акт. Психологическое состояние монаха, недели и месяцы проводящего в одиночестве, в пещере, в ските, не приводится в традиционных руководствах по психологии человека. Вместе с тем в психологическом лексиконе есть термин «эмоциональная и информационная депривация» – состояние психической изоляции человека, ведущее к тяжелейшим психическим последствиям: депрессии, галлюцинациям, суицидным попыткам. Длительное одиночное тюремное заключение провоцирует те же разрушительные психические механизмы. Однако у депривации есть и другая сторона. Еще сирийский монах VII века, преподобный Исаак Сирин, очень почитаемый на Руси, писал о трех ступенях восприятия реальности, которые помогает открыть человеку затворнический монашеский путь.
Первая ступень восприятия— естественная, человеческая, мирская, плотская, основанная на животных страстях, когда человек не воспринимает ничего, кроме собственного тела и всего к нему относящегося.
Вторая ступень наступает обычно после долгой внутренней работы, поста, молитвы, уединения, и открывает видение и понимание собственных дел и помыслов. Это восприятие еще плотское, сложное, но уже открывающее человеку ощущение собственного внутреннего пути.
И, наконец, третья ступень— состояние совершенства, видение всех скрытых от обычного взгляда таинств мира, постижение неведомых глубин времени, пространства, жизни и смерти, видение «Фаворского» света, озаряющего мир, доступного лишь после долгой и мучительной внутренней работы.
Сама традиция аскетического монашества зародилась в период поздней Римской империи в Египте, затем была перенесена в Византию, и оттуда уже пришла на Русь. Тысячи русских монахов встали на этот путь. В описаниях жизни древних монастырей приводятся не только монашеские победы в достижении душевного просветления, чистоты и святости, но и страшные последствия долгих и одиноких монашеских бдений.
Сохранились свидетельства о тяжелейших искушениях, через которые проходили монахи, вставшие на путь затворничества. Именно на этом пути родилась русская демонология с описаниями страшных ликов мистических существ, визуализированных образов человеческих подсознательных пороков, похотей и страданий, являвшихся перед внутренним взором затворничествующих монахов. Далеко не все выдерживали эти испытания. Часто случалось наоборот, люди впадали в безумие, погружаясь в темную пучину неконтролируемого и страшного подсознания. Дело доходило до того, что, после нескольких трагических историй, в конце XI века старцы Киевского-Печерского монастыря запретили затворяться молодым монахам. Этот запрет был снят лишь через полвека. Однако именно с этого времени начали появляться первые русские святые, прошедшие до конца тяжкий путь монашества и получившие внутренний покой и свободу. Они всенародно почитались, к ним, как к преподобному Сергию Радонежскому и многим другим, приходили за советом, наставлением, исцелением не только простые люди, но и высшие власти.
Образ святого блаженного старца, вечного нищего странника, юродивого-шута, стал постоянным персонажем русской обыденной жизни, внося в нее странное, не от мира сего, часто глубокое и проникновенное, часто балаганное и фарсовое ощущение глубины и одновременно иррациональности жизни, разорванности и зыбкости реального мира, существующего по противоречивым и непонятным законам, когда одновременно надо заботиться и о теле и о душе, и о этой жизни и о той, служить и Мамоне и Богу.
Это тягостное ощущение двойственности проходит через всю русскую историю, видится практически в каждой трагедии коллективной русской жизни. Наиболее ярко и страшно вылилось оно в XVI веке, во времена правления Ивана IV Грозного, сделав одного человека, получившего неограниченную власть, не только ярчайшим историческим, но и уникальным драматургическим персонажем, воплотившем в своей жизни, в своей истории, ставшей историей огромной страны, трагический внутренний конфликт экзистенциальной русской религиозной драматургии.