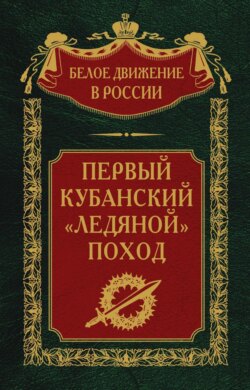Читать книгу Первый кубанский («Ледяной») поход - С. В. Волков - Страница 4
Раздел 1
И. Какурин[79]
Первый кубанский генерала Корнилова поход[80]
ОглавлениеДон переживал новую драму в своей истории. В Новочеркасске остались Донской атаман генерал Назаров, правительство и войсковой Круг. Большевики, оккупировав территорию донских казаков и заняв 12 февраля Новочеркасск, умертвили независимость Дона и задушили его свободу. Этот всегда спокойный и патриархальный город захлестнула кровавая волна произвола и красного террора. Атаман генерал Назаров и до 600 донских офицеров были расстреляны, члены Круга посажены в тюрьмы, на Новочеркасск была наложена контрибуция в 5 миллионов рублей. Часть золотого запаса Государственного казначейства осталась в городе и досталась красным. В Ростове также шел красный террор и массовые расстрелы офицеров…
Пустынны и мрачны были ростовские неосвещенные улицы. Вдали, на Темернике и в районе вокзала, слышны были выстрелы. Колонна двигалась на Нахичевань и дальше, на станицу Аксайскую. В арьергарде шел Первый офицерский батальон. По выходе из Нахичевани дорога стала тяжелой: местами снежные заносы преграждали путь. Этот первый переход в 25 верст для большинства юношей был чрезмерно тяжел; многие из них вышли в поход прямо из караулов, после бессонной 24-часовой службы; другие, утомленные физически, не имели возможности подкрепить свои силы перед выступлением, короче говоря, были очень голодны. Дул холодный ветер, снег скользил под ногами, тяжелая сумка и винтовка оттягивали плечи, патронташи давили грудь и не давали свободно вздохнуть, а идти нужно было быстро, не отставая от своих. После 4-часового марша люди устали, продрогли и проголодались.
10 февраля рано утром началась переправа частей через Дон, на котором лед уже местами начал таять и трещал. Генерал Корнилов со своим конвоем, верхом, переехал Дон и, остановившись на другом берегу, пропускал проходившие части, здороваясь с ними. Проходит пехота: офицерские батальоны, Корниловский полк, Юнкерский и Студенческий батальоны, донские партизанские отряды полковника Краснянского, есаула Лазарева, чернецовцы капитана Курочкина. Самых юных солдат армии генерал благодарит за их первый такой для них тяжелый ночной переход. Орудия снимаются с передков и перекатываются руками, лошади переводятся отдельно, снаряды перевозятся на подводах. С высокого берега от Аксайской в это ясное, слегка морозное утро далеко видна бескрайная белая степь, по которой ползет бесконечная черная лента людей и повозок. Дон остался позади. На душе стало спокойнее. После полудня вся армия сосредоточилась в станице Ольгинской, расположившись на широких квартирах. Красные не преследовали армию, лишь два их аэроплана пролетели над колонной на большой высоте и сбросили несколько бомб, разорвавшихся в стороне от дороги. Сторожевое охранение было выставлено во все стороны, а в станицу Хомутовскую выслан сильный конный разъезд.
11 февраля красные со стороны Нахичевани дали несколько орудийных выстрелов, да их небольшая конная часть атаковала партизанский отряд сотника Грекова, но была им отбита с потерей для отряда одного убитого и трех раненых. В станице Ольгинской армия оставалась четыре дня.
Всего в армии было бойцов до 4000, из коих 1200–1300 донцов, влившихся после оставления Новочеркасска мощной группой в Добровольческую армию, пополнив последнюю в станице Ольгинский и в станице Кагальницкой на треть боевого ее состава. А с двумястами ранеными и небоевым элементом – около 4500 человек, 8 орудий, 700 снарядов и десятка два пулеметов.
В отношении Партизанского полка нужно сказать еще следующее: 3 февраля 1918 года в Ростов, в штаб Добровольческой армии, выехали из Новочеркасска три офицера лейб-казака: есаул Я. Рыковский[81] и подъесаулы Н. Плеве[82] и Ф. Рыковский[83]. Они зачислены были в донской партизанский отряд полковника Краснянского, численностью в 120 штыков, состоявший на три четверти из донских офицеров и на четверть – из юнкеров, кадет и гимназистов и разделенный на два взвода. Есаул Я. Рыковский был назначен командиром 1-го взвода, а подъесаул Плеве – его помощником. Подъесаул Ф. Рыковский, как прибывший с лошадью, был зачислен ординарцем отряда, причем вторым конным ординарцем был корнет А. Жеребков[84], внук коренного лейб-казака и сам впоследствии офицер полка. 9 февраля из Ростова, в составе Добровольческой армии, выступило четыре донских партизанских отряда, носившие названия по фамилиям их начальников: отряды Краснянского, Лазарева, Грекова и Чернецова[85]. Последнего уже не было в живых, но отряд сохранил имя своего доблестного начальника. Командиром Чернецовского отряда был сподвижник Чернецова капитан Курочкин. В станице Ольгинской эти отряды были сведены в Партизанский полк, численностью в 600 штыков, под командой генерала Богаевского. Отряды стали именоваться сотнями, сохранив свои названия: 1-я сотня Краснянского, 2-я – Лазарева, 3-я – Чернецова. Отряд сотника Грекова сохранился и далее как отдельная единица, но вскоре он был расформирован и влит в воинские соединения армии.
13 февраля группа лейб-казаков, пришедших с подступов Новочеркасска в Ольгинскую, а именно: подъесаул С. Краснов[86], хорунжие Н. Ляхов[87], братья С.[88] и Г.[89] Чекуновы, подхорунжий Г. Мигулин[90] и казак Харламов, присоединились к однополчанам, состоявшим уже в Добровольческой армии. Подъесаул С. Краснов, привезший с собою пулемет, был назначен командиром пулеметного взвода и был подчинен командиру 1-го взвода есаулу Я. Рыковскому. Номерами при пулемете состояли хорунжие Н. Ляхов и братья С. и Г. Чекуновы, подхорунжий Мигулин и казак Харламов. От прибывших добровольцев узнали об обстановке в Новочеркасске и выступлении двухтысячного отряда донцов походного атамана генерал Попова, двинувшегося в Сальский округ. Кроме вышеупомянутых лейб-казаков, в состав Партизанского полка вошли следующие офицеры Войска Донского, впоследствии офицеры лейб-гвардии Казачьего полка: хорунжие И. Какурин, И. Усачев[91] и Л. Упорников[92]; прапорщики О. Балабин[93], К. Солтысов[94] и В. Скалозубов[95]. Получилась уже внушительная лейб-казачья группа в 16 бойцов, принявшая активное участие в походе генерала Корнилова.
При Партизанском полку был очень хороший перевязочный отряд, включенный в состав полка вместе с отрядом Чернецова, при котором он был сформирован. Этот отряд давал возможность возить своих раненых при полку. Ни один из раненых в походе партизан не был оставлен на милость красным в Елизаветинской, Гначбау и Дядьковской. Здесь будет уместно упомянуть, что в первом Кубанском походе приняла участие в качестве сестры милосердия сестра лейб-казаков братьев Рыковских, Ольга Федоровна[96], впоследствии супруга лейб-казака полковника К. Р. Поздеева[97].
12 февраля на втором заседании военного совета генерал Корнилов решил двигаться на Кубань, на Екатеринодар. В тот же день утром из Новочеркасска выступила на станицу Богаевскую Баклановская конная сотня, численностью в 50 шашек, под командой есаула Власова. В состав этой сотни вошел и автор этого очерка, впоследствии переведенный в команду офицеров-ординарцев при штабе генерала Богаевского.
13 февраля в Ольгинскую к генералу Корнилову прибыл в сопровождении своего начальника штаба походный атаман генерал Попов. Генерал Корнилов предложил ему присоединиться к Добровольческой армии, но генерал Попов отказался, мотивировав отказ настроением своего отряда, не желавшего покидать Дон, в чаянии в его степях выждать пробуждение донского казачества.
14 февраля утром подъем и выступление в дальнейший путь. Тяжело идти по густой, липкой черноземной грязи, особенно авангарду. К вечеру, пройдя 20 верст, армия втянулась в станицу Хомутовскую, куда уже раньше были высланы квартирьеры, и расположилась на ночлег.
15 февраля в прежнем порядке, по такой же тяжелой дороге, пройдя 20 верст, армия пришла вечером в станицу Кагальницкую, где и расположилась на ночлег, выставив охранение.
16 февраля во время дневки в конный дивизион полковника Глазенапа влились: донская сотня имени генерала Бакланова, под командой есаула Власова, и сотня есаула Бокова и несколько добровольцев донских казаков. После этого пополнения в дивизионе полковника Глазенапа насчитывалось около 300 шашек. В Кагальницкой армия простояла два дня, не тревожимая противником.
17 февраля армия совершила переход в 27 верст по вязкой грязи в станицу Мечетинскую. Конный дивизион полковника Глазенапа оставлен на сутки в станице Кагальницкой.
18 февраля – дневка в станице Мечетинской.
19 февраля – переход в 26 верст в последнюю донскую станицу Егорлыцкую. Конный дивизион полковника Глазенапа между Мечетинской и Егорлыцкой устроил засаду большому красному отряду, шедшему по пятам армии, и нанес ему такие тяжелые потери, что отряд красной гвардии в расстройстве повернул назад.
20 февраля – дневка. Принято окончательное решение двигаться на Кубань. Отряд походного атамана генерала Попова в это время подходил к станице Великокняжеской. За минувшие дни потеплело и дороги подсохли, что весьма радовало добровольцев.
21 февраля утром Добровольческая армия выступила из Егорлыцкой на село Лежанка Ставропольской губернии, находящееся в 22 верстах южнее. В авангарде шел Офицерский полк с батареей. Противник, увидев идущую в воде цепь, открыл по ней огонь. Генерал Марков с одной из рот атакует мост. Красные не выдерживают атаки и стремительно бегут в село, преследуемые нашим огнем. В этом бою ярко сказался недостаток у нас конницы: ни хорошей разведки, ни энергичного преследования противника не было. И в других боях мы это чувствовали.
В этот день генерал Корнилов выслал к походному атаману генералу Попову офицерский разъезд из офицеров 6-го Донского казачьего полка в 15 шашек под командой подполковника Ряснянского[98] с новым предложением о соединении с Добровольческой армией. Подполковник Ряснянский настиг отряд походного атамана в станице Великокняжеской и поручение передал, но генерал Попов вновь категорически отказался покинуть Донскую область.
22 февраля армия отдыхала в селе Лежанка, наполовину оставленном жителями. Убитые офицеры с воинскими почестями были погребены на местном кладбище. Генералы Алексеев и Корнилов проводили их до места вечного упокоения.
23 февраля утром армия выступила из Лежанки на станицу Плосскую Кубанской области. Конный дивизион полковника Глазенапа несколько раньше был выслан в направлении на селение Белая Глина Ставропольской губернии для отвлечения внимания противника от истинного направления движения главных сил. В арьергарде шел Офицерский полк с батареей. Установилась теплая погода, дорога была сухая и идти было легко. Совершив 20-верстный переход, армия остановилась на ночлег в первой кубанской станице Плосской, разместившись там по квартирам. Сразу же всех поразила резкая противоположность тому, что было в Лежанке: станица не была оставлена жителями и казаки встретили добровольцев приветливо и радушно.
24 февраля армия двинулась дальше в западном направлении, имея в арьергарде Офицерский полк с батареей. Сделав в хуторе Ново-Ивановском двухчасовой привал, армия перешла на ночлег в станицу Незамаевскую, пройдя за день 26 верст. В Незамаевской отношение к добровольцам было радушное. Эта станица первой из кубанских станиц дала армии пополнение – две сотни добровольцев, одну пешую и одну конную. Генералы Алексеев и Корнилов почти в каждой станице держали речи на станичных сборах.
25 февраля в 6 часов утра армия выступила из станицы Незамаевской на станицу Веселую. В арьергарде шел Чехословацкий батальон. Неожиданно на него наскочило два эскадрона красной конницы, но батальон не растерялся, развернулся против неприятеля, а один из пулеметчиков своим метким огнем нанес большие потери красным и они быстро повернули обратно. Пройдя всего лишь 15 верст, армия остановилась в станице Веселой и расположилась по квартирам. Около 10 часов вечера армия двинулась дальше, имея в авангарде Офицерский полк, Юнкерский батальон, Техническую роту и батарею, под общим начальством генерала Маркова.
Предстояло ночью перейти линию Владикавказской железной дороги между важными железнодорожными узлами Тихорецкая и Сосыка. Обе станции были заняты крупными отрядами красных, между ними – курсантами бронепоезда, а на станциях стояли эшелоны, готовые к переброске в угрожаемый пункт. Поэтому нужно было перейти железную дорогу ночью и как можно скорее. Перед выступлением все были предупреждены о цели движения; запрещены разговоры, курение; приняты всевозможные меры предосторожности. Чтобы ввести противника в заблуждение, колонна двигалась сначала на запад, на станицу Павловскую, но, пройдя верст десять, у хутора Упорный авангард круто свернул на юг. Наш обоз в темноте случайно оторвался от общей колонны, подошел почти на 3 версты к станице Павловской, занятой противником, и только счастливая случайность спасла его от гибели. В полной тишине шли всю ночь. Руки немели от винтовок, ноги наливались тяжестью, глаза слипались, одолевал сон, но шли и шли безостановочно в эту холодную, сырую ночь. По пути прошли по топкой гати, и около двух часов драгоценного времени нам пришлось потерять, чтобы сделать настил для провоза орудий и обоза по этой мягкой соломенной плотине, среди зарослей камыша. Прошли мост через реку Тихонькая.
26 февраля в предрассветном сумраке авангард вошел в станицу Новолеушковскую и, не задерживаясь в ней, продолжал путь, но уже в западном направлении и, пройдя еще 5–6 верст, в ясное солнечное утро вышел на железнодорожный переезд, пропуская мимо себя армию и походный лазарет. Однако переход армией железной дороги не прошел спокойно: с севера, со стороны станции Сосыки, подошел бронепоезд красных и начал обстрел переезда. Оказалось, что линия железной дороги была подорвана слишком близко, но бронепоезд скоро отогнала наша батарея, выехав на версту вперед. Когда прошли последние части, тронулся за ними и Офицерский полк с батареей. Только ночью арьергард вошел в станицу Старолеушковскую, где армия, сделав в течение 37 часов с шестичасовым перерывом переход в 60 верст, расположилась на ночлег.
27 февраля при отличной теплой погоде и по хорошей дороге армия спокойно перешла в станицу Ирклиевскую, находящуюся в 20 верстах южнее, и здесь расположилась на ночлег.
28 февраля дневка в Ирклиевской прошла спокойно. Добровольцы отдохнули и, кто мог, починили сапоги и одежду. Здесь от местных жителей услышали темные слухи, что Кубанский атаман и правительство с верными ему казаками уже покинули Екатеринодар, который и занят красными.
1 марта утром армия двинулась на станицу Березанскую, находящуюся в 18 верстах южнее. В авангарде шел Корниловский полк с батареей, Офицерский полк шел в голове главных сил. В ясный солнечный день, после полудня авангард спокойно подходил к станице Березанской, но неожиданно был встречен с большого расстояния сильным ружейным и пулеметным огнем из вырытых вокруг станицы окопов. Здесь нас впервые встретили с оружием в руках кубанские казаки. Бой был краток: огонь артиллерии и быстро наступавшие цепи корниловцев и Офицерского полка заставили красных сначала одиночками, а затем и всей своей массой подняться и бежать из окопов, бросая пулеметы и винтовки. Конный дивизион обошел станицу и преследовал противника до станицы Журавской, находящейся в 12 верстах южнее, и занял ее. Офицерский полк после небольшого привала в Березанской также перешел в Журавскую, пройдя за день до 30 верст и проведя бой. Потери в бою были ничтожны. Остальные части армии остались на ночлег в Березанской.
2 марта вся армия перешла в станицу Журавскую, выделив Корниловский полк и конный дивизион полковника Гершельмана для занятия станции Выселки, находящейся в 10 верстах восточнее на линии железной дороги Тихорецкая – Екатеринодар. При подходе Корниловского полка к Выселкам противник открыл артиллерийский огонь. Стремительной атакой батальона корниловцев, поддержанных огнем нашей батареи, станция была взята. Кроме пленных, захватили пулеметы, немного снарядов, большую партию сахара и в одном из вагонов дамское белье. Передав взятую станцию конному дивизиону полковника Гершельмана, корниловцы перешли на ночлег в хутор Малеванный, находящийся в нескольких верстах от станции Выселки. Дивизион полковника Гершельмана не выставил должной охраны и не подорвал железнодорожное полотно в сторону Тихорецкой, стоял беспечно, и этим воспользовались красные. Неожиданно подошедший бронепоезд красных выбил наших конников с потерями со станции, а подвезенная в эшелонах красная пехота и матросский отряд заняли станцию, поселок и каменное здание паровой мельницы. Создалась угроза нашему флангу. Генерал Корнилов приказал генералу Богаевскому восстановить положение и на рассвете атаковать и взять станцию и селение Выселки. Генерал Богаевский отдал распоряжение о сборе своего Партизанского полка к трем часам ночи. Ночь была темная и холодная. Разбросанные по многим хатам и сараям партизаны, только что разбуженные, немедленно же засыпали опять мертвым сном, а многих и найти было невозможно в эту темную ночь. Наконец, после больших усилий, с помощью старших офицеров удалось собрать почти весь Партизанский полк, кроме сотни есаула Лазарева, который еще не прибыл на сборный пункт. Дожидаться его уже было невозможно: было уже около 4 часов утра 3 марта, и ночная тьма стала редеть. До станицы было около 10 верст – три часа ходу. Двинулись…
Тихое, холодное, морозное утро. Невыспавшиеся, голодные, полусонные партизаны сумрачно шагали по дороге. В голове шла 1-я сотня полковника Краснянского и 1-й взвод лейб-казака есаула Я. Ф. Рыковского. Орудия батареи шумом колес обнаруживали наше движение. Стало уже светло, когда партизаны подходили к цели. На горизонте начали вырисовываться постройки станции и селения Выселки.
Партизаны начали разворачиваться в боевой порядок. Справа развернулись стрелковые цепи чернецовцев, слева – краснянцы и без выстрела двинулись вперед. Батарея стала на позицию и едва успела выпустить первую гранату по железной дороге станции, как там отчетливо и звонко раздался звук кавалерийской трубы, игравшей тревогу и сбор, и вслед за этим жидкие цепи партизан были встречены жестоким ружейным огнем из крайних построек и окопов и пулеметным во фланг из обширного каменного здания паровой мельницы. Открыл огонь и красный бронепоезд. В это время над горизонтом показалось солнце; его яркие лучи били партизанам прямо в глаза, крайне затрудняя прицелку. Неприятель расстреливал партизан на выбор. Один за другим падают убитые и раненые. Легло много чернецовцев, которые вначале даже ворвались в селение, но потом вынуждены были отойти; не выдержали поредевшие цепи, подались назад и залегли. Началась перестрелка в крайне невыгодных для партизан условиях: на открытом поле, солнце в глаза; противник хорошо укрыт, а у партизан за отсутствием лопат нет никаких укрытий. А в это же время против левого фланга краснянцев появился красный пулемет с прикрытием, который жестоким огнем начал осыпать всю нашу цепь. Часть партизан повернулась к нему и завязала с ним перестрелку. В резерве осталась еще сотня есаула Лазарева, уже подошедшая в это время к полю сражения. В случае контратаки противника этих сил не хватит для ее отражения, но помощь была уже близка: сзади, по обе стороны дороги, быстрым шагом, не ложась, двигались стрелковые цепи Офицерского полка с генералом Марковым и батареей; за ними вдали – конная группа с национальным флагом, – то был генерал Корнилов со штабом. На горизонте, со стороны хутора Малеванного, быстро идет густая стрелковая цепь, заходя во фланг и тыл красным: очевидно – корниловцы. Противник растерялся и стал разбрасывать свой огонь. Есаулу Лазареву с его сотней приказано усилить краснянцев слева и атаковать противника во фланг, а боевой части перейти в атаку одновременно с Офицерским полком. Стройно повел свою сотню есаул Лазарев; офицерские роты ускорили движение на гребень. Едва поднявшись на него, они столкнулись с наступавшими густыми цепями противника. С дистанции в 50 шагов партизаны ринулись в штыки. Местами произошел короткий рукопашный бой; красные были опрокинуты. Расстояние быстро увеличивалось; офицерские и партизанские цепи, продолжая наступление, преследовали противника огнем, но, встреченные огнем многих пулеметов из построек поселка, залегли.
Тем временем красные с помощью резервов снова перешли в наступление. Блеснули клинки шашек, и лава донцов в 40 шашек с гиком бросилась в атаку на матросов; короткие залпы противника, и казаки врубились в наступавших матросов. Генерал Марков воспользовался замешательством противника и бросился бегом с цепью в атаку, поддержанную всеми остальными частями, а батареи привели к молчанию пулеметы, установленные в здании мельницы, и принудили бронепоезд уйти в сторону Тихорецкой. Генерал Корнилов в решающий момент атаки станции был с цепями.
Станция и поселок Выселки были нами взяты и противник разбит, но красные, в составе коих были матросы (около 150 человек, погибли почти все), казаки станицы Суворовской и солдаты 39-й пехотной дивизии проявили на этот раз большое упорство, известную организованность и нанесли добровольческим частям, особенно Партизанскому полку, тяжелые потери. Смертельно ранен был полковник Краснянский (на другой день он умер), убит есаул Власов, ранен есаул Лазарев; больше 80 партизан выбыло из строя, среди них убитых – почти половина, в том числе несколько мальчиков-кадет Донского корпуса. Из первого взвода есаула Я. Рыковского в 50 человек выбыло 13 бойцов. После боя командиром краснянцев был назначен полковник Писарев. На станции был захвачен специальный поезд-мастерская для исправления железнодорожного полотна; его облили керосином и сожгли.
Стало известно об отряде кубанских добровольцев полковника Покровского; несколько дней тому назад здесь, в Выселках, эти части потерпели неудачу в бою с красными, понесли большие потери и отошли к Екатеринодару и, по словам прибывшего из Екатеринодара офицера, будто бы даже оставили Екатеринодар и двинулись на юг, в горы. Офицерский полк, техническая рота и батарея расположились на ночлег в Выселках и в близлежащей станице Суворовской. Партизанский и Корниловский полки со взятием Выселок ушли на ночлег в станицу Журавскую. Перед заходом солнца тела есаула Власова и 33 убитых партизан были преданы земле на местном кладбище. Армия шла по кубанским степям, оставляя на своем пути безымянные могилы…
4 марта на рассвете армия выступила на станицу Кореновскую, находящуюся в 15 верстах южнее. В авангарде шел Юнкерский батальон с батареей, в арьергарде – Партизанский полк с батареей. Красная армия Северного Кавказа под командованием бывшего фельдшера, кубанского казака Сорокина решила остановить движение Добровольческой армии на Екатеринодар и сосредоточила у станицы Кореновской на заранее укрепленной позиции до 10 тысяч бойцов с многочисленной артиллерией и двумя бронепоездами, то есть силы противника в четыре раза превышали боевую силу Добровольческой армии. Качественно вся эта масса была на большой высоте, хорошо руководима, упорна и активна. Меткость стрельбы красной артиллерии и двух бронепоездов была такой же, как и в офицерских батареях. Среди красных было много матросов и кубанские казаки Суворовской станицы.
Для боя развернулись все части Добровольческой армии. В обход станицы справа были двинуты Партизанский полк и Юнкерский батальон с батареей. С фронта наступали корниловцы, а на левом фланге – Офицерский полк с батареей. Задачей Офицерского полка было взятие массивного железнодорожного моста через реку Бейсужек и затем железнодорожной станции Станичная. Бой начался с утра, и в течение дня несколько раз назревал кризис. Атаки корниловцев и Офицерского полка чередовались с контратаками красных, массами наступавших на наши редкие цепи. Положение спасают то самоотверженные пулеметчики, все перераненные, но открывавшие меткий огонь в 100 шагах от противника, то образовавшийся в другом месте прорыв затыкается «резервом» из 10–12 легко раненных юнкеров, возвращающихся после перевязки в строй. Особенно тяжелые потери наносил добровольческим частям бронепоезд красных, который так и не удалось окончательно подбить: снаряды были все израсходованы; в артиллерийском парке оставалось к концу боя всего 30 шрапнелей.
Генерал Корнилов все время находился в буфере огня. Генерал Марков, полковник Неженцев, генерал Казанович лично водили в атаку свои части. Наступил критический момент боя. Генерал Корнилов прислал генералу Богаевскому приказание атаковать станицу с запада. Обоз с сотнями раненых с уходом Партизанского полка был оставлен без прикрытия. Наконец, около 3–4 часов дня наш правый фланг, Партизанский полк и Юнкерский батальон перешли в атаку, охватывая станицу справа и выходя ей в тыл. Офицерский полк, а затем и наиболее пострадавший Корниловский поддерживают атаку, и красные бросаются назад, ища спасения в камышах реки Бейсужек и переходя ее вброд. Противник толпами бежал на станцию Станичная и левее в лесок, и только с подходом 3-й роты и после того, как по бронепоезду и станции открыла с тыла огонь и 2-я батарея, бронепоезд ушел и 3-я рота ворвалась на станцию. После отбития сильной контратаки красных последние отошли. Станица и станция были взяты.
При выходе из Кореновской на дорогу, ведущую в станицу Усть-Лабинскую, генерал Богаевский с конвоем и ординарцами наткнулись на отходившую цепь красных, которые, увидев нас, стали втыкать винтовки штыками в землю и поднимать руки вверх. Увидя это, генерал Богаевский скомандовал: «Конница вперед!» Когда же жиденькая лава в 20 всадников, в рядах которой находился и пишущий эти строки, поскакала к ним, то противник моментально выхватил винтовки и встретил лаву огнем почти в упор: к счастью, обошлось без потерь. Пришлось поспешно ретироваться и укрыться за ближайшие амбары, находящиеся на окраине станицы. Красные отошли к ближайшему леску, недалеко от железнодорожной линии. Вскоре со стороны Екатеринодара появился другой бронепоезд, сопровождаемый цепями красных. В это время станция была уже захвачена Офицерским полком, который разбирался в захваченной на станции добыче. Появление с тыла другого бронепоезда грозило Офицерскому полку тяжелыми потерями и последствиями. К счастью, бронепоезд, не доходя версты до станции, остановился и, послав несколько снарядов, сам попал под огонь нашей 2-й батареи и вышедших на юго-западную окраину станицы и далее к железной дороге корниловцев и Юнкерского батальона, и бронепоезд пошел назад вместе с цепями прикрытия и исчез с горизонта. Стрельба смолкла. Наступили сумерки. Противник побежден, но не разбит, как был разбит под Лежанкой и Выселками. Он отошел, сохранив порядок, и отошел он на каких-нибудь пять верст на станицу Платнировскую. На железнодорожной станции был захвачен целый состав, в котором оказались около 600 снарядов, ружейные патроны, много пулеметов, медикаменты, белье и продовольствие. На двух платформах в двух больших котлах был приготовлен для красных борщ, который использовали Офицерский полк и шедшая с ним батарея.
В этом бою добровольцы понесли тяжелые потери, особенно корниловцы и Офицерский полк; в общем наши потери выразились в 100 убитых и до 400 раненых. Во время боя при временных отходах наших цепей было видно, как красные прикалывали штыками наших раненых; видя это, некоторые раненые, имевшие револьверы, тут же стрелялись. Это особенно озлобляло и ожесточало добровольцев, и они рвались отомстить за красный террор. За два боя у Выселок и Кореновской походный лазарет армии увеличился почти на 200 подвод, на которых разместили новых раненых. Упорство противника стоило ему огромных потерь. Тела полковника Краснянского и убитых добровольцев были преданы земле на местном кладбище. Черные кресты да насыпи братских могил без слов говорили о великом тернистом пути первопоходников. Наши потери были несколько пополнены прибывшими в армию тремя сотнями кубанских казаков из станицы Брюховецкой.
5 марта – дневка в Кореновской; от нее до Екатеринодара 70 верст. В этот день было точно выяснено, что Кубанское правительство и отряд полковника Покровского с Кубанским атаманом полковником Филимоновым покинул Екатеринодар и ушел на юг за Кубань, но куда точно, не было известно. Теперь мы поняли, что обозначали виденные нами в последние ночи вспышки на горизонте, точно зарницы, и отдаленный гром днем: то уходили с боем кубанцы за Кубань. Это известие и доклад генералу Корнилову командирами полков о больших потерях и крайнем утомлении добровольцев понудили генерала Корнилова свернуть с прямого направления и идти в обход Екатеринодара на станицу Усть-Лабинскую. Цель – не Екатеринодар, а соединение с Кубанским отрядом полковника Покровского.
С утра красный бронепоезд несколько раз приближался к Кореновской и издали ее обстреливал. В направлении на станицу Платнировскую были видны цепи красных, занимавших позиции, а далеко сзади – дымки паровозов, очевидно подвозивших подкрепления. Бой под Выселками и Кореновской и уход Кубанского отряда полковника Покровского в аулы показали, что надежды генерала Корнилова, что кубанские казаки восстанут при приближении Добровольческой армии, не оправдались.
С наступлением темноты, в полной тишине, армия, имея в авангарде Корниловский полк, Юнкерский батальон и Чехословацкий с батареей, выступила на юг на станицу Усть-Лабинскую, находящуюся в 30 верстах к юго-востоку. В арьергарде шел Партизанский полк, насчитывавший в это время в своих рядах до 400 штыков. К арьергарду присоединилась 4-я рота Офицерского полка, бывшая в охранении, а также и батарея. Обойдя станицу Раздольную, колонна армии вышла на большой тракт на станицу Усть-Лабинскую.
6 марта. Армия шла спокойно всю ночь, и только рассвело, как партизанам пришлось отбиваться от преследующих армию красных сорокинцев. Генерал Корнилов избрал рискованный путь. Добровольческая армия вошла в «железный треугольник», образуемый железнодорожными линиями, соединяющими Екатеринодар, Кавказскую и Тихорецкую. Эти вершины треугольника были крупными базами противника; между ними курсировали бронепоезда. Там находились сильные гарнизоны и стояли эшелоны, готовые к переброске в угрожаемый пункт. Прямо перед армией, пересекая тракт, лежит железнодорожная линия, связывающая Екатеринодар с Кавказской. Далеко белеют дымки паровозов, спешно подвозящих и справа и слева эшелоны пехоты и артиллерии на помощь усть-лабинским большевикам. Налево – болото. Сзади наседает Платнировский отряд сорокинцев, преследующий армию. Направо – железная дорога на Екатеринодар.
К рассвету прошли половину пути. Утро принесло неприятность: погода изменилась к худшему, подул холодный ветер, небо покрылось тучами, стал накрапывать мелкий дождь, как вдруг тишину нарушил треск ружейной пальбы. Это красные из Платнировской догнали колонну армии и стали наседать на Партизанский полк, шедший с батареей и 4-й ротой Офицерского полка в арьергарде. Однако после решительного отпора противник стал осторожнее и не слишком напирал, но зато не давал нам покоя своей артиллерией. Перелетавшие снаряды падали и около походного лазарета. Партизаны сдерживали наседавших преследователей. Останавливаясь, быстро рассыпаясь в цепь и отстреливаясь и снова собираясь в колонну, арьергард дошел до хуторов, верстах в четырех от Усть-Лабинской. Здесь партизанам пришлось остановиться и принять бой по всем правилам. Двигаться вперед уже было невозможно, так как окраина станицы, железнодорожная насыпь и каменный мост через реку Кубань были заняты крупными силами противника, занимавшего свежевырытые окопы. С ними уже вступил в бой авангард под командой генерала Маркова. Наше положение было серьезное – во что бы то ни стало мы должны были пробиться через станицу и перейти каменный мост через глубокую, с крутыми берегами реку Кубань. Сзади энергично наседал Сорокин со значительными силами. Обоз с 500 ранеными попал между двух огней. Жуткое было ожидание для несчастных раненых и всего состава обоза. Все знали, какая ужасная участь грозила им в случае победы красных. Стоять приходилось на совершенно открытом поле, где не было никаких укрытий, и лавировать между фонтанами из земли от падающих гранат. Санитарный обоз нес потери от артиллерийского огня. Положение арьергарда становилось все труднее: партизаны еле сдерживали наседающих сорокинцев.
Корниловцы, шедшие в авангарде, быстро сломили сопротивление противника, захватили каменный мост через Кубань и увлеклись преследованием противника вдоль реки, не оставив заслона в сторону железнодорожной линии на Кавказскую. И вот, когда все слабые силы добровольцев были разбросаны на значительном пространстве в разных концах станицы, внезапно появился со стороны Кавказской эшелон красных. Поезд остановился верстах в двух, красные моментально разгрузились в поле, выкатили на руках 4 орудия, установили их на позицию и повели наступление на станицу. За головным эшелоном красных подошел бронепоезд, и на площади, где остановился штаб генерала Корнилова и часть обоза, стали рваться шестидюймовые снаряды. Осколком шрапнели был убит донец сотник Козьма Хохлачев. Генерал Корнилов отдал приказ: на площади поставить батарею, Корниловскому полку возвратиться назад, а Офицерскому полку повернуть против подошедших от Кавказской. 1-я батарея в течение трех четвертей часа, пока собирались другие части, удерживала противника. Контратаками подошедших частей противник был отброшен. Батарея принудила красную батарею к молчанию и подбила неприятельский бронепоезд. Красные, понеся большие потери, поспешно погрузились в поезд и исчезли с горизонта.
Путь через станицу и переправа через Кубань со слегка испорченным мостом свободны. Спешно проходят вперед походный лазарет, а за ним Партизанский полк с батареей. Армия еще раз выскочила из окружения, в данном случае полного.
Только ночью армия, пройдя еще 10 верст, втянулась в станицу Некрасовскую, совершив за сутки 46-верстный переход и проведя серьезный бой.
7 марта во время дневки противник обстреливал станицу Некрасовскую ружейным и артиллерийским огнем. Больше всего снарядов падало на площадь у церкви, где обычно в доме священника помещался генерал Корнилов со своим штабом. На совещании у генерала Корнилова было решено глубокой ночью с 7-го на 8 марта форсировать реку Лабу переходом вброд, так как мост через реку был испорчен красными. Начать эту операцию выпало Юнкерскому батальону.
8 марта. Красные отходили. Перепрыгивая с одной подводы на другую, поставленные рядом поперек реки, партизаны генерала Богаевского быстро перешли на противоположный берег Лабы и, перетащив батарею, энергично повели наступление на хутора, занятые красными, и сбили их. Противник отходил. Инженерная рота быстро навела мост, но для переправы артиллерии и санитарного обоза пришлось использовать слабый паром, и армия двинулась прямо на юг. Этим ясным солнечным утром вдали на горизонте были видны туманные синие горы Кавказского хребта. Мы вошли в местность, населенную вперемежку казаками, черкесами и иногородними крестьянами; последние отличались особой революционностью и ненавистью к казакам и к нам, добровольцам. Хутора мы находили почти пустыми. Население перебежало к красным, окружавшим нас, которые рассказывали всяческие ужасы о насилиях, якобы творимых нашими войсками, и население часто принимало самое деятельное участие в борьбе против нас, добровольцев. Эти хутора один за другим стали загораться. Их поджигали шедшие в авангарде кубанские казаки, мстя за их совместные с красными выступления против казаков и добровольцев. Это было жуткое зрелище. На ночлег армия остановилась в нескольких, близко один от другого расположенных хуторах Киселевских, находящихся в 20 верстах от Некрасовской. Противник находился в непосредственной близости.
9 марта. В этот день армия оказалась в наиболее тесном тактическом окружении, имея свой фронт всего лишь версты в две, а глубину своей колонны версты в четыре. Едва стало светать, колонна армии двинулась дальше на хутора Филипповские, находящиеся в 15 верстах южнее. Она вклинилась в расположение противника, в то же время преследуемая его частями из Некрасовской. Многочисленные хутора, пересеченная местность с небольшими рощами – все это затрудняло движение армии и давало прикрытие красным, которые хорошо это использовали и обстреливали ружейным и пулеметным огнем не только строевые части, но и походный лазарет с ранеными, который двигался в центре колонны, охраняемый со всех сторон. Хутор Филипповский защищался значительными новыми силами красных, засевших в окопах по гребню перед хутором. Офицерский и Корниловский полки с фронта, а Партизанский – в обход, не останавливаясь, пошли в атаку на окопы. Особенно ожесточенный бой был у партизан, туда была направлена из резерва 4-я офицерская рота. Красные, подпустив к окопам Офицерский полк шагов на 200, когда уже можно было различать даже их лица, вдруг стремительно очистили окопы и бросились в ближайший большой Княжевский лес, где и укрылись. Во время этой атаки генерал Корнилов, как всегда, находился вблизи наших стрелковых цепей. Пули все время посвистывали вокруг. Положение походного лазарета и обоза создавалось очень опасным, но с ними был оставлен генерал Марков с батареей, которая вела огонь на все стороны. Хутор Филипповский был взят почти пустым: все жители бежали. За минувший бой Офицерский полк потерял около 50 человек; немалые потери понесли и другие части.
Армия расположилась на ночлег в этом большом хуторе, выставив сторожевое охранение. Конница продвинулась дальше и заняла село Царский Дар. Ночью со стороны Екатеринодара доносился отдаленный гул артиллерийской стрельбы, а на темном небе слабо мерцали зарницы.
10 марта. Ночь прошла неспокойно, были две тревоги; красные наступали, но были отброшены. С раннего утра противник повел наступление на хутор Филипповский с тыла, со стороны пройденных нами накануне хуторов. Армия в это время выступала из хуторов на запад, имея в авангарде Корниловский полк и Чехословацкий батальон, еще накануне занявший переправу с мостом через реку Белую. Колонна армии двинулась по дороге на станицу Рязанскую. Партизанский полк, а в составе его и взвод есаула Я. Рыковского со всеми лейб-казаками сегодня в главных силах, за походным лазаретом. Дорога в двух-трех верстах от хутора поднималась на невысокий гребень, уже занятый крупными силами противника; лес в стороне – также занят им. Едва часть походного лазарета перешла по мосту на противоположную сторону реки, как с гребня правого берега долины по нему открыл огонь противник с дистанции в 800 шагов. Корниловцы с чехословаками перешли против него в наступление и несколько оттеснили его, но удержаться не смогли вследствие огромного превосходства сил противника и стали медленно отходить, залегли, начав окапываться. В тылу, в арьергарде тоже было тяжело: Юнкерский батальон, Техническая рота и конный дивизион с трудом сдерживали наседавших с тыла преследователей. Походный лазарет и обоз, сбившись в кучу и прижавшись к крутому скату правого берега долины, переживали тяжкие часы, так как снаряды красных все время падали среди них, взрывая огромные черные фонтаны земли, и разбили несколько подвод. Один снаряд разрывается вблизи экипажа генерала Алексеева и убивает его кучера-австрийца. Есть раненые и в обозе.
Несчастные раненые доходили до полного отчаяния, и многие из них уже спрашивали друг друга, не пора ли застрелиться. Положение впереди становилось все хуже. Уже начинают отходить чехословаки, расстреляв все свои патроны. К ним поскакал конвой генерала Корнилова и снабдил их патронами; чехословаки остановились, залегли; текинцы легли рядом, и цепь вновь открыла огонь. Наступление красных приостановлено. По приказанию генерала Корнилова офицеров и добровольцев, шедших с обозом и по наружному виду способных носить оружие, отводят в сторону, раздают им винтовки и патроны, и 120 человек с полковником во главе идут к высотам.
Уже начинает колебаться Корниловский полк. Мечется из части в часть горячий полковник Неженцев, видит, что трудно устоять против подавляющей силы, и шлет к генералу Корнилову ординарца с просьбой о подкреплении. Партизанский полк выдвигается вперед и усиливает левый фланг корниловцев, но и эта помощь не изменила положение. Из арьергарда срочно вызывается и Офицерский полк и вступает в бой. Три полка переходят в массивное наступление, и фронт красных, неся большие потери, покатился назад и исчез с горизонта. Техническая рота в спешном порядке зажгла мост через реку Белую, и наступление противника с тыла остановилось на линии реки. В арьергарде находился Юнкерский батальон с батареей и конный дивизион. Весь тяжелый бой окончился во второй половине дня. Армия сворачивается в походную колонну и уже беспрепятственно движется на станицу Рязанскую.
Говорили, будто бы от Кубанского отряда полковника Покровского к генералу Корнилову прибыл разъезд для связи, – следовательно, нужно ожидать скорого с ним соединения. Прибывший разъезд сообщил, что отряд ведет бой верстах в 50 к западу от нас. С запада доносился отдаленный гул артиллерийской стрельбы.
Авангард и главные силы с походным лазаретом, под начальством генерала Маркова, прошли дальше на запад, минуя Рязанскую, на аул Габукай. В станице Рязанской на ночлег остался только штаб армии и арьергард – Партизанский полк генерала Богаевского.
Что же касается реорганизаций конницы, и в частности лейб-казаков, то произошло следующее. Еще до соединения с Кубанским отрядом полковника Покровского генерал Корнилов, ощущая большую нужду в коннице, после боя под Кореновской, где у противника было захвачено небольшое количество лошадей, приказал посадить на них в первую очередь из рядов пехоты офицеров конных полков, поручив это сделать полковнику Гершельману. Осуществилась затаенная мечта лейб-казаков: во время дневки в Рязанской они получили трофейных лошадей. Конный взвод есаула Я. Рыковского, в составе всех девяти лейб-казаков и 25 кубанских казаков Брюховецкой станицы, вошел в состав конного дивизиона полковника Гершельмана.
11 марта. Армия медленно, рывками двигалась по сильно пересеченной местности. Глинистую лесную дорогу часто пересекают ручьи и речки. Перекинутые через них шаткие мосты на высоте 5–6 сажен ненадежны. Перешли реку Пшиш. В 2 часа ночи остановились в ауле Габукай, где отдохнули 4 часа и выспались. Габукай совершенно пуст, большевики вырезали часть населения, а оставшиеся ушли в горы. Красные разграбили сакли, даже ульи разрубили топорами, чтобы достать из них мед. На рассвете колонна армии двинулась дальше, на аул Гатлукай, где сделали привал на полчаса. Перед вечером пошли в аул Понежукай и расположились на ночлег по квартирам, выставив пехотное охранение, кавалерийские заставы и выслав разъезды.
12 марта. Ночь прошла спокойно. В ауле – мир; с высоких минаретов слышатся голоса муэдзинов, призывающих правоверных к молитве. Женщины с закрытыми чадрой лицами хлопочут по хозяйству. С наступлением темноты назначено выступление на аул Вочепший. Противник выступил из Рязанской по стопам армии и подошел к аулу еще засветло. Юнкерский батальон отбил их атаку. В назначенный час, когда уже стемнело, батальон стал сниматься с позиции, и как раз в это время красные атаковали снова. Едва не погибло одно орудие 1-й батареи, сорвавшееся с шаткого мостика и вырученное контратакой батальона; противник отброшен. Моросил дождь. Пропустив Юнкерский батальон, Офицерский полк с батареей пошел в арьергарде.
13 марта шли медленно всю ночь. Около полудня отряд генерала Маркова остановился на трехчасовой привал в ауле Вочепший. Дальнейший путь. В прикрытии – техническая рота, которая ведет перестрелку с наседающим с тыла противником. Как-то внезапно на нее налетел неприятельский грузовик, вооруженный пулеметами. Рота отбилась, но понесла потери, в их числе 5 без вести пропавших офицеров. Поздней ночью, проделав за сутки до 30 верст, отряд генерала Маркова пришел в аул Шенджий, где уже сосредоточились все остальные силы армии, и расположился на ночлег. Мы прошли в два дня около 80 верст по ужасным, размытым дождями лесным дорогам, чтобы скорее соединиться с Кубанским отрядом полковника Покровского. Для несчастных раненых это было тяжким мучением; для многих из них, при отсутствии перевязочного материала, хорошего ночлега и покоя, этот крестный путь окончился смертью.
14 марта. В ауле Шенджий произошла долгожданная встреча с генералом Покровским, прибывшим из станицы Калужской на свидание с генералом Корниловым.
15 марта из аула Шенджий рано утром выступили боевые части армии на станицу Ново-Дмитриевскую, находящуюся в 30 верстах южнее, а походный лазарет и обоз двинулись с прикрытием в другом направлении, на станицу Калужскую. Прикрывать походный лазарет пришлось конному дивизиону; другой конный дивизион получил специальное задание: произвести демонстрацию в направлении железнодорожной станции Эйнем, находящейся вблизи Екатеринодара. День был пасмурный, накрапывал мелкий, холодный дождик, низкие облака неслись, гонимые сильным, пронизывающим норд-остом. Становилось все холодней и холодней. Тщетно кутались добровольцы в свои жиденькие шинели. Дождь промочил насквозь их одежду, промокли ветхие сапоги и ноги. Так прошли половину пути. Норд-ост усиливался, его порывы сливались в сплошную бурю. Дождь превратился в ледяные иглы, больно бившие по лицу. Верхняя одежда смерзлась, покрылась тонкой ледяной корой и связывала движения рук и ног; полы шинелей ломались, как тонкое дерево. Лошади также покрылись тонкой ледяной корой и еле передвигали ноги. Добровольцы замерзали на открытых отрогах Кавказа…
Наконец вместо ледяных иголок стал падать снег. Крупные пушистые хлопья его падали гуще и гуще, и все стал затмевать степной буран. Грязное, черное поле быстро покрылось белой пеленой. С трудом можно было различать спину впереди идущего соратника. Дороги не видно. Колонна идет в белую кружащуюся мглу. В авангарде армии – Офицерский полк с батареей. Орудийные кони едва тянут орудия и зарядные ящики. Падают от изнеможения лошади, их заменяет резервными. Но при каждой остановке колеса орудий и зарядных ящиков вмерзают в землю; орудия сдвигают совместными усилиями лошадей и людей. У орудий и зарядных ящиков уже не колеса, а какие-то сплошные ледяные диски. Неимоверно тяжело идти людям. Медленно тащится колонна. Вдруг где-то очень близко впереди раздалось несколько выстрелов, заглушенных ветром. Колонна остановилась. Еще и еще… Через несколько минут, показавшихся вечностью, к голове колонны спереди привели нескольких пленных. Это была снята красная застава, стоявшая в какой-то придорожной усадьбе; часть людей заставы погибла, а оставшиеся в живых стояли перед колонной, подведенные к генералу Корнилову. Затем конные черкесы и текинцы и пленные с генералом Марковым ушли обратно, скрывшись в пурге. Колонна двинулась. Погода снова стала меняться: стихал ветер, и снег падал густыми хлопьями, как будто стало теплее, но кругом по-прежнему не видно ни зги. Вот и придорожная усадьба, но колонна прошла мимо. Время подходило к 17 часам. Об отряде генерала Покровского сведений нет, и посланные разъезды не нашли никого, кроме неприятельских дозоров. Оказалось, что около полудня отряд генерала Покровского, испугавшись бурана, неожиданно повернул назад и к вечеру возвратился в Калужскую. Такой поступок генерала Покровского весьма разгневал генерала Корнилова, и последний через пару дней отстранил генерала Покровского от командования отрядом.
Вдруг колонна остановилась: она уперлась в реку Черную, окаймляющую станицу Ново-Дмитриевскую. Маленькая речка после дождей и снегопада набухла, вышла из берегов и превратилась в грязный, бурный поток, снесший деревянный настил моста. Таким образом, переход реки вброд стал весьма затруднительным. Генерал Марков приказывает пленным войти в воду и исследовать брод. Барахтаясь и спотыкаясь, переходят они по грудь в ледяной воде на противоположный берег.
«Посадить пехоту на круп лошадей, и марш вперед!» – командует генерал Марков. Для переправы пехоты мобилизованы все верховые, а последних было весьма мало, так как вся наша конница ушла как прикрытие походного лазарета и обоза и для производства демонстрации в направлении железнодорожной станции Эйнем. Да и каждая лошадь после 3–4 рейсов в ледяной воде выше брюха с двумя всадниками на спине решительно отказывалась от работы. Один за другим офицеры с общей помощью взбираются на круп, и всадники, преодолевая упрямство своих лошадей, переправляют пехоту на противоположный берег. Пишущий эти строки также переправил на своем коне нескольких бойцов. Офицеры не могут без посторонней помощи взобраться на круп: вся одежда их покрыта ледяной корой, стесняющей движения рук и ног. Их подсаживают и поочередно переправляют на другой берег, там они скатываются с лошадей. Спешившиеся помогают спуститься следующим. Переправа идет медленно. Попытка соорудить новый мост из бревен и плетней усадьбы не удалась: было глубоко, и бурное течение сносило все. Переправившиеся офицеры карабкаются на довольно крутой обледенелый берег, скользят, падают. Руки коченеют от холодной как лед винтовки. Вытянувшейся толпой идут они к еще невидимой в темноте станице, находящейся в двух верстах от моста и переправы. Генерал Марков, оставив у переправы полковника Тимановского, вскочил на коня и поскакал к станице, обгоняя людей и торопя их.
Добровольцы, вошедшие в станицу, вступили в рукопашный бой с красными, которые, надеясь на погоду, совсем не ожидали нашего прихода. Три офицерские роты распространяются по станице веером. По улицам раздавались редкие выстрелы; действовали главным образом штыки. На одной из улиц на идущих офицеров налетает красная 4-орудийная батарея. Ей кричат «Стой!», в ответ следуют выстрелы. Результат: батарея остановлена, весь ее людской состав уничтожен. Офицеры шли дальше. Где-то влево раздались глухие орудийные выстрелы. Это два орудия противника, стоявшие на позиции значительно левее направления, по которому шли в станицу части Офицерского полка, открыли огонь. Их снаряды рвались в районе переправы, и одна граната угодила прямо в костер, убив 4 и ранив 22 добровольца, гревшихся вокруг него. К счастью, стрелявшие орудия быстро прекратили огонь. Оказалось, что по этим орудиям противника открыли огонь подошедшая 4-я рота Офицерского полка и одно орудие нашей батареи. Первый выстрел – и оно остановилось в положении полного отката, и никакими усилиями его нельзя было подать вперед, замерзло масло в компрессоре. Произведенный нами орудийный выстрел был единственным за весь бой. Но видимо, и он сделал свое дело, так как орудия красных прекратили стрельбу. Генерал Корнилов со штабом въехал в станицу вместе с передовыми частями. В это время переправа частей была в полном разгаре, и не столько на крупах лошадей, сколько пешим порядком. Вслед за Офицерским полком стали немедленно переправляться Корниловский и Партизанский полки, но с переправой батарей и боевого обоза произошла задержка. Благодаря длительной остановке не только колеса орудий, зарядных ящиков и подвод вмерзли в землю, но и лошади, окончательно промерзшие, уже не были в силах сдвинуть свой груз с места. Чтобы спасти лошадей, было приказано выпрячь их и отвести в станицу, а орудия, зарядные ящики и подводы оставить на переправе до утра, до того времени, когда будет приведен в порядок мост. Всю ночь подтягивались отставшие части, располагаясь где попало на ночлег. Время приближалось к полуночи. Порыв Офицерского полка слабел. Есть предел как силам физическим, так и моральным. Пройдена и занята лишь незначительная часть станицы, но противник (установлено, что в станице Ново-Дмитриевской в это время находилась и часть солдат 491-го пехотного Варнавинского полка. – И. К.) уже не оказывал никакого сопротивления. Невольная остановка перемешавшихся групп бойцов разных взводов и рот. Страдало тело от холода, от мокрой одежды и обуви. Тянуло к теплу, которое было вот тут, рядом. Группы офицеров стали заходить в дома и были уже не в силах оставить их…
Всю ночь Техническая рота и Юнкерский батальон работали на реставрировании моста. К утру вода в речке спала настолько, что открыла весь мост, что облегчило его починку. В станицу ушел Юнкерский батальон и расположился в домах на ближайшей окраине. Трудно представить себе, что перенесли за минувший день и ночь добровольцы, но сознание величия и важности дела, на которое они пошли, побороло все. В тепле, согревшись горячим чаем, они ожили…
16 марта с рассветом вошли в станицу остальные части армии, которые провели ночь перед переправой через реку Черную в очень тяжелых условиях. Весь день ушел на сушку одежды, белья, обуви, на очищение станицы от остатков красных, даже не знавших, что станица ночью была занята добровольцами. Орудия, оставленные за мостом и вмерзшие в землю, вывезли на волах. Утром генерал Марков собрал командиров рот Офицерского полка, батареи и других начальников. Офицерский полк потерял лишь 2 офицеров убитыми и 10 ранеными. Батарея потеряла 3 ранеными. Красные сосредоточили в станице до трех тысяч штыков и много орудий. С трех сторон станицы они вырыли окопы. Противник понес огромные потери убитыми. Добровольцами захвачено 8 орудий, снаряды, госпиталь и комиссары. А на позиции стояли брошенные те два орудия красных, которые ночью обстреливали переправу. Окопы были залиты водой.
Победа имела бы несравненно больший результат, если бы конница Кубанского отряда генерала Покровского выполнила данное ей задание, а не повернула бы назад, испугавшись непогоды. Штаб армии расположился в доме священника, а на площади, где-то в углу ее стояло насколько виселиц. В станице Ново-Дмитриевской мы провели целую неделю с 15-го по 23 марта, но отдых был неполный.
17 марта из станицы Калужской приехал Кубанский атаман с членами Кубанского правительства. В этот день у генерала Корнилова было совещание с Кубанским атаманом полковником Филимоновым, командующим отрядом генералом Покровским и членами Кубанского правительства. Члены правительства Кубанского края настаивали на сохранении самостоятельного Кубанского отряда. Это совещание шло в то время, когда на южной окраине станицы разгорался бой с наступавшим противником и когда в районе штаба рвались неприятельские снаряды. Это повлияло на представителей Кубанского края, и вскоре был подписан протокол совещания. Кубанский правительственный отряд перешел в полное подчинение генералу Корнилову. Генерал Покровский остался не у дел. Наступавшие красные частично ворвались в станицу, но на улицах они были смяты и в беспорядке, уже под покровом темноты, бежали в свое исходное положение. Из Калужской же перешел и походный лазарет. От раненых и персонала мы узнали об отчаянной трагедии, пережитой ими за время похода и особенно в день 15 марта, день «Ледяного похода», из аула Шенджий в станицу Калужскую, и затем 17 марта, когда их везли из Калужской в Ново-Дмитриевскую. Пришлось трястись по непролазной грязи, испытывать боли после каждой минутной остановки от рывков уставших лошадей. Многие раненые умерли от заражения крови. В походе не могло быть хирургического вмешательства, не хватало медицинских средств, даже просто бинтов для перевязок, даже при полной жертвенности сестер милосердия, давно разорвавших на бинты запас своего белья. Все, что доставалось ими у казачек, быстро иссякло. О сестрах милосердия все говорили с необычайным восторгом и глубокой благодарностью. Немало раненых в походе покончили с жизнью самоубийством. В Ново-Дмитриевской раненые в первый раз были размещены по домам в хороших условиях и нетревожимые пробыли в них пять суток. Но и тут смерть не оставляла их. (Из донских кадет-чернецовцев следует упомянуть участников похода Сергея Воронина, впоследствии сотника л. – гв. Казачьего Его Величества полка, и Владимира Полякова, сотника л. – гв. 6-й Донской казачьей Его Величества батареи, ныне благополучно здравствующих. – И. К.)
В походном лазарете и раненые, и медицинский персонал нередко находились в сфере артиллерийского и ружейного огня противника. Много сестер в походе заплатили жизнью за свой подвиг, многие были ранены. Я упомяну лишь некоторых из убитых и раненых сестер – уроженцев Новочеркасска: убиты – Вавочка Грекова у Екатеринодара и Ольга Горшкова у Горькой Балки; ранена Домна Сулацкая и другие. Эти чудные, светлые женщины и девушки – сестры милосердия – снискали к себе всеобщую любовь и уважение как своим самоотверженным уходом за ранеными и больными, так и своею доблестью и пренебрежением к смерти. Одна из них, сестра лейб-казаков братьев Рыковских, Ольга Федоровна, в расцвете своей юности приняла участие в походе генерала Корнилова сестрой милосердия, доблестно переносила все тяготы похода и боевой страды.
18 марта утром неприятель повел наступление с двух сторон, от станицы Григорьевской и Георгие-Афипской, и снова был отбит Партизанским полком, корниловцами и Юнкерским батальоном. В последующие дни красные больше не наступали, и добровольцы отдохнули и привели себя в порядок, особенно нуждаясь в починке обуви. Сапоги приходилось снимать с убитых и пленных, так как купить их было невозможно, а для починки не было времени.
19 марта прибыл из Калужской Кубанский отряд и влился в Добровольческую армию. Добровольцы узнали о силе этого отряда – он почти удваивал мощность Добровольческой армии. В Кубанском отряде числилось до 2500 человек пехоты, 800 человек конницы, 12 орудий, 24 пулемета и одна радиостанция, а с ранеными, гражданскими лицами и обозом – до 400 человек. Таким образом, состав Добровольческой армии увеличился до 6000 бойцов, 16 орудий, около 50 пулеметов и радиостанции, а с ранеными, обозом и гражданскими лицами – до 9000 человек. В походном лазарете было до 700 человек раненых.
Когда произошло соединение с Кубанским отрядом, лейб-казаки, к обоюдной радости, увидели среди конницы генерала Эрдели кадр конвоя Его Величества, в составе которого находились полковник Рашпиль[99], есаулы Ветер[100] и Галушкин[101]. При встрече лейб-казаки и гвардейские кубанские казаки решают соединиться вместе. Генерал Корнилов пошел навстречу ходатайству полковника Рашпиля, и с его согласия была организована отдельная гвардейская казачья сотня под командой полковника Рашпиля в конном отряде генерала Эрдели. Состав сотни был следующий: лейб-казачий взвод есаула Я. Рыковского, 2-й взвод – офицеры и казаки конвоя Его Величества, 3-й и 4-й взводы – казаки Варшавского кубанского дивизиона – всего около 100 шашек. К сожалению, как увидим из дальнейшего, бытие этой сводной сотни оказалось кратковременным.
Во исполнение намеченного плана наступления на Екатеринодар 2-й бригаде генерала Богаевского было приказано выбить красных из станиц Григорьевской и Смоленской, откуда они могли ударить во фланг и тыл армии при ее наступлении на Георгие-Афипскую.
22 марта поздно вечером генерал Богаевский с бригадой выступил на станицу Григорьевскую, находящуюся в 10–12 верстах южнее. В авангарде шел Корниловский полк. Дорога была тяжелая: грязь по щиколотку, с кусками льда, порой лужи. Люди и лошади измучились, вытаскивая орудия, завязавшие в липкой грязи. Перед рассветом корниловцы вступили в бой. С окраины станицы, где у красных были окопы, противник встретил их жестоким ружейным и пулеметным огнем. Только ночь спасла корниловцев от огромных потерь, так как они наступали по ровному полю без всяких укрытий. Пули красных долетали до резерва в ближайший тыл и ранили людей. На перевязочном пункте около штаба генерала Богаевского один раненый офицер был ранен вторично, а третьей пулей убит. Одна пуля попала в адъютанта командира бригады корнета Жеребкова, лежавшего на бурке рядом с генералом Богаевским, но только контузила его. Одна пуля задела коня пишущего эти строки, когда я лежал на бурке рядом с офицерами-ординарцами штаба бригады, держа лошадь рукой за чумбур. Вдруг конь сильно рванулся и помчался в ночную тьму. Только через 10 дней я нашел моего боевого друга в немецкой колонии Гначбау. Корниловцы по липкой грязи атаковали окопы противника и после упорного сопротивления, понеся большие потери, сбили его и заняли станицу. Корниловцы в этом ночном бою потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. Противник отошел к станице Смоленской, до которой было всего около трех верст. Ввиду крайней усталости войск – тяжкого ночного перехода по липкой грязи, бессонной ночи и кровопролитного боя, – людям был дан отдых до полудня.
23 марта, отдохнув в Григорьевской, 2-я бригада в полдень перешла в наступление на Смоленскую, имея в авангарде Партизанский полк с батареей. Противник, заняв возвышенную окраину станицы, укрепился и встретил партизан жестоким ружейным и пулеметным огнем. Генерал Казанович сам был в стрелковых цепях, ободряя наступавших партизан. Только с большими усилиями и потерями удалось сломить сопротивление красных и взять станицу, в которой бригада и расположилась на ночлег, выставив охранение. Ночью генерал Богаевский получил приказание генерала Корнилова выступить с рассветом и одновременно с бригадой генерала Маркова атаковать с тыла и взять станицу Георгие-Афипскую.
24 марта с рассветом генерал Богаевский с бригадой двинулся на Георгие-Афипскую и, пройдя версты три, неожиданно попал под жестокий огонь с левого фланга. Оказалось, что пехотная колонна красных шла от станции Северной к Смоленской и, увидя нас, перешла в наступление. Меткий огонь нашей батареи и переход в атаку партизан заставили красных ретироваться. Мы продолжали путь, попали еще раз под меткий огонь артиллерии противника. Наши передовые части в отдельной усадьбе захватили десяток матросов, бывших в сторожевой заставе, и немедленно их расстреляли. Зверские подвиги матросов хорошо были известны всем, и потому этим негодяям пощады не было.
Бригаде генерала Маркова было приказано внезапным налетом перед рассветом атаковать и взять Георгие-Афипскую железнодорожную станцию и станицу, где находился центр закубанских красных отрядов. Бригаде генерала Богаевского приказано было поддержать эту атаку обходом противника слева и в тыл, а конной бригаде генерала Эрдели, обойдя Георгие-Афипскую, стремительным ударом захватить паромную переправу через реку Кубань у станицы Елизаветинской и самую станицу. Наступление 1-й бригады почему-то задержалось, и, когда она подходила к Георгие-Афипской, проделав ночной 20-верстный переход по густой грязи и лужам в низинах, стало уже светло. До станции оставалось еще до двух верст.
Вдруг сильнейший пулеметный огонь с бронепоезда обрушился на бригаду. Огонь, открытый красными, по своей силе превышал силу любого предыдущего боя. Положение добровольцев – отчаянное. Генерал Марков приказывает батарее отогнать бронепоезд, стоящий у станции. Первый же снаряд батареи лег на насыпи под вагоном бронепоезда; второй попадает в здание, в склад снарядов, и следует сильный взрыв снарядов. Красные вдруг вскочили и бросились бежать через железнодорожную насыпь. Бронепоезд немедленно дал задний ход в сторону Екатеринодара, вслед за ранее ушедшим и не вернувшимся назад, потому что там к железной дороге подходили 5-я и 6-я офицерские роты. Мгновенно рванулись вперед цепи бригады. Цепь Офицерского полка, поднявшись на полотно правее станции, увидела далеко убегавшего противника. Оказалось, что 2-я бригада смелой атакой с тыла взяла уже западную половину станицы. Как только 2-я бригада генерала Богаевского захватила западную половину станицы и станцию, с востока ворвалась в нее и бригада генерала Маркова, пользуясь тем, что растерявшиеся красные стали метаться по станице и оставили оборону массивного моста, через который и вошла 1-я бригада. Последний взрыв пулеметного и ружейного огня был в двух верстах от станции в сторону Екатеринодара: отходивший второй бронепоезд красных, оказавшийся вооруженным лишь многочисленными пулеметами, попал под огонь 5-й роты с дистанции 200–300 шагов. Вдруг паровоз окутался густым облаком пара, и поезд вскоре остановился – бронебойные пули повредили сухопарник. Юнкера быстро атаковали, захватили поезд и уничтожили задержавшихся на нем матросов. Бой кончился. Наступала ночь.
В станицу Георгие-Афипскую вступали 2-я и 1-я бригады и сейчас же санитарный обоз из Ново-Дмитриевской, где он в тревоге оставался до конца боя за Георгие-Афипскую. Вся станица оказалась забитой пришедшей армией. Во многие дома свозили раненых. Генерал Богаевский собрал после боя на площади у железнодорожной станции свою бригаду для встречи генерала Корнилова, приехавшего благодарить ее за решительную атаку и взятие станицы. Только к вечеру все части и обоз расположились на ночлег.
В этом бою Офицерский полк понес большие потери: до 150 человек. Немалые потери понес и Кубанский стрелковый полк. Станцию и станицу оборонял отряд красных, численностью до 5000 человек с двумя бронепоездами. Среди захваченных трофеев особенную ценность имели около 700 снарядов, которые находились в соседнем со взорванным здании. Наступила ночь. Генерал Марков, взяв батальон кубанцев и роту Офицерского полка, повел их вдоль железной дороги на Екатеринодар, где и выставил сторожевое охранение на берегу реки Кубани в степи.
25 марта. Ночь прошла спокойно. После полудня штаб армии, 2-я бригада и походный лазарет выступили на аул Панахес, находящийся в 30 верстах севернее. Конная бригада генерала Эрдели с батареей была выслана еще накануне в обход Георгие-Афипской для захвата паромной переправы через Кубань у станицы Елизаветинской. Форсированным 90-верстным переходом конница генерала Эрдели, а в составе ее и лейб-казаки взвода есаула Я. Рыковского, захватили ночью переправу. 1-й бригаде было приказано остаться в Георгие-Афипской, выставить заслоны в сторону Екатеринодара и Новороссийска и взорвать железнодорожные мосты и полотно. 2-я бригада и походный лазарет сначала двигались вдоль полотна железной дороги, но потом пришлось свернуть в сторону, так как дальнейшему движению мешал своим огнем подошедший красный бронепоезд. Двинулись дальше уже ночью напрямик, без дорог. Нам пришлось идти по плавням реки Кубани, затопившей на много верст свой левый берег; пришлось почти все время идти по воде, сбиваясь с дороги, попадая в ямы и канавы. Этот переход был чрезвычайно труден. До наступления темноты идти было легче, но в темную безлунную ночь пробираться среди кустарников и попадать в глубокие протоки было мучительно. Лошади походного лазарета и обоза выбивались из сил; часть подвод даже была брошена. Стоны раненых, крики возчиков, хлюпанье грязи и воды наполняли воздух. Глубокой ночью 2-я бригада и походный лазарет вошли в аул Панахес и расположились на ночлег.
26 марта. Отдохнув несколько часов в ауле Панахес, мы прошли 10 верст дальше и утром начали переправу на пароме, который мог поднять не более 50 человек, или 16 всадников, или 4 запряженные повозки. Часть лошадей была переправлена вплавь в сопровождении лодок. С помощью еще другого парома и нескольких рыбачьих лодок конница и 2-я бригада к вечеру переправились на противоположный берег и заняли без боя станицу Елизаветинскую. Жители обширной, богатой станицы встретили нас спокойно. Корниловский полк выставил сторожевое охранение в сторону Екатеринодара. В этот день утром 1-я бригада оставила станицу Георгие-Афипскую и к вечеру пришла в аул Панахес, прикрывала переправу походного лазарета и обоза от возможного нападения красных с тыла. Огромным табором на левом берегу Кубани стоял лазарет и обоз. Раненые терпеливо ждали своей очереди, но в обозе с беженцами нервничали и старались попасть на паром вне очереди. У переправы генерал Марков наводил порядок. Переправа через Кубань была трудна технически и чрезвычайно смела по замыслу и выполнению. Всего нужно было переправить 9 тысяч человек, 4 тысячи лошадей и более 500 орудий, зарядных ящиков и подвод. Красные могли угрожать переправе как с тыла, со стороны Георгие-Афипской, так и с фронта от Екатеринодара в направлении на Елизаветинскую. К счастью, переправа, шедшая непрерывно днем и ночью трое суток, прошла спокойно, за исключением небольшой перестрелки 27 марта. Все же для охраны многочисленных раненых и остального обоза у переправы оставлена была вся 1-я пехотная бригада генерала Маркова; он нервничал, боялся, что Екатеринодар будет взят без него и его бригады, торопил переправу и наводил порядок в походном поселке, образовавшемся у переправы. Генерал Корнилов оставил треть своих боевых сил на другом берегу Кубани. Это было вопреки стратегическому правилу сосредоточения всех сил в кулак для нанесения сокрушительного удара, но во имя человеколюбия, ради защиты раненых и беззащитных беженцев в обозе от зверской расправы красных, могущих напасть на обоз с тыла.
27 марта. Ночь прошла спокойно. После полудня красные перешли в наступление со стороны Екатеринодара на станицу Елизаветинскую, обстреливая ее и переправу усиленным артиллерийским огнем. Генералу Богаевскому приказано отбросить противника. Красные сильно наседали на сторожевое охранение корниловцев. Уже полковник Неженцев ввел в бой весь свой полк. Ему на помощь двинулся Партизанский полк. Генерал Казанович смело повел партизан в наступление и после упорного боя у кирпичного завода, на полпути от Екатеринодара, сбил и отбросил противника до предместья города – фермы Экономического общества, в трех верстах от Екатеринодара. С наступлением темноты 2-я бригада возвратилась на ночлег в станицу, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение. Походный лазарет и обоз спокойно продолжали переправу. Этот успешный бой и дошедшие до штаба армии сведения о панике в городе и о будто бы начавшейся эвакуации красных побудили генерала Корнилова поспешить с нанесением решительного удара, и, отдав распоряжение о переброске из бригады генерала Маркова Кубанского пластунского батальона полковника Улагая, он решил на следующий день штурмовать Екатеринодар. Ночью генерал Богаевский получил приказ: вместе с конницей генерала Эрдели атаковать утром и взять город.
28 марта утром 2-я бригада, усиленная кубанскими пластунами и конницей, перешла в наступление на Екатеринодар. Генерал Казанович с Партизанским полком получил приказание атаковать город с западной стороны, полковник Неженцев с корниловцами – черноморский вокзал. Генерал Эрдели с конницей должен был обойти город со стороны предместья «Сады» и атаковать его с севера. Чрезвычайно затрудняли штурм города ничтожное количество артиллерии с весьма ограниченным количеством снарядов, каменные постройки и сосредоточенные противником превосходные силы. И против таких сил у нас было не более 4000 бойцов, не считая конницы. Армия не могла ввести в бой сразу все свои силы, задержанные переправой через Кубань. Сельскохозяйственная ферма и отдельные ближайшие к ней маленькие хуторки были прочно заняты красными. Генерал Казанович с Партизанским полком и Кубанским пластунским батальоном полковника Улагая повел на них решительную атаку и к полудню выбил их, заняв ферму и продвинувшись вперед к окраине Екатеринодара. После полудня приехал на ферму генерал Корнилов со своим штабом и разместился в доме, в котором было шесть больших комнат, разделенных коридором. Одну комнату занял генерал Корнилов, в другой была устроена перевязочная, в третьей помещался телефон. Остальные комнаты были заняты чинами штаба. Генерал Богаевский со своими офицерами и ординарцами поместился около рощи биваком. Корниловский полк повел наступление левее партизан на Черноморский вокзал и линию железной дороги, по которой курсировали красные бронепоезда, а конная бригада генерала Эрдели в это время совершила 100-верстный рейд в глубокий тыл противника, обойдя город со стороны предместья «Сады». Ей было приказано зайти в охват города с севера, северо-востока, взорвать железнодорожные пути по Черноморской, Тихорецкой и Владикавказской линиям. Задача эта была выполнена только частично, и гарнизон Екатеринодара беспрерывно пополнялся по этим железнодорожным веткам и людьми и боеприпасами. В этом рейде участвовали все лейб-казаки взвода есаула Я. Рыковского. Во время боя 28 марта 2-я бригада понесла тяжелые потери: генерал Казанович был ранен в плечо, но остался в строю; ранены: есаул Лазарев, полковник Писарев и Улагай. Перед казармами наступление, уже в сумерках, остановилось под сильным огнем противника, занимавшего отличную позицию. Левый фланг бригады оказался загнутым назад, так как встретил упорное сопротивление из «Садов» и с линии Черноморской железной дороги, на которой курсировали бронепоезда противника. Красные прочно заняли окраины Екатеринодара, вырыли окопы и засели в них.
29 марта с утра шла непрерывная перестрелка; красные стали осыпать ферму градом снарядов. Генерал Богаевский несколько раз переменил место своего бивака. Генерал Романовский несколько раз докладывал генералу Корнилову о неудобствах управления армией при таких условиях; но генерал Корнилов его не послушал, не желая уходить далеко от войск, а помещения ближе не было. По сведениям, полученным впоследствии, красных было в это время в Екатеринодаре до 28 000 человек с 2–3 бронепоездами, 20–25 орудиями с огромным запасом снарядов и патронов. После полудня подтянулись с переправы и все части 1-й бригады генерала Маркова и влились в боевую линию. Санитарный обоз с небольшим прикрытием был оставлен в Елизаветинской.
Генерал Корнилов решил повторить в 5 часов дня атаку на Екатеринодар всем фронтом. Она удалась только на правом фланге. 1-я бригада генерала Маркова после упорного боя овладела артиллерийскими казармами и начала закрепляться там. Атака артиллерийских казарм стоила Офицерскому полку огромных потерь – до 200 человек. А на левом фланге 2-я бригада, понеся тяжелые потери, не могла сбить противника и отошла на свои позиции. Убиты были командир Корниловского полка полковник Неженцев и его заместитель, в командование полком вступил полковник Кутепов. Убит командир 1-го батальона Партизанского полка, сподвижник Чернецова, капитан Курочкин. Конная бригада генерала Эрдели, совершив рейд в тыл противника, отходила к «Садам». В ночь на 30 марта генералу Казановичу со вторым батальоном партизан, численностью в 250 штыков при двух пулеметах, удалось прорваться в город, и он дошел до Сенной площади, но, не поддержанный соседями, оказался отрезанным красными, занявшими западную окраину города со стороны Черноморского вокзала, и на обратном пути ему пришлось пробиваться через линию красных в свое исходное положение. К утру 30 марта в боевом составе армии осталось во 2-й бригаде в обоих полках едва по 300 штыков, а в 1-й бригаде всего около 1200 штыков. Конница хотя и сохранилась, но не могла оказать существенной помощи. Везде противник оказывал упорное сопротивление и вводил в бой свежие силы. Их огонь не ослабевал.
30 марта. День прошел в перестрелке. Противник обстрелял наши позиции огнем ружейным, пулеметным, артиллерийским и бронепоездами в районе «Садов». Добровольческая армия в боях предыдущих двух дней понесла тяжкие потери. В лазаретах в Елизаветинской находилось 1500 раненых (четверть всего боевого состава армии). Ощущался острый недостаток в снарядах и патронах. За три дня 28, 29 и 30 марта удалось овладеть лишь частью предместья города, фермой, кирпичным и кожевенным заводами и артиллерийскими казармами.
Вечером в доме фермы состоялся военный совет, на котором, кроме генерала Корнилова, приняли участие генералы Алексеев, Деникин, Романовский, Марков, Богаевский и Кубанский атаман полковник Филимонов. Несмотря на понесенные громадные потери, особенно в командном составе, и несмотря на выяснившееся громадное численное и техническое превосходство противника, генерал Корнилов не отказывался от конечного штурма города, но, во внимание к крайнему утомлению войск, перенес его, по предложению генерала Алексеева, на утро 1 апреля, но судьба не дала ему провести в жизнь свой приказ. Силы противника, в это время сосредоточенные в Екатеринодаре, нужно исчислять между 25 и 40 тысячами. В районе артиллерийских казарм наблюдается усиленная активность противника. Ночью красные атаковали артиллерийские казармы и захватили несколько крайних зданий. Генерал Марков с офицерскими ротами переходит в контратаку. Их встречает жестокий огонь, разрывы ручных гранат. Офицеры залегают, они прижаты к земле; отползают раненые, их много; многие лежат неподвижно. Продолжение атаки невозможно, кое-как по цепи передается приказание «отползать». В Офицерском полку огромные потери. В «зоне смерти» лежат убитые и десятки раненых. Подобрать их невозможно: красные стреляют из окон зданий. Рассветало… К их ружейным выстрелам присоединились орудийные, но молчит артиллерия добровольцев.
К вечеру 30 марта конница генерала Эрдели возвратилась из рейда в глубокий обход Екатеринодара и втянулась в «Сады». Там и ночевали, кто в летних домах огородников, а кто под плетнями и навесами. Выставлено сторожевое охранение.
31 марта. А вот и последний день боя под Екатеринодаром. День теплый, весенний, солнечный, но солнца не видно – сплошное облако пыли, песка, густого черного дыма висит над добровольцами. Лица черные, закопченные, на зубах песок; шум, грохот, звенит в ушах. Человеческого голоса не слышно в двух шагах. Поляна кипит взрывами снарядов. Штаб армии во все дни штурма находился на ферме в трех верстах от окраины города и все время был под артиллерийским обстрелом. С раннего утра, как обычно, начался артиллерийский обстрел фермы. Генерала Корнилова просили переменить место расположения штаба, но он ответил: «Теперь уже не стоит, завтра – штурм» – и остался в домике. Около семи с половиной часов утра несколько снарядов разорвались над фермой; один из них целиком влетел в комнату, где сидел генерал Корнилов. Раздался страшный грохот и удар точно молнии, от которого задрожал весь дом. Когда бросились туда, то нашли генерала Корнилова лежащим на полу с закрытыми глазами. Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого осколком правого бедра. Он еще дышал. Его положили на носилки и вынесли на берег Кубани. На его лице застыло выражение боли. Прошло несколько томительных минут. Генерал Корнилов скончался. Советская граната лишила русскую контрреволюцию ее общепризнанного вождя. Слепой случай поставил под вопрос дальнейшую судьбу начатой генералом Корниловым вооруженной борьбы. Теряя генерала Корнилова, русская контрреволюция теряла будущего российского правителя. С арены борьбы 31 марта 1918 года сошла самая крупная и яркая фигура не признавшей большевиков России…
Сообщение о гибели генерала Корнилова потрясло всю армию. Впечатление, произведенное ею на армию, было так велико, что продолжение штурма становилось невозможным. В сердцах храбрых начали закрадываться страх и мучительное сомнение. Ползли слухи один тревожнее другого о новых неприятельских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели. Смерть генерала Корнилова решила участь штурма.
В командование остатками армии в этот тяжелый момент вступил генерал Деникин. Нового вождя мало кто знал, вокруг его имени не было ореола генерала Корнилова.
В это время положение армии в тактическом отношении резко ухудшилось: на участке, занимаемом конницей генерала Эрдели у «Садов», обнаружилось движение большой пехотной колонны красных, шедших друг за другом гуськом на юг, в охват левого фланга корниловцев и в тыл всей нашей линии фронта, и стремившихся отрезать армию от ее тыла – Елизаветинской, где находился лазарет с 1500 ранеными добровольцами и генерал Алексеев. Опасность полного и непоправимого уничтожения нависла над остатками армии и над массой раненых. Перед лицом такой угрозы генерал Эрдели решил бросить всю свою конницу в атаку, чтобы преградить противнику путь на юг и уничтожить его живую силу. В это время конная бригада стояла у «Садов» фронтом на восток. Полки 1-й Офицерский конный и только что сформированный полк из молодых кубанских казаков елизаветинцев и марьинцев стояли в резервных колоннах в укрытии от противника за скирдами соломы и отдельными куренями. На невысоком холмике видно было начальство: генерал Эрдели со штабом, командиры полков и их ординарцы. Но вот начальство спустилось с холмика. От командиров полков прискакали к сотням ординарцы с приказанием: «Приготовиться к атаке в конном строю; подтянуть подпруги, осмотреть холодное оружие и выбросить лишнее барахло!» Командиры сотен в двух словах объяснили всадникам создавшееся положение. Всадники оставили свои кожухи и бурки под скирдами и в строй стали налегке. Опять команда: «По коням, садись!» – и всадники начали выравниваться. На правом фланге построился 1-й эскадрон, состоявший из офицеров регулярной кавалерии, левее его – Донская имени генерала Бакланова казачья сотня, численностью до 50 шашек, с их черным значком и эмблемой – белым черепом и скрещенными костями, еще левее Кубанская гвардейская сотня с лейб-казачьим взводом есаула Я. Рыковского, еще левее – Кубанская офицерская сотня. Левее выстроился пятисотенный Кубанский полк из молодых казаков елизаветинцев и марьинцев. Эскадрон и сотни сразу же построили двухшереножный развернутый фронт. Точно не могу сказать, куда был направлен в это время Черкесский конный полк. При этом построении Кубанская офицерская сотня высунулась из-за закрытия и со стороны красных затакали довольно редкие выстрелы и пули посвистывали над головами. До неприятеля в этот момент было шагов с тысячу. Бронепоезда с линии Черноморской железной дороги дали 2–3 орудийных выстрела, не причинившие коннице вреда, и, задымив, ушли в сторону Екатеринодара. Командир гвардейской сотни полковник Рашпиль выехал вперед на установленную дистанцию, повернулся в седле и, указывая в сторону противника, скомандовал: «Сотня, в атаку, шашки вон, рысью марш!» Блестнули клинки шашек, и сотни и эскадрон двинулись в атаку на нерасстроенную пехоту. Первое время сотня шла по твердому грунту. Всадники быстрой рысью сближались с неприятелем, и видно было, как одиночные люди и небольшие группы противника, двигавшиеся по возвышенности к югу, останавливались и поворачивали фронт на запад, против атакующих. Огонь противника был редким, но пули уже находили жертвы в рядах сотни. Пройдя рысью шагов 300–400, полковник Рашпиль перевел сотню в намет. На правом фланге вместе с гвардейской сотней шли в атаку лейб-казаки. Впереди их на белом арабе несся есаул Я. Рыковский, немного сзади на вороном жеребце подъесаул Н. Плеве, а дальше хорунжий Н. Ляхов, подхорунжий Г. Мигулин, казак Харламов и весь взвод. И только всадники перешли в намет, как вдруг очутились на вспаханном, размякшем от талого снега и дождей поле, и лошади стали сбавлять аллюр. Красные цепи открыли шквальный огонь. Всадники продолжали скакать, но уже на взмыленных, тяжело дышавших лошадях. С расстояния 400 шагов красные открыли огонь залпами. Здесь уже можно было видеть, как падали лошади и валились с них всадники. А немного впереди, еще 100–150 шагов, сотня напоролась на топкое, низинное болото; уставшие лошади с трудом, где «собачьей рысью», а где и шагом двигались вперед по этому болоту. Красные были в двух шеренгах; передняя шеренга опустилась для стрельбы с колена, а задняя стоя, и с дистанции прямого прицела атакующие были встречены залпами пехотного огня. Противник не проявлял никакой нервности, так как это была только что прибывшая с Кавказского фронта настоящая строевая часть, пополненная мобилизованными закубанскими пластунами, резко выделявшимися в цепи своими рыжими и черными мохнатыми шапками. Красные продолжали расстреливать теперь уже частым огнем. Тут, собственно, и погибла гвардейская сотня и эскадрон. Простреленный в обе ноги и грудь, падает есаул Я. Рыковский, за ним подъесаул Н. Плеве и полковник Рашпиль. Был ранен в шею хорунжий Н. Ляхов. Под ним, как и под подхорунжим Г. Мигулиным и казаком Харламовым, были убиты лошади. Ранены кубанцы подъесаулы Чигрин и Помазанов. Эскадрон потерял убитыми корнета Ветрова и прапорщика баронессу де Боде[102]. Баклановцы потеряли есаула Дронова и других. В общем, конница понесла тяжкие потери: убито 32 человека. Атака захлебнулась. Сотни были отведены назад в исходное положение. Тела погибших и раненых не было возможности вывезти. Казаки елизаветинцы и марьинцы не дошли в атаке до «Садов», а «благоразумно задержались» у разных закрытий. Так печально и трагически окончилась эта отчаянная атака. Всадники доскакали до противника и рубили его, хотя и не все. Но главное, конница выполнила данное ей задание: не дала красным выйти во фланг и тыл нашей пехоте, оставшейся без патронов и снарядов и прижатой к берегу многоводной Кубани. Вероятно, красные ожидали повторной конной атаки. Один вид видневшейся массы нашей конницы лишил их моральной стойкости. Совершился психологический перелом. Разбитый морально красный отряд приостановил обходное движение и отошел со злополучной поляны, обильно политой кровью, к Черноморской железнодорожной станции. Добровольческая армия пережила один из самых критических моментов своего существования. Успех был куплен ценою крупных потерь, но достигнутый результат компенсировал тяжкие потери. Потери конницы генерала Эрдели были так велики, что она должна была оставить район «Садов» и отойти к главным силам. Гвардейская сотня и взвод лейб-казаков, потеряв три четверти своих лошадей и четверть состава своих людей, прекратили свое существование как отдельные единицы, и остаток людей влился в состав 1-го Конного полка полковника Глазенапа. Незаменимую потерю понесла семья лейб-казаков в лице есаула Якова Федоровича Рыковского и подъесаула Николая Павловича Плеве, запечатлевших подвиг своею смертью. (Тела есаула Я. Рыковского и подъесаула Н. Плеве, уже после взятия Добровольческой армией Екатеринодара во время Второго Кубанского похода, то есть через 4 месяца, были извлечены из братской могилы и перевезены однополчанами в Новочеркасск, где и торжественно преданы земле на городском кладбище. В конной атаке 31 марта у «Садов» не приняли участия находившиеся на излечении в походном лазарете подъесаулы С. Краснов и Ф. Рыковский, а также и хорунжие братья С. и Г. Чекуновы. – И. К.) Незаменимые потери понесли и другие конные части. При том тяжком нравственном и физическом состоянии, в коем находилась армия после пятидневных тяжких боев и смерти генерала Корнилова, продолжать атаку Екатеринодара с нашими ничтожными силами было невозможно, и генерал Деникин решил, ради спасения армии, с наступлением темноты снять осаду города и большими форсированными переходами вывести из-под удара екатеринодарской группы красных войск Сорокина.
В ночь на 1 апреля от Екатеринодара в полной тишине потянулись быстрым маршем куда-то на север уцелевшие остатки армии, а из станицы Елизаветинской вышел огромный обоз с 1500 ранеными и подводой, на которой везли два гроба с телами генерала Корнилова и полковника Неженцева. Обоз растянулся на несколько верст. 64 тяжело раненных добровольца при враче и сестрах милосердия были оставлены в станице в надежде, что красные их не тронут. Большая часть раненых и медицинский персонал были с невероятной жестокостью перебиты отрядом матросов, вступившим утром 1 апреля в Елизаветинскую.
В арьергарде шла бригада генерала Богаевского с батареей. Редкой цепью по бокам подвод шли измученные физически и морально подавленные добровольцы. На заре находившиеся в походном лазарете больные подъесаул С. Краснов и Ф. Рыковский узнали о незаменимой потере в семье лейб-казаков. Генерал Эрдели им лично сообщил о доблестной смерти есаула Я. Рыковского и подъесаула Н. Плеве. На просьбу обоих разрешить им с разъездом вернуться к месту атаки и взять тела генерал Эрдели ответил: «Нельзя, родные, смотрите…», и как бы в подтверждение его слов со стороны красных из окраины города раздался орудийный выстрел, и первая шрапнель разорвалась над хвостом обоза.
С рассветом из станицы Андреевской красные повели наступление на голову колонны, стремясь преградить ей путь. Генерал Марков, шедший в авангарде с Офицерским полком и батареей, быстро развернул часть полка и атаковал противника; красные были смяты, отхлынули назад и попали под удар шашек черкесов. Перед вечером колонна прошла брошенные жителями хутора, где немного передохнула и в сумерках вошла в немецкую колонию Гначбау. До крайности утомленные и голодные люди заснули где пришлось. Конная бригада генерала Эрдели прикрывала отход армии с тыла и днем вела бой в районе Екатеринодара и только ночью подошла к колонии. На широкой улице колонии в несколько рядов расположился походный лазарет. В просторных домах устроились на ночлег добровольцы и значительное число раненых. Ночь прошла спокойно.
2 апреля. Здесь Добровольческой армии пришлось пережить моральный кризис и кажущуюся неминуемую гибель. Неудача под Екатеринодаром, первая неудача за весь поход, гибель вождя – все сказывалось в этот день.
В колонии выяснилось следующее: Партизанский полк, начав штурм Екатеринодара в составе 800 штыков, к концу боя имел 300; в Корниловском полку осталось едва 100 штыков; Офицерский полк в боях под Екатеринодаром и во время отхода от него потерял 50 процентов своего состава, то есть 350 бойцов, из которых около 80 человек было убито и до 50 пропало без вести. В полку оставалось не больше 400 штыков. Вся армия, начав бой под Екатеринодаром в составе до 6 тысяч бойцов, в колонии имела менее 3 тысяч бойцов и более 1500 раненых. Каковы были силы противника, стало известно позднее: от 40 до 50 тысяч. Известной стала и цифра его потерь – до 10 тысяч одними ранеными.
Поползли слухи о необходимости распылиться. Некоторые малодушные срезали погоны и другие знаки Добровольческой армии. 4-я рота Офицерского полка стала у штаба армии и выставила часовых… Скученность в небольшой колонии, начавшийся артиллерийский обстрел ее и наступление противника усиливали это подавленное настроение. К счастью, не все этому поддавались. Эта подавленность совершенно не коснулась возглавления армии. Все-таки некоторые ушли (например, командир 4-го кавалерийского корпуса генерал Гилленшмидт со своим вестовым) и бесследно пропали. Потихоньку ушли из наших рядов многие молодые кубанские казаки и возвратились в свои станицы.
Генерал Деникин решил двинуться на север, на станицу Медведовскую, а затем повернуть на восток, чтобы вырваться из густой сети железных дорог, идущих на Екатеринодар, Кавказ и Ростов. Кольцо, сжимавшее измученную армию, охватывало ее все плотней, и нужны были отчаянные усилия, чтобы прорывать его и двигаться дальше. Для большей подвижности приказано было бросить все лишние подводы и часть орудий, так как не было к ним снарядов. Четырехорудийные батареи становились двухорудийными, и при конной бригаде вместо двух орудий оставлено одно. Всех, кого можно, посадить на лошадей. Запас снарядов в артиллерийском парке выражался в количестве 40. Количество подвод уменьшилось на 200. Здесь лейб-казаки вошли в 1-й Конный полк полковника Глазенапа третьим взводом офицерского эскадрона. Взвод принял полубольной подъесаул С. Краснов. Хорунжие Ляхов, братья Чекуновы, подхорунжий Мигулин и казак Харламов получили лошадей убитых офицеров 1-го конного полка.
Чтобы скрыть направление движения армии, пришлось, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и наступление противника, остаться в колонии до наступления темноты. Спешно похоронили офицеры в колонии двух своих убитых в бою и отправили в лазарет десяток раненых. В колонии пришлось оставить нескольких умирающих, уже умерших и застрелившихся, похоронить последних не было возможности. Испорченные 5 орудий, брошенное имущество и подводы оставлялись в колонии.
В полной ночной тишине – «не разговаривать, не курить» – двигалась по широкой степи колонна длинной лентой обоза в насколько верст. Предстояло снова переходить через железную дорогу, по которой кассировали неприятельские бронепоезда, а на станции стояли готовые к переброске в угрожаемый пункт красные эшелоны. На переход обоза с ранеными через полотно железной дороги нужно было не менее трех часов. В авангарде – генерал Марков со штабом и конвоем в 100 шашек и Офицерский полк с батареей. В арьергарде – бригада генерала Богаевского с батареей. Конница, и в составе ее взвод подъесаула Краснова с лейб-казаками, была направлена севернее Медведовской для порчи железнодорожного пути и отвлечения внимания противника. Черноземная пыль заглушает стук колес. Даже усталые кони не ржут.
Время подходило к четырем часам утра 3 апреля. В полуверсте от железнодорожной будки и переезда находится станция Медведовская, где, по сведениям, добытым от сторожа, стоят два бронепоезда и два эшелона красной пехоты, частью выгрузившейся и занявшей позицию в районе станции и окопавшейся за кладбищем фронтом к железной дороге, переезду и грунтовой дороге, идущей с переезда в станицу. Генерал Марков отдал короткие, ясные распоряжения подъехавшим к будке начальникам. Прошло с полчаса, как колонна остановилась. За это время части генерала Маркова подтянулись и приготовились к встрече бронепоезда и к атаке станции.
Офицерский полк быстро развернулся фронтом на станцию и перешел в наступление. Уже светало. Преодолев огонь противника, сидевшего в окопах, отчаянным порывом смяли и его. Когда офицерские роты шли в атаку на станцию, походный лазарет и обоз стали быстро переходить через переезд, попадая по пути в полосу пулеметного огня со стороны станции, снова раня проезжавших раненых и тех, кто был у переезда, но это продолжалось короткое время, так как противник был сбит и обращен в бегство наступавшей офицерской ротой. За обозом и походным лазаретом переезд прошла 2-я бригада с батареей. Пробита брешь в кольце красных. Армия вышла из почти безвыходного положения. На бронепоезде захвачено два орудия, 360 снарядов, 100 тысяч ружейных патронов, большое количество пулеметных лент, а на станции в оставленном составе захвачены продукты, белье и медикаменты. Уничтожены полтора бронепоезда, один на переезде, а от другого на станции захвачена половина; другая половина с паровозом успела отцепиться, дала задний ход и скрылась с горизонта. Разъезд под командой подполковника Ряснянского захватил в станице группу комиссаров, а в станичном правлении отобранное у казаков оружие.
Бой у Медведовской является одной из самых ярких страниц истории Первого Кубанского похода. Не останавливаясь в Медведовской, армия, имея в авангарде Партизанский полк, прошла дальше еще 15 верст и остановилась на ночлег в станице Дядьковской, проделав за сутки до 40 верст и проведя весьма серьезный бой.
4 апреля дневка в станице прошла спокойно. Хотя армия и вышла из тесного окружения, но все же оставалась в окружении – куда бы она ни двинулась, ей придется снова переходить железную дорогу. Для ускорения движения армии и сбережения сил бойцов генерал Деникин приказал всю пехоту посадить на подводы, и в дальнейшем движение армии от Дядьковской к станице Успенской было отлично организованным маршем для выхода из большевистского окружения.
В Дядьковской выяснилось чрезвычайно тяжелое положение раненых. На некоторых подводах раненые не выгружались трое суток; ни медикаментов, ни перевязочных материалов не было. Смертность усилилась. Генерал Деникин собрал старших офицеров и некоторых общественных деятелей, ехавших с армией, и на совещании было решено оставить в станице наиболее тяжело раненных, не могущих вынести быстрой и длительной езды. В Дядьковской мы еще не знали об ужасной участи, постигшей оставленных раненых в Елизаветинской. Это была тяжкая в моральном отношении мера, но другого выхода у нас не было. Из числа 200 человек, признанных врачами, что они не перенесут перевозки, полки замаскированно увезли с собой около 80 человек. Многие из них умерли в дороге, не вынеся тряски и отсутствия отдыха и ухода.
5 апреля с наступлением ночи не тревожимая противником армия, посаженная на подводы, тронулась из станицы дальше на восток на станицу Журавскую, где был большой привал. Ночью армия благополучно перешла Владикавказскую железную дорогу между станциями Выселки и Козырки.
6 апреля армия переменным аллюром ехала куда-то на восток. В пути были лишь большие и малые привалы. Погода стояла хорошая. Совершив переход в 65 верст, армия остановилась на ночлег в станице Бейсугской.
7 апреля утром армия двинулась быстрым маршем к хутору Владимирскому, где стала на большой привал. Ночью предстояло перейти железную дорогу в очень опасном месте, между станциями Тихорецкой и Кавказской, которые отделяет всего 60 верст, и можно было ожидать нападения противника с двух сторон. Выставив конные заслоны против этих станций, армия ночью в третий раз благополучно перешла железную дорогу между станциями Малороссийской и Мирской. К концу перехода через переезд, уже на рассвете, со стороны Кавказской появился поезд. Он был обстрелян и подбит нашей артиллерией. Он оказался товарным, и с него сгрузили лошадей, перевязочный материал и другое имущество.
8 апреля продолжение ночного марша в 45 верст. Остановка в Хоперских хуторах, но в них армия пробыла недолго, так как обнаружилось наступление противника со стороны железной дороги. Принимать бой в семи верстах от нее генерал Деникин не хотел, и ночным маршем армия двинулась дальше, на станицу Ильинскую, находящуюся в 23 верстах к северо-востоку.
9 апреля вечером армия приехала в станицу Ильинскую и расположилась на ночлег. 70-верстный переход с небольшими привалами сильно утомил и здоровых, и особенно раненых, большинство которых провели весь этот переход не сходя с подвод. За четверо суток армия проделала около 150 верст. Все нуждались в отдыхе. Объявлена дневка, а это значит многое: можно умыться, освежиться; избавиться от покрова пыли, проникшей сквозь одежду до тела; можно снять одежду, обувь, а раненым – оставить неудобное ложе. Отдых оказался длительным.
10 и 11 апреля армия оставалась на мосте, несмотря на то что 10-го противник вел наступление небольшими силами со стороны Дмитриевской, легко отбитое 2-й бригадой, после чего конница добила красных, заняв станицу Дмитриевскую. Наступила весенняя теплая солнечная погода. Сады в цвету, поля покрыты молодыми всходами. К этому благополучию присоединились и радостные слухи о восстании казаков против красных на Дону и о захвате донцами Новочеркасска, а также и о влитии в Офицерский полк пополнения – 200 кубанских казаков из числа призванных в армию Кубанским атаманом. Генерал Деникин послал из Ильинской разъезд под командой подполковника Барцевича на разведку в станицу Егорлыцкую. 11 апреля день прошел спокойно в Ильинской.
12 апреля армия спокойно и легко перешла в соседнюю станицу Успенскую, находящуюся в 28 верстах к востоку. В этой станице армия оставалась четыре дня. В Успенской были разгружены все подводы с ранеными, и они могли спокойно и более удобно отдохнуть.
Здесь люди помылись в бане, надели чистое белье и привели в порядок одежду, обувь и оружие. Для обеспечения армий были высланы заслоны к Дмитриевской, Расшаватской и посаду Наволокинскому. У последнего пришлось дать бой красным, имевшим там штаб местных большевистских войск. Рота корниловцев в 100 штыков и конница разбили скопище противника, но корниловцы потеряли до 60 человек убитыми. Красные были вооружены французскими винтовками устаревшей системы Гра, и крупные пули с тупыми концами оставляли ужасные разрывные ранения; этим и объясняются такие крупные потери убитыми. В Успенской узнали о начавшемся восстании на Дону.
14 апреля возвратился из Донской области подполковник Барцевич и привел с собой депутацию от донцов, численностью в 17 всадников, из станицы Егорлыцкой, подтвердивших известие о поголовном восстании донских казаков против советской власти. Дальнейший путь армии становился ясным, нужно двигаться на Дон. 14 апреля, в день прибытия депутации от донцов, генерал Деникин произвел первый смотр армии. Полки постарались привести себя в порядок к смотру нового вождя, к которому уже прониклись доверием и глубоким уважением, ибо для всех было ясно, что он вывел армию из тягчайшего положения, спас ее от распыления и вдохнул бодрость в утомленных бойцов. Все же перед генералом Деникиным, подъехавшим к частям с развевающимся национальным флагом, предстали худые, с обветренными лицами добровольцы, одетые в самые разнообразные шинели и тулупы, с нарисованными химическим карандашом погонами и в изношенной обуви. От прежних сомнений и угнетенного настроения не осталось и следа. Общий подъем духа увеличился, когда кое-кто у штаба армии лично видел и разговаривал с прибывшими для связи с Дона казаками Егорлыцкой станицы.
15 апреля генерал Деникин, на основании сведений, привезенных подполковником Барцевичем, и показаний прибывших казаков, решил двигаться на Дон и поддержать восстание донцов. Выступление было назначено с таким расчетом, чтобы ночью перейти железную дорогу между станциями Ея и Белая Глина. Выступать пришлось под прикрытием арьергарда, вступившего в бой с наступавшими с юга ставропольскими красноармейцами. В авангарде двигалась на подводах 1-я пехотная бригада генерала Маркова с батареей. В арьергарде – 2-я пехотная бригада генерала Богаевского с батареей. Колонна армии, выступившая после полудня на село Горькая Балка, двинулась сначала на северо-восток для введения в заблуждение противника, а затем уже в сумерках повернула на Горькую Балку. Предстояло пройти более 50 верст по открытой, ровной степи; по дороге ни одного хутора, ни одной хаты. Ночь была темная. В тиши раздавался лишь шум колес многочисленного обоза и топот коней.
16 апреля к рассвету колонна подходила к железнодорожному переезду. Колонна остановилась, ожидая донесения от передового разъезда. Вдруг в ночной тишине послышалось тяжелое пыхтение паровоза; все ближе и ближе, как будто бы остановился на месте. Томительное ожидание – откроет нас или нет? Пыхтение паровоза усилилось, ясно было слышно громыхание цепей, стук буферов и шум колес; все дальше и тише пыхтение: поезд прошел дальше. Рассветало. Колонна стала быстро переезжать через железнодорожный переезд. На рассвете красный бронепоезд обнаружил хвост нашего обоза и пытался его обстрелять, но огнем нашей батареи был быстро отогнан, не причинив нам вреда. Последняя линия железной дороги перед Донской областью была пройдена. Это был четвертый переход железной дороги после снятия осады Екатеринодара. Авангард – Офицерский полк, – подходя к Горькой Балке, был встречен большими силами красных. В жестокой схватке сопротивление противника было сломлено, и он стал отходить и исчез из поля зрения, а появившийся снова бронепоезд был отогнан огнем нашей батареи, и авангард ворвался в Горькую Балку.
Большой привал в Горькой Балке прошел спокойно, и армия перешла в станицу Плоскую, куда прибыла вечером и расположилась на ночлег. До 70 верст прошла армия в течение суток, провела весьма серьезный бой. В Плоскую прибыл донской разъезд и донес, что на задонские станицы красные ведут наступление и казаки просят помощи. Эта помощь им была на следующий день выслана.
17 апреля генерал Деникин выслал из Плоской прямо в Егорлыцкую 1-й конный полк, в составе коего находились и лейб-казаки: подъесаулы С. Краснов и Ф. Рыковский, хорунжий Н. Ляхов и братья С. и Г. Чекуновы, подхорунжий Г. Мигулин и казак Харламов. После полудня армия тронулась из Плоской на село Лежанка Ставропольской губернии, ей памятное по бою 21 февраля. На этот раз село нас встретило без всякого сопротивления и с населением, уже не бросившим свои дома.
18 апреля. День прошел в Лежанке спокойно. Настроение у добровольцев было хорошее: выбрались из окружения, соединились с восставшими донцами; армия пополнилась кубанцами, и генерал Покровский сформировал конный отряд в составе нескольких сотен. Доносился отдаленный гул артиллерийской стрельбы – то донцы вели бой с красными у станицы Заплавской, расположенной в 14 верстах от Новочеркасска. Вечером было выставлено усиленное охранение с пулеметами.
19 апреля перед рассветом часть Офицерского полка была посажена на подводы и выехала в северо-восточном направлении. Было приказано выбить красных из села Лопанка, находящегося в 15 верстах. Произошел встречный бой, и стремительным ударом противник был опрокинут и село занято. Ночью части возвратились в Лежанку.
20 апреля 2-я и конная бригады срочно ушли на помощь донцам в Гуляй-Борисовку в тыл красным, наступавшим на донские станицы Егорлыцкую и Мечетинскую. В Лежанке остались 1-я бригада и конный отряд генерала Покровского, а с ними весь походный лазарет армии с 500 ранеными и обоз. Пройдя 15 верст, передовые части 2-й бригады вошли в соприкосновение с противником, и после первых стычек с красными последние прекратили наступление на Мечетинскую и стали поспешно отступать на слободу Гуляй-Борисовка. Наступала уже ночь, и генерал Богаевский с бригадой прекратил преследование, остановившись на отдых в большом хуторе. 1-му конному полку полковника Глазенапа было приказано после освобождения Егорлыцкой наступать к Мечетинской. Противник, заметив выход из Лежанки большой колонны, повел на село энергичное наступление с востока и юга. Их была подавляющая масса. 1-я бригада заняла позиции редкой цепью и, подпустив противника на тысячу шагов, сильным огнем заставила его залечь. Затем бригада перешла в атаку, поддержанная подвижными пулеметными батареями на тачанках, и обратила его в бегство по всему фронту. Бригада преследовала красных несколько верст. Наступила ночь. Выдвинувшимся вперед частям приказано было отойти к селу и выставить усиленное охранение. Потери в Офицерском полку были серьезные, до 50 человек. Был ранен и командир полка генерал Боровский.
После отдыха на хуторе 2-я бригада генерала Богаевского выступила около 10 часов вечера и, пройдя насколько часов в полной тишине, на рассвете 21 апреля атаковала слободу Гуляй-Борисовку Корниловским полком, шедшим в авангарде. По-видимому, противник не ожидал нашего появления. Из крайних хат началась беспорядочная стрельба, скоро прекратившаяся. Суматоха поднялась по всей слободе. Цепи корниловцев во главе с полковником Кутеповым ворвались в нее. Началась ловля и истребление неприятеля по дворам. Пленных сгоняли на площадь на краю слободы. Вскоре их набралось у партизан генерала Казановича более 300 человек. Здесь впервые от начала похода было получено приказание генерала Богаевского, по случае страстной субботы, пленных не расстреливать. Но суровая действительность заставила военно-полевой суд отнестись к некоторым из них более строго.
В страстную субботу конница генерала Эрдели вступила в Егорлыцкую, где была встречена казаками с хоругвями и иконами. Добровольческая армия соединилась с восставшими донцами южных станиц. У армии теперь есть тыл, и в первой половине дня в тыл, в станицу Егорлыцкую, из Лежанки кружным путем ушел весь походный лазарет и обоз 1-й бригады. Обоз оставлял Лежанку под обстрелом артиллерии противника.
Обстрел начался с утра и постепенно усиливался. Было видно разворачивание красной пехоты. Затем вся эта масса перешла в наступление. Бой был жестокий. Бригада генерала Маркова с трудом сдерживала наступление превосходных сил противника. Неоднократно Офицерский и Кубанский стрелковый полки, поддержанные подвижными пулеметными батареями на тачанках, то там, то здесь переходили в контратаки, но красные, подаваясь в иных местах назад, поддерживаемые резервами, продолжали наступать. Упорный бой шел на самой окраине села, на кладбище. Красные захватили кирпичный завод и угрожали перерезать дорогу на Егорлыцкую. Для восстановления положения была послана инженерная рота – последний резерв генерала Маркова, численностью в 80 человек, и была снята с соседнего участка полурота в 50 человек. Немедленной атакой красные были выбиты из кирпичного завода и бежали, оставив на месте два пулемета и много патронов. По всему фронту наступление красных стало выдыхаться. Только к вечеру красные окончательно были отброшены от села в свое исходное положение. Выставив охранение, части бригады расположились в домах на окраине. В минувшем бою части бригады понесли чувствительные потери – до 80 человек, из которых 7 убитых потерял Офицерский полк; Инженерная рота потеряла убитыми 8 офицеров и свыше 20 ранеными. Снова при бригаде образовался походный лазарет со 150 ранеными. Вечером, в конце боя, из Лежанки в Егорлыцкую перешел штаб армии.
22 апреля. Первый день святой Пасхи прошел спокойно в 1-й бригаде в Лежанке. В светлый праздник добровольцам пришлось хоронить своих соратников на том же кладбище, где раньше были похоронены первые четыре жертвы начала похода. Конница встретила светлый праздник в Егорлыцкой. Бригада генерала Богаевского спокойно встретила светлый день в Гуляй-Борисовке. Вечером этого дня колонна 1-й бригады на подводах тронулась по дороге на Егорлыцкую, переехала мост через реку Егорлык, ту реку, которую 21 февраля переходил вброд Офицерский полк, но вскоре свернула с дороги вправо по направлению к железнодорожному разъезду Прощальный. В сумерках хвост полка был внезапно обстрелян наскочившим на него грузовиком с пулеметом, но одного артиллерийского выстрела было достаточно, чтобы грузовик поспешно скрылся.
23 апреля на рассвете 1-я бригада подошла к разъезду Прощальный на железнодорожной линии Батайск – Торговая. Высланные подрывники к станции Целина подорвали там путь, а бригада в это время основательно разрушила его у разъезда. Выполнив это задание, она двинулась в Егорлыцкую, куда и прибыла еще засветло, проделав за сутки до 50 верст. 2-я бригада провела этот день спокойно в Гуляй-Борисовке. 1-й конный полк полковника Глазенапа, а в составе его и лейб-казаки, с боя занял Мечетинскую, а на следующий день Кагальницкую. В этот день донские части Южной группы под командой полковников С. Денисова и И. Полякова разбили красных и вступили в Новочеркасск.
24 апреля. Находясь в Егорлыцкой, штаб армии точно узнал о занятии немцами Ростова, Батайска и станицы Ольгинской и об огромном движении большевистских эшелонов по железнодорожным линиям Ростов – Тихорецкая – Царицын. Перевозилась масса военных материалов, в частности боевых припасов, в которых сильно нуждалась Добровольческая армия ввиду массового прилива кубанцев в ее ряды. И генерал Деникин решил произвести набег на узловую станцию Сосыку и ближайшие к ней станции Крыловскую и Ново-Леушковскую, чтобы захватить боевой материал. Выслав в ночь на 25 апреля подрывную команду с конвоем черкесов для взрыва полотна железной дороги между Сосыкой и Ейском и перерезания телеграфных и телефонных проводов, чтобы все находившееся на станции Сосыке не могло ускользнуть при наступлении добровольцев, генерал Деникин приказал утром 25-го выступить 1-й пехотной бригаде на подводах в направлении к станции Сосыке, 2-й пехотной бригаде – к станции Крыловской и конной бригаде – к станции Ново-Леушковской.
25 апреля утром 1-я пехотная и конная (лейб-казаки в этом набеге не приняли участия, так как 25 апреля прибыли в освобожденную казаками столицу Войска Донского, Новочеркасск. – И. К.) бригады выступили в юго-западном направлении и, совершив переход в 65 верст, расположились на ночлег в станице Незамаевской. 2-я бригада выступила из Гуляй-Борисовки и взяла с боя станицу Екатериновскую, в которой и расположилась на ночлег, выставив охранение.
26 апреля от станицы Незамаевской 1-я пехотная и конная бригады пошли по разным направлениям. Конница двинулась на станцию Ново-Леушковскую, а 1-я бригада, проехав на подводах около 30 верст, остановилась, не доезжая нескольких верст до станции Сосыка-Владикавказская. Разъезды от черкесского конного дивизиона, приданного бригаде, доносили, что станция занимается большими силами противника с бронепоездом. По диспозиции штаба армии атака пехотной бригады должна была начаться одновременно с другими двумя бригадами с рассветом 27 апреля. С наступлением ночи 1-я бригада стала разворачиваться в боевой порядок: Офицерский полк для атаки станции Сосыка-Владикавказская, Кубанский строевой полк левее его. С занятием этой станции бригада должна была, заходя левым плечом вперед, наступать на станцию Сосыка-Ейская. 2-я бригада генерала Богаевского переночевала в Екатериновской. Красные, оправившись, сами перешли в наступление со стороны Крыловской с целью взять обратно Екатериновскую. Целый день партизаны и корниловцы отбивали красных, которые к вечеру расположились полукругом на ближайших подступах к станице Екатериновской. Наступила темная ночь. Генерал Богаевский для овладения станцией Крыловской, находящейся в 15 верстах к западу, принял немедленно другой план: кружный ночной обход и атака станции в другом направлении. Оставив для обороны Екатериновской станицы 2-й батальон Партизанского полка под командой капитана Бузуна[103] и приказав оставленному заслону все время вести огонь в прежнем направлении и беспокоить противника, генерал Богаевский с остальными силами бригады в полной тишине выступил около полуночи, когда уже вся станция спала, и, обойдя правый фланг противника, продолжил движение в южном направлении и на рассвете вышел в двух верстах против юго-восточного угла станции Крыловской.
Одновременно с выступлением обходной колонны был выслан разъезд в пять всадников-подрывников под командой подъесаула Вершинина. В состав этого разъезда вошел и автор этих строк, подхорунжий Авилов и еще два донца. Мы получили задание выйти в тыл красных и с рассветом подорвать железную дорогу южнее станции Крыловской, чтобы стоящие на этой станции неприятельские эшелоны и составы не ускользнули из наших рук при наступлении бригады. Оторвавшись от обходной колонны, мы двинулись в непроглядную тьму уснувшей ночи, взяв направление южнее Крыловской; всю ночь шли мы по степи, почти без дорог. Разъезд наш скрытыми путями весьма осторожно приближался к Владикавказской железной дороге. Рассветало. Степная тишина. Впереди расстилалось ровное поле. В набежавшем легком утреннем тумане в версте впереди виднелась одиноко стоящая хата, неподалеку от нее – пара амбаров, а немного дальше – два стога соломы. За этой придорожной усадьбой шагах в 500–600 дальше виднелась массивная железнодорожная насыпь высотой сажень в пять с крутым скатом, аккуратно выложенным прямоугольными, тщательно отесанными камнями. Неподалеку виднелся бетонный виадук. Красота и величина этой насыпи, тянувшейся вдаль, произвели на меня большое впечатление. С гребня этой насыпи была прекрасно видна впереди лежащая местность и наш разъезд, но никто из нас не обнаружил противника на насыпи. Разъезд въехал во двор на короткий, пятиминутный, привал, всадники спешились и вошли в хату, а пишущий эти строки направился к стогам оправиться. В этот момент сзади ко мне неожиданно подходит в форменной австрийской шинели военнопленный работник в этой усадьбе и тихо говорит мне, что в стогу соломы спрятался красногвардеец с винтовкой. Сказав это, он удалился. Подойдя к стогам соломы, я громко сказал: «А ну-ка, выходи с винтовкой из соломы». Моментально из стога вылез молодой красноармеец в серой солдатской шинели и молча дал мне свою винтовку. «Идем со мной», – сказал я ему, и мы вдвоем молча пошли по направлению к хате. В этот момент подъесаул Вершинин с донцами вышел из хаты, и я ему в двух словах доложил о происшествии и передал ему захваченного и винтовку, а подъесаул Вершинин сию же минуту передал захваченного подхорунжему Авилову, что-то сказав ему. Авилов повел красноармейца за хату, где роковая пуля из нагана пресекла жизненный путь последнего. Разъезд выехал со двора и пошел рысью в направлении к насыпи. Не отъехали мы и сотни шагов, как внезапно со стороны красной заставы затакали редкие выстрелы и пули посвистывали над головами. Пришлось поспешно ретироваться и укрыться за хатами. К счастью, обошлось без потерь. Выполнить задание нам не удалось. В этот момент с Крыловской полным ходом уходил на наших глазах красный бронепоезд на юг, на Сосыку. Наш разъезд тронулся рысью к станции Крыловской. Генерал Богаевский с обходной колонной, сделав ночью почти без дорог около 15 верст, на рассвете 27 апреля вышел в двух верстах против юго-восточного угла станции Крыловской.
Наше появление для противника было полной неожиданностью. Головной конный взвод внезапно захватил заставу красных с пулеметом, причем несколько человек из ее состава застрелились. Станция мирно спала, так же как и семь эшелонов красных войск, которые в них находились в поездах. Еще до восхода солнца 2-я бригада развернулась для атаки, и батарея открыла огонь по поездам, пехота пошла в атаку. На станции началась суматоха, крики, беспорядочная стрельба, гудки паровозов, невообразимый шум, прерываемый частыми и меткими выстрелами нашей батареи. Снаряды пронизывали насквозь вагоны, из которых выскакивали и бежали в разные стороны красные. Вскоре, однако, три поезда один за другим полным ходом двинулись в направлении на станцию Сосыка-Владикавказская. Все они попали в руки 1-й бригады генерала Маркова; остальные четыре поезда двинулись на север, на станцию Кисляковскую. Услышав выстрелы у себя в глубоком тылу, красные, занимавшие позиции перед Екатериновской, начали поспешно отступать. Оставленный нами заслон капитана Бузуна перешел в наступление, и красные, взятые нами в два огня, рассеялись. В это время наш разъезд прибыл на станцию Крыловскую и присоединился к бригаде. Корниловцы захватили в станционных зданиях нескольких раненных накануне в бою у Екатериновской красноармейцев.
Вскоре с севера, со станицы Кисляковской, появился красный бронепоезд, который начал осыпать нас издалека своими снарядами. В этом направлении был двинут из резерва Партизанский полк, вступивший в упорный бой с пехотой красных, наступавшей вместе с этим бронепоездом. Между тем после короткого боя с противником, занимавшим станцию Крыловскую, корниловцы захватили ее, взяв большую добычу, оружие, патроны, снаряды и два орудия с запряжками. Неприятель целый день вел упорное наступление со стороны станицы Кисляковской. Раненый генерал Казанович с величайшими усилиями удерживал наступавших, так как молодые кубанские казаки, влитые в полк, под вечер и ночью уже начали уходить поодиночке в свои станицы.
Также 1-я пехотная и конная бригады в этот день с рассветом перешли в наступление, атакуя противника на железнодорожных станциях Сосыка и Ново-Леушковская. Особенно упорное сопротивление красные оказали у станции Сосыки. Несколько бронепоездов поддерживали пехоту красных и сильно задерживали наступление добровольческих частей, которым пришлось брать не одну станцию, а весь узел из двух станций – Сосыка-Владикавказская и Сосыка-Ейская. Только к вечеру все четыре станции были взяты добровольцами. Благодаря удачным взрывам, произведенным нашими подрывниками, много поездов не ускользнуло и добровольцам досталась большая военная добыча: оружие, патроны, снаряды и два орудия с запряжками. Подошедшие на присоединение к армии из станицы Незамаевской 500 казаков сразу же были вооружены захваченными на Сосыке винтовками и патронами и назначены на пополнение в 1-ю бригаду.
У Сосыки Офицерский полк понес тяжелые потери – около 100 человек, из которых на долю одной 1-й роты, попавшей под картечный и пулеметный огонь бронепоезда с дистанции в 200 шагов и подвергшейся атаке красной пехоты с флангов, пришлось 27 человек убитыми и 44 ранеными. Немалые потери понес и Кубанский стрелковый полк. Офицерский полк в этот день занял станицу Павловскую, радостно встреченный жителями, а к вечеру в Павловскую пришел и Кубанский стрелковый полк; ночью вся бригада двинулась дальше на север, в направлении Крыловской.
28 апреля. 1-я бригада пришла в станицу Ново-Михайловскую, в 6 верстах западнее Крыловской, занятой с боем 2-й бригадой, но еще ведшей жестокий бой с наступавшим со стороны Кисляковской противником. Через несколько часов на станцию Крыловскую выступила 1-я бригада, но на ней не задержалась, а проследовала на восток через Екатериновскую в станицу Ново-Пашковскую, где и расположилась на ночлег. Проведя на станции Крыловской очень тревожную минувшую ночь, 2-я бригада генерала Богаевского вслед за 1-й отошла обратно в Екатериновскую, где и расположилась на ночлег. Генерал Деникин предполагал расширить наступление дальше к северу, в направлении Кисляковской, но противник, получив сильное подкрепление, оказывал настолько упорное сопротивление, что этот план был отставлен во избежание напрасных потерь и армия двинулась обратно к южным донским станицам, увозя на 400 подводах захваченную военную добычу, в том числе два орудия в запряжках.
29 апреля армия по высохшей дороге спокойно перешла в Гуляй-Борисовку. В этот прекрасный весенний день в степи, при громком пении многочисленных жаворонков, добровольцы забыли о недавнем упорном бое.
30 апреля 1-я пехотная бригада генерала Маркова и конная бригада генерала Эрдели перешли в Егорлыцкую, а штаб армии и 2-я пехотная бригада генерала Богаевского – в Мечетинскую. Переход прошел спокойно. Части стали по широким квартирам. Раненые отправлены в госпитали Новочеркасска.
30 апреля 1918 года – дата окончания Первого Кубанского генерала Корнилова похода, который продолжался 80 дней, от 9 февраля до 30 апреля. Пройдено по основному маршруту 1050 верст. Из 80 дней – 44-я армия вела бои и провела 12 тяжелых сражений. Вышла в составе около 400 бойцов, возвратилась в составе 5000, пополненная кубанскими казаками. Похоронила в Кубанской земле своего вождя и около четырехсот добровольцев. Вывезла более полутора тысяч раненых.
Противник был пассивен, и для Добровольческой армии наступил период полного отдыха. Донцы, прошедшие с армией Первый Кубанский поход, согласно приказу войскового атамана, оставили ряды Добровольческой армии и влились в Донскую армию. С их уходом один только Партизанский полк уменьшился в численности наполовину. Сильно ослаблялись кавалерийские части. Ушел генерал Богаевский на высокий пост в Донском правительстве. Ушла учащаяся молодежь, составлявшая 5-ю роту Офицерского полка.
81
Рыковский Яков Федорович. Из дворян Области Войска Донского, казак ст. Усть-Белокалитвенской. Есаул л. – гв. Казачьего полка. Донской партизан. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку, затем командир взвода гвардейской сотни в 1-м офицерском конном полку. Убит 31 марта 1918 г. под Екатеринодаром.
82
Плеве Николай Павлович. Из дворян, сын офицера. Подъесаул л. – гв. Казачьего полка. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку, затем в 1-м офицерском конном полку. Убит 31 марта 1918 г. под Екатеринодаром.
83
Рыковский Федор Федорович, брат Я. Ф. Рыковского, р. в 1896 г. Офицер с 1914 г. Подъесаул л. – гв. Казачьего полка. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку, в 1-м офицерском конном полку. После похода до сентября 1918 г. командир сотни в своем (л. – гв. Казачьем) полку Донской армии, есаул. Ранен в 1919 г., в 1920 г. командир конвойной сотни штаба Главнокомандующего до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос: начальник хозяйственной части л. – гв. Казачьего полка. Осенью 1925 г. в составе Донского офицерского резерва в Болгарии. Полковник.
84
Жеребков Алексей Михайлович, р. в 1897 г. в Санкт-Петербурге. Корнет. В январе 1918 г. в войсках атамана Каледина. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Сотник, с апреля 1919 г. подъесаул л. – гв. Казачьего полка, адъютант Донского атамана. Ранен в сентябре 1920 г. Есаул (с сентября 1920 г.). В эмиграции во Франции. Покончил самоубийством 15 сентября 1932 г. в Ницце (Франция).
85
Чернецов Василий Михайлович, р. в 1880 г. Из казаков ст. Усть-Белокалитвенской Области Войска Донского. Окончил Каменское реальное училище (1907), Новочеркасское казачье юнкерское училище (1909). Есаул, командир сводной казачьей партизанской сотни при 4-й Донской казачьей дивизии, комендант Макеевских рудников. В ноябре 1917 г. организатор и командир партизанского отряда своего имени. С января 1918 г. полковник. Захвачен в плен и убит 30 января 1918 г. под Глубокой.
86
Краснов Семен Николаевич, р. в 1893 г. Из дворян Области Войска Донского, казак ст. Урюпинской (племянник Донского атамана Петра Николаевича Краснова). Окончил Николаевское кавалерийское училище (1913). Подъесаул л. – гв. Казачьего полка. С января 1918 г. в офицерской казачьей дружине при Донском атамане, в феврале 1918 г. начальник пулеметной команды бронепоезда. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку, затем командир 1-й сотни в своем (л. – гв. Казачьем) полку Донской армии; с 1918 г. есаул, затем войсковой старшина, с 28 октября 1920 г. полковник. Был на о. Лемнос. В годы Второй мировой войны – в антисоветских казачьих формированиях. Генерал-майор. Выдан в 1945 г. в Лиенце и казнен 19 января 1947 г. в Москве.
87
Ляхов Николай Дмитриевич, р. в 1897 г. Из казаков ст. Раздорской Области Войска Донского. Окончил 2-й кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище (1917 г.). Хорунжий л. – гв. Казачьего полка. С января 1918 г. в офицерской казачьей дружине при Донском атамане. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. Ранен 31 марта 1918 г. После похода – в своем (л. – гв. Казачьем) полку Донской армии; с 1918 г. сотник, с 1920 г. подъесаул. В эмиграции адъютант Главнокомандующего генерала Врангеля. Есаул. Умер 30 апреля 1962 г. в Англии.
88
Чекунов Сергей Акимович (1-й). Из казаков ст. Раздорской Области Войска Донского. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1917). Хорунжий л. – гв. Казачьего полка. С января 1918 г. в офицерской казачьей дружине при Донском атамане. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – в своем (л. – гв. Казачьем) полку Донской армии; с 1918 г. сотник. Ранен в мае и сентябре 1919 г., эвакуирован за границу, с 1920 г. исключен из списков полка.
89
Чекунов Григорий Акимович (2-й), брат С. А. Чекунова, р. в 1898 г. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1917). Хорунжий л. – гв. Казачьего полка. С января 1918 г. в офицерской казачьей дружине при Донском атамане. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – в своем (л. – гв. Казачьем) полку Донской армии; с 1918 г. сотник. Ранен в мае и декабре 1919 г. Подъесаул. Эвакуирован за границу.
90
Мигулин Григорий Петрович, р. в 1888 г. Из казаков ст. Усть-Белокалитвенской Области Войска Донского. Подхорунжий л. – гв. Казачьего полка. С января 1918 г. в офицерской казачьей дружине при Донском атамане. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – в 1-й сотне своего (л. – гв. Казачьего) полка Донской армии. С 1920 г. хорунжий в том же полку. Ранен в августе и октябре 1920 г. Сотник (с 3 сентября 1920 г.). Умер 9 августа 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
91
Усачев Иван Куприянович. Офицер с 1917 г. Хорунжий Донского казачьего войска. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – в л. – гв. Казачьем полку Донской армии. Сотник (с 1918 г.). Убит 11 августа 1919 г. у д. Морозовки.
92
Упорников Лев Алексеевич, р. в 1898 г. Хорунжий Донского казачьего войска. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – в сотне конвоя Донского атамана, с 1920 г. в 3-й сотне л. – гв. Казачьего полка. Ранен в августе 1920 г. С 27 апреля 1920 г. сотник, с 14 августа 1920 г. подъесаул. Был на о. Лемнос. Умер 14 сентября 1979 г. в Марбурге (Германия).
93
Балабин Олег Александрович, р. в 1899 г. в Новочеркасске. Сын офицера ВВД. Окончил Тифлисское военное училище (1917 г.). Прапорщик Донского казачьего войска. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – в партизанском отряде полковника Мамонтова, с конца 1918 г. – хорунжий в л. – гв. Казачьем полку. Ранен 22 февраля 1919 г. Есаул. Дважды тяжело ранен, инвалид. В Русской Армии до эвакуации Крыма. В эмиграции в Югославии. Капитан югославской армии, затем в Австралии, атаман казачьей станицы в Мельбурне. Умер 23 августа 1963 г. в Мельбурне.
94
Солтысов Константин Константинович. Прапорщик Донского казачьего войска. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку. После похода – сотник л. – гв. Казачьего полка в Донской армии. Умер после ранения 19 марта 1919 г. у хут. Семимаячного.
95
Скалозубов Вячеслав Николаевич. Прапорщик Донского казачьего войска. Чернецовец. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода в Партизанском полку, затем в 1-м конном полку. После похода – хорунжий л. – гв. Казачьего полка в Донской армии.
96
Она скончалась в 1984 г. в Париже.
97
Поздеев Константин Ростиславович, р. 22 октября 1887 г. Из казаков ст. Новочеркасской Области Войска Донского. Донской кадетский корпус (1905), Михайловское артиллерийское училище (1908). Есаул л. – гв. Казачьего полка. Георгиевский кавалер. В Донской армии; с 1 апреля 1918 г. – участник освобождения Новочеркасска, затем помощник командира в своем полку, с 10 мая 1918 г. войсковой старшина, с 5 марта 1920 г. командир л. – гв. Казачьего полка. Ранен в августе и октябре 1919 г., августе и октябре 1920 г. Генерал-майор (с 4 октября 1920 г.). В эмиграции заместитель (на декабрь 1924 г.) и затем председатель полкового объединения, представитель Донского атамана при РОВС, на ноябрь 1951 г. помощник председателя объединения л. – гв. Казачьего полка и представитель в Гвардейском объединении от 3-й гвардейской кавалерийской дивизии, член правления Союза Георгиевских кавалеров. На декабрь 1963 г. председатель Гвардейского объединения. Умер 2 января 1981 г. в Курбевуа (погребен в Сент-Женевьев-де-Буа).
98
Воспоминания С. Н. Ряснянского публикуются ниже.
99
Рашпиль Георгий Антонович. Из дворян Кубанской обл. Полковник. В начале 1918 г. в Кубанских частях. Участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, командир Кубанского конного дивизиона. Убит 31 марта 1918 г. под Екатеринодаром.
100
Есаул Собственного Его Императорского Величества конвоя Иван Андреевич Ветер (впоследствии полковник) был женат на сестре Г. А. Рашпиля Нине.
101
Галушкин Николай Васильевич, р. в 1893 г. в Санкт-Петербурге. Из казаков ст. Темнолесской Кубанской обл. Сын офицера. Окончил Воронежский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище (1913). Есаул Собственного Его Императорского Величества конвоя. Впоследствии войсковой старшина, помощник командира дивизиона Собственного Его Императорского Величества конвоя до эвакуации Крыма. Был на о. Лемнос. Осенью 1925 г. в составе дивизиона л. – гв. Кубанской и Терской казачьих сотен в Югославии. В эмиграции в Югославии, помощник командира 3-го Сводно-Кубанского полка; служил в Русском Корпусе. Полковник. Умер 6 июля 1964 г. в Лос-Анджелесе (США).
102
Баронесса София де Боде была одной из девушек, окончивших Александровское военное училище (1917). Участница октябрьских боев в Москве и 1-го Кубанского («Ледяного») похода. Убита 31 марта 1918 г. под Екатеринодаром.
103
Бузун Петр Григорьевич. Капитан. Во время 1-го Кубанского («Ледяного») похода – в Партизанском полку, с 31 марта 1918 г. командир 2-го батальона и помощник командира Партизанского (Алексеевского) полка, с июня 1919 г. командир 1-го Алексеевского полка, с ноября 1919 г. полковник, с апреля 1920 г. командир Алексеевского полка. В эмиграции в Югославии. Служил в Русском Корпусе. Убит 19 мая 1943 г. у Вальева (Югославия).