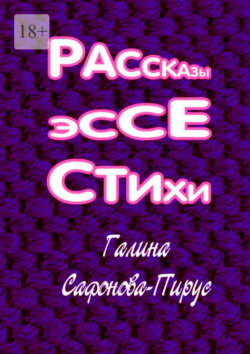Читать книгу Рассказы, эссе, стихи - Сафонова-Пирус Галина - Страница 4
Рассказы
БОБРИКИ ИЗ БОБРИНО
ОглавлениеК автовокзалу подъехала легковая тёмно-синяя машина, – «Мой любимый цвет!» – из неё вышел мужчина, – «Симпатичный… под стать своей машине.», – подошёл к киоску, что-то купил, – «Наверное, сигареты.» – взглянул в сторону нашей стайки, ждущей автобус, постоял, вроде как вглядываясь и пошёл в нашу сторону… – «Да это же…». И тут же услышала:
– Так все же это ты! – Ой, да это же Данила! Сто лет с ним не виделись. – Ну надо же… – Улыбнулся радостно: – А я, подъезжая сюда, вспомнил о тебе и подумал: по-прежнему ли навещает своё родное гнездо или?..
– Без «или», – улыбнулась и я, – как же можно забывать «родное пепелище»4?
– Можно, можно. – И его улыбка растаяла: – Многие забывают. – Помолчал, кивнул на моих попутчиков, ожидающих автобус: – Однако народу собралось!.. наверное тебе стоять придётся…
– Придётся, так придётся, у меня же нет машины, как у тебя.
Взглянул:
– Слушай, а поедем-ка со мной. Правда, на полпути мне надо будет свернуть в деревню… – И снова заулыбался: – Но зато потом ты сможешь сесть на один из пригородных автобусов, там они уже часто ходят в твой областной…
«А почему бы и нет?» – спросила у себя и, согласно кивнув головой, шагнула к машине.
Данила одно время работал у нас журналистом после окончания Университета, – по распределению, – но не остался, а уехал «пробиваться» в Москву. И хотя журналист он был неплохой, всё же как-то мало верилось, что ему удастся осуществить задуманное, – был слишком робок, эмоционален, да и не любил подчиняться вышестоящим редакторам, требовавшим штампованных слов, составляющих такие же штампованные фразы. Но видать в Москве в те времена, – начало девяностых, – более умные и свободные редакторы ждали от журналистов чего-то свежего, нового, поэтому и удалось ему вначале «зацепиться» в каком-то журнале, а потом в «Литературной газете», которая была для нас «светом в окне».
– И зачем ты пожаловал в наши края? – спросила после привычных: ну, как ты?.. а как ты?
Усмехнулся:
– А пожаловал, как ты выразилась, для того, чтобы отцу в деревню отвезти всё необходимое. И так жалую… – Снова усмешка: – каждый месяц.
«Вот это да!» – удивилась, но спросила:
– А почему твой отец в деревне? Слухи ходили, – взглянула тоже с усмешкой, – что ты его к себе в Москву забрал.
– Слухи тебя не обманули, – принял мою шутливую усмешку: – Забрать-то забрал, но он потом…
И дальше короткими фразами «набросал» портрет своего отца: родился тот в деревне, куда на лето привозила Даньку его дочь, и дед любил рассказывать внуку о своих предках, о том, как те пахали землю, сажали, убирали урожаи, да и не только рассказывал, но и показывал чудом уцелевшие у соседей, а теперь приютившиеся у него в сарае плуг, борону, да и в хате был целый уголок с разной деревенской утварью, – ухватом, кочергой, прялкой, лаптями, плетениями из липы, бересты. И всё это, дорисованное живым воображением внука, так запало в душу будущего журналиста, что писать кроме как о колхозниках или «сельских тружениках», как их называли в советские времена, уже не мог, да и теперь пишет о перестраивающейся, приспосабливающейся к «рыночным отношениям» деревне.
– Знаешь, при социализме всё было как-то понятно. – Он склоняет голову влево, пытаясь увидеть дорогу из-за задка впереди идущего трейлера, чтобы его обогнать: – Ведь были колхозы, были пятилетки, планы, которыми мерили их успехи, а теперь… – Обогнал машину, переключил скорость. – А теперь… – «А теперь на распутье, как и многие?» Но он усмехнулся: – Теперь мечешься и не знаешь о чём и как писать. – Приподнял над баранкой руку, сжал, разжал пальцы: – То ли восхвалять сельские агрокомплексы, подминающие под себя деревни, то ли защищать мелких фермеров, пытающихся сохранять истинно русское, бережное отношение к земле… земле-кормилице. – «Надо же, и мама так о земле говорила!» – Всё перевернулось. Всё меняется и приходится только, как говорится, констатировать факты, следовать за свершающимся, ни на чём не акцентируя, ничего не предлагая… – Помолчал: – Хотя иной раз и ноет сердце. – Вздохнул коротко: – От бессилия.
– И по какому поводу твоё сердце ноет от бессилия?
– Да при виде покинутых деревень. А их столько!.. Страшные картины. Тебе приходилось в таких быть?
– Нет. Но слышала, видела… по телевизору.
– Ха! По телевизору, – беззлобно усмехнулся. – То совсем другие картины, другое восприятие, а вот когда бродишь по такой…
И замолчал, словно погружаясь в те самые картины. «Отвлечь его от них?.. А, не буду. И даже вот что скажу»:
– Данила, я всегда знала тебя как человека очень эмоционального, так может и теперь воспринимаешь всё это слишком…
– Нет, не слишком, – сказал резко… словно поставил точку: – Если бы ты сама увидела… – И коротко взглянул на меня раз, другой. «Что это он?» – Слушай, а и впрямь… Не взглянуть ли тебе на всё это? Давай прямо сейчас и…
– А что «и»? – немного растерялась.
– А то «и», – весело усмехнулся: – Едем-ка со мной, отец как раз в такой деревне и живёт.
«Ну и ну… Прямо сейчас и ехать?» И он, заметив мою растерянность, заговорил быстро, с почти радостной улыбкой:
– Ну посмотри вокруг! Весна, всё просыпается, зеленеет, собирается цвести, а ты нырнёшь в свой каменный город и не увидишь настоящей весны… – И улыбка его растаяла: – Но напористой, нахальной, которая…
– Почему нахальной? – рассмеялась я.
– Сама увидишь, если поедешь. – И слегка тронул за локоть: – Ну что, едем? Побудешь часок, а потом подкину тебя до трассы, успеешь к ночи в свой серо-каменный.
«А почему бы и нет?» – снова спросила себя и согласно кивнула головой.
Вспоминая наши прошлые совместные поездки на съемки сюжетов, мы проехали уже километров двадцать, когда справа мелькнула вторая крытая безлюдная автобусная остановка и Данила, свернув с трассы на грунтовую дорогу и, то и дело крутя баранку, объезжая лужи, молча старался не попасть еще и в глубокую колею от недавно проехавшего трактора. «Ему теперь не до разговоров… Да. весна здесь гораздо заметнее каждой веткой, кочкой, подставившей уже зазеленевший бочок греющим лучам солнца. А как распушились берёзы, развесив серёжки навстречу скорым листьям! Как совсем по-иному зеленеют ели, сосны… словно их только что лаком опрыснули. Ой, а вон там целая стайка бобриков!»
– Данила, смотри, подснежники! Можно мне… можно я…
– Но-о… – догадался о моём желании: – они же в Красной книге. – И мягко улыбнулся, словно извиняясь: – Но несколько штук можно… потом, чтоб не завяли. Вокруг нашей деревни их столько!.. Не зря же Бобрино так назвали.
– А сколько нам еще ехать?
– Да недалеко. – Помолчал, взглянул на мелькающие ёлочки: – И знаешь, хотя от трассы всего-то пять километров, но как только в семьдесят четвёртом колхозникам тоже паспорта стали выдавать, так сразу и начали перебираться в города, бросать свои деревни. В Бобрино тридцать два дома было, а теперь…
– И в такой… заброшенной живёт твой отец?
– Ну да… Правда не один, две соседки у него… такие же старые. И раньше жили в своих домах, а теперь сошлись в одном, в том, что крепче.
– И не страшно им… одним?
– А чего бояться? – усмехнулся. – Да если бы и боялись… боялся, – поправился, – всё равно батю оттуда не увезти. Только одну зиму у нас пожил и заскучал, затосковал: «Не могу я оставаться в этих серых клетках. Домой хочу, в деревню. У меня же там хозяйство осталось. Да и мне бы… как только проснулся, так сразу на земельку ступить.» – почти пропел изменившимся голосом: – И это его… во мне, как лейтмотив. Вот и езжу к нему раз в месяц, продукты отвожу и для него, и для… – Пальцем что-то нарисовал пред собой: – Ведь у него коза в сарайчике, а у соседок кур с десяток, так что приходится и для них…
– А освещение, вода, … Как с водой-то у них? Из колодца?
– Да нет, – усмехнулся, – ведь километрах в десяти от деревни огромный овощной комплекс возведён… который, кстати из неё последних жителей к себе и перетянул, а электролиния к нему через Бобрино проходит. Ну а вода… Я скважину им пробурил, так что воды у них хватает, да еще какой! Всегда с собой увожу
– А хлеб, – не унялась я. – Ведь не привозят же им… для троих?
– Да сами пекут. Привёз им мешок муки, дрожжей сухих, баба Настя и печёт.
– А зимой… зимой как к ним добираешься? Ведь сугробы…
– Зимой… – усмехнулся, – у меня другая тактика. Доезжаем с сыном до твоего городка, машину оставляем у знакомых, а сами с рюкзаками – на автобус, потом – на лыжи и-и пошли! Прогулка получается о-отличная!
Взглянула на него: «Значит и сыну эстафету передает. Вот молодец!» Но не сказала.
Машина вынырнула из-под деревьев и перед нами открылось широкое поле, укрытое жухлой, припавшей к земле от недавно растаявшего снега травой, над которой то тут, то там весело выныривали молодые берёзки. «Какие же они тоненькие да радостные!»
– Ну вот, почти и приехали, – распрямился Данила: – На том конце поля моя деревня. – Помолчал: – А ведь когда-то… – Опустил стекло, вдохнул уже пахнущий весной воздух: – на этом поле рожь сеяли… а в ней васильки подмигивали. – И голос его стал тише: – которые я для Наташки… – Но осёкся, махнул рукой: – А, что там вспоминать…
И решительно нажал одну из кнопок, отчего машина вдруг наполнилась светлой, но грустной музыкой. «Как же созвучна она и рассказанному Данилой, и этому забытому людьми полю!» А впереди, под стайкой почти белых, сбившихся над краем поля облачков, уже серели крыши тех самых покинутых домиков, к которым ехали.
По чуть шелестящей прошлогодней, не тронутой колёсами машин траве, мы въехали в деревню:
– Всё. Приехали. Хорошо, что наш дом почти крайний, а то дальше… – Усмехнулся, пропел: «Там, где кончается асфальт…» И уже мы идём по чуть заметной тропке к старушке, сидящей у следующего дома.
– Баба Настя, здравствуйте! – приветствует её Данила: – Что, вышли на солнышке погреться?
Она какое-то время смотрит на него отчуждённо, словно не признавая, но вдруг губы складываются в подобие улыбки:
– Да вот… – поглаживает белого кота, уютно свернувшегося на коленях, – Греем свои старые косточки, день-то какой сегодня погожий. – И её глаза оживают, всплёскивает руками: – Ба-атюшки, а батя-то твой ишшо из лесу не возвернулся с подругой моей…
– Ну и ну… – Данила вынул мобильник, стал набирать номер: – Я же ему вчера звонил, что приеду, а он…
– Да знаить он, знаить, но надумал сморчками тебя угостить, вот и… – Сунула выбившуюся прядь волос под платок: – Да не звони ты ему, не надоть… – кивнула на руки Данилы, – он уже скоро придёть.
Но Данила уже говорит в мобильник: «Здравствуй, здравствуй. И где ты сейчас, далеко убрёл?.. А-а, километрах в трёх… Возле чего?.. Той самой сосны, которую мы с тобой?.. Ну, хорошо, ждите, я сейчас подъеду».
И пока разговаривал, старушка всё поглядывала и поглядывала на меня настороженно. «И почему так смотрит?» Наверное, и Данила это заметил:
– Вот, баба Настя, представляю… Моя давнишняя знакомая, коллега по работе. Привёз её с вами познакомить и с деревней.
– А-а, – И взгляд старушки подобрел: – То-то я смотрю, смотрю… вроде бы не твоя жена… – И почти улыбнулась: – А знакомить… Что ж, с нами-то можно и познакомить, а вот с деревней… – Опустила руку на кота: – Кот с собакой, коза, твой батя да мы с Марьей… вот теперя и вся наша деревня.
– И всё же хочу показать ей… – улыбнулся Данила мне, – хотя бы один из брошенных домов, может, подскажешь в каком двери не забиты?
– Да они во всех хатах не забиты, входи в какую хошь. Приезжають же разные, шарють в них, всё ищщуть, ищуть чавой-то, вот двери и посломали.
«Как сказала-то беззлобно! Спросить о чём-либо?»
– Бабушка Настя, а разве вам не страшно, когда приезжают такие… искатели?
– А чего бояться-то? Что у нас грабить? Раз пришли ко мне, стали деньги искать, а я и говорю: да что ж вы ишшите? Пенсию мою дочка на карточку получаить, за неё продукты мне из городу привозить, вот и нетути у меня денег. И не ишшыте их, не старайтеся. Так ничаво… повернулися и ушли.
– Ну ладно, баба Настя, – Данила сунул телефон в карман куртки, – я поеду за батей, а ты покажи… – кивнул на меня, – моей коллеге дом, в который она могла бы войти, посмотреть, что там… как там, я-то уже насмотрелся.
– Да пусть идёть во-он в тот, – кивнула на обнесённый почти рухнувшим забором: – Там Хабаровы жили. Стариуки-то недавно померли, а молодые уже давно по городам разъехалися.
По полёгшей бурой траве я пошла к тому дому, – «Еще крепкий какой… и даже красивый.», – обошла провисший забор, через висящую на одной петле калитку вошла во двор и на меня меж когда-то голубых резных наличников глянуло распахнутое окно с еще целыми стёклами, – «Словно приглашает во внутрь заглянуть.» – но пока осмотрелась. У сарайчика – два улья без крыш, рядом – бочка, опоясанная лыком, к углу хаты доверчиво прильнувшая собачья будка. Подошла к перекошенной распахнутой входной двери, – «Боязно заходить во внутрь.» – но переступила сломанную ступеньку и за провалом тёмного коридорчика три окна лучами солнца высветили диван и кресло со вспоротой обивкой. – «Наверное, налётчики в них деньги искали.» – на полу – ворохи одежды, детское розовое платьице, чёрная юбка, полосатая рубашка. – «А ведь когда-то всё это носилось, кого-то согревало.» – Перешагнула через куртку с беспомощно раскинутыми рукавами, подошла к столу. С краю бледно синела выцветшая тетрадка, – «… ученика 4-го класса Хабарова Саши» – из-под неё выглядывал зелёный краешек обложки книги, – «Виталий Бианки. Лесные домишки.» – рядом выпотрошенной внутренностью и оборванными проводками темнел приёмник, – «Ведь его слушали, из него песни неслись.» – над ним на стене висела выцветшая фотография военного с ромбиками в петлице, смотрящего с немым вопросом, – «Словно спрашивает: чего ж меня-то здесь оставили?»
А почти посреди хаты по-хозяйски возвышалась большая русская печка с посеревшими боками, услужливо подставлявшая свои печурки, – «Ну давайте мне ваши мокрые варежки!», – вокруг неё со стен свисали местами содранные обои с уже непонятными рисунками, – «И под ними деньги искали? – а над моей головой – ощетинившаяся доска проломанного потолка. «Как же тоскливо стало от всего этого!» И я вышла. Путаясь в траве, пошла вдоль улицы, приостанавливаясь напротив других домов и на одном из них увидела выцветшую табличку с надписью: «Здесь живёт заслуженный колхозник…», но фамилия почему-то была соскоблена, а на другом – потускневшую красную звезду, – «Наверное, ветеран войны там жил. Ну да, баба Настя говорила, что ушли на фронт семнадцать мужиков, а возвратились только двое». И теперь эти покинутые пустые дома, потемневшие «ликом», молча смотрели на меня и их «взгляды» казались немым упрёком. «А ведь когда-то в таких же жили и мои предки. Но что осталось во мне от их жизни? Ни-че-го. Жалею ли об этом? Да, конечно…» И тут услышала длинный сигнал машины, – «Данила приехал. Надо возвращаться».
И было продолжение этого удивительного дня на крыльце дома с отцом Данилы Алексеем, с бабой Настей и её подругой Матрёной, с лохматым черным псом по имени Шарик, сразу признавшим меня «своей», белой козой Нюркой, пощипывающей чуть пробившуюся травку в окружении нескольких безымянных рыжих куриц и пёстрого красавца-петуха. И были еще вкуснейшие жареные сморчками, только что принесенными из лесу и чай, заваренный чабрецом. А вокруг нас торжествовала весна и молодые берёзки по одной или стайками наступали на покинутую деревню, пробирались в её огороды, дворы. «Так вот почему Данила назвал весну нахальной! Да, именно в такие весенние дни торжествующего обновления природы более всего заметно, как берёзы наступают на покинутую деревню. И есть в этом нечто тревожащее и даже мистическое, ведь совсем скоро укроют они собою всё домики. Грустно. Но что делать? Жизнь продолжается».
Уже в сумерках ехала я автобусом в свой «серокаменный город». Впереди, прямо над трассой, висела огромная луна, за окном то и дело проплывали размытые пятна фонарей и световые блики словно высвечивали недавно прожитые часы: «Какой же длинный, но наполненный день прожила я сегодня благодаря Даниле, еще не утратившему самого сокровенного, – родства с родным гнездом, – его отцу, не принявшему „тесных клеток“ города и двум старушкам, оставшимся верными деревне.» И, может, еще потому этот день согревал мою душу, что не услышала я от них жалоб на кого-либо или на свою участь, которые так часты от моих соседок, живущих в своих «серых», но тёплых и защищенных «клетках», и своё прожитое воспринимали эти трое как данность, как простое продолжение их деревенской жизни.
И виделось мне: я приезжаю в Бобрино, селюсь в ту самую хату Хабаровых, понемногу привожу её в порядок и по утрам, когда выхожу во двор, то из когда-то покинутой будки мне навстречу, радостно виляя хвостом, выбегает мой квартирный пёс Том… «Но стоп. Не будет такого. Слишком „урбанизирован“ мой муж, дети, ведь они – уже третье поколение, оторванное от земли. Да и сама напрочь приросла к городу своей профессией.» А передо мною в туесочке из бересты, подаренном Алексеем, из пушистого тёмно-зелёного мха светло улыбались три лохматых голубых бобрика, отчего в душе трепетало чувство… нет, вопрос: вот же, вот… как мало надо этим цветкам, чтобы быть прекрасными, – совершенными! – так почему же мы, люди, всё ищем и ищем счастье в комфорте, теряя при этом нечто истинное, – кровное родство с Природой.
4
Александр Пушкин: «Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам.»