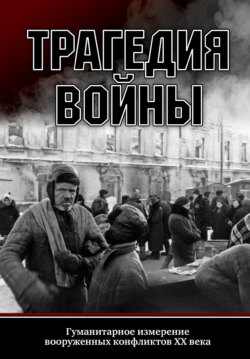Читать книгу Трагедия войны. Гуманитарное измерение вооруженных конфликтов XX века - Сборник статей, Андрей Владимрович Быстров, Анна Владимировна Климович - Страница 3
Исследования
Политика русского военного командования в отношении гражданского населения Восточной Пруссии в 1914–1915 гг.: опыт взаимодействия в контексте «тотальной» войны
ОглавлениеКонстантин Александрович Пахалюк, канд. полит. наук, главный специалист – куратор научно-просветительских проектов Российского военно-исторического общества
Аннотация. Статья посвящена эволюции отношения русского военного командования к гражданскому населению Восточной Пруссии в 1914–1915 гг. в условиях массовой войны, которая на практике стерла возможность проведения четкой разграничительной линии между комбатантами и некомбатантами, а также гражданским и «военным» имуществом. В итоге к осени 1914 г. принципы политики в адрес мирных граждан эволюционировали: на первое место был поставлен метод массовых принудительных переселений, что в целом соответствовало характеру войны и позволяло соблюсти если не «дух», то «букву» Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. В 1914 г. на официальном уровне претерпело изменения отношение к немецкому имуществу: от восполнения пробелов в снабжении русское командование перешло к систематическому нанесению экономического урона, рассматривая это в качестве легитимной формы ведения войны. В недрах войск проведение различия между реквизициями и мародерством было теснейшим образом переплетено с вопросами иерархии, власти и поддержания порядка.
Ключевые слова: «тотальная» война, Первая мировая война, принудительные переселения, вооруженное насилие.
Первая мировая была первой в европейской истории войной не только массовой, но и близкой к тому, чтобы быть названной «тотальной»[28]. Если в XVIII–XIX вв. вооруженные конфликты велись профессиональными армиями на относительно ограниченной территории, то теперь, ввиду массовой мобилизации и развития техники, сталкивались многомиллионные войска, большую часть которых составляли вчерашние гражданские лица. Еще в 1880-е гг. это обстоятельство предвидел немецкий генерал К. фон дер Гольц, который разрабатывал концепцию новой войны как противостояния вооруженных народов[29]. Принципиальное отличие заключалось не только в численном увеличении действующей армии и качественном изменении ее состава – для каждой участвующей стороны война превращалась в организующий принцип всей политической, экономической и общественной жизни. Крах надежд на быструю победу в 1914 г. поставил все противоборствующие страны перед схожим набором вызовов – изменение принципов стратегии и тактики, выработка механизмов политического управления войсками, поиск методов мобилизации экономики и широких слоев населения, и пр.
Говоря о «тотальной» войне, британский теоретик М. Калдор отмечает стирание граней между военными и гражданскими, комбатантами и некомбатантами[30]. Немецкий историк С. Ферстер пишет схожим образом: «Суть тотальной войны – сознательное втягивание гражданских лиц в военные действия. Без прямой поддержки гражданского общества переход к этому распространенному типу войны, наложившему отпечаток на целую эпоху, был бы невозможен. Одновременно гражданские лица превратились в мишень»[31]. Приведенные тезисы касаются прежде всего вопросов массовой мобилизации и взаимоотношений внутри общества, однако мы полагаем эти наблюдения актуальными и для изучения того, как «тотальный» характер войны сказался на формах взаимодействия армии (комбатантов) с гражданским населением враждебной стороны (некомбатантами). В качестве примера для изучения мы взяли Восточную Пруссию, которая в 1914–1915 гг. стала местом ожесточенных боев русских и германских войск. Речь идет об относительно непродолжительных событиях. Вглубь этой провинции русская армия продвинулась только в середине августа 1914 г., заняв на непродолжительное время, 2–3 недели, почти две трети ее территории на юге и востоке. Со второй половины сентября началось условное «второе наступление», когда русские войска (впоследствии объединенные в 10-ю армию) снова вышли к германской границе и в ходе изнурительных позиционных боев к середине ноября продвинулись к линии Мазурских озер и р. Ангерапп (примерно 1/5 провинции снова оказалась под русской властью). В начале февраля 1915 г. немцы организовали крупное наступление, в ходе которого вытеснили противника из Восточной Пруссии. В марте 1915 г. отряд генерала Потапова совершил непродолжительный набег на Мемель, а в апреле 1915 г. русские бомбардировщики сбрасывали бомбы на некоторые объекты инфраструктуры в этой провинции.
В зарубежной историографии вопрос взаимодействия русских солдат с восточно-прусскими обывателями достаточно подробно изучен, что не отменяет определенные сложности, вызванные выявлением релевантных источников, слабым знакомством с российскими документами, а также влиянием предвзятых установок, восходящих к пропаганде военного времени. Так, еще в годы Первой мировой немецкие газеты стремились подчеркивать «ужасы русской оккупации», в том числе для того, чтобы размыть в информационном пространстве обвинения в зверствах на территории Бельгии и Франции. Впрочем, именно тогда местные власти озаботились не только проведением достаточно дотошных расследований «русских преступлений», но и масштабными записями устных свидетельств, собираемых по «горячим следам»[32]. Как отмечает российский историк И. О. Дементьев, в дальнейшем немецкая и польская историография акцентировала преступления русских войск, этот подход доминировал и в начале XXI в. Отдельные авторы, правда, пытались проблематизировать данные представления[33]. Среди немецких историков первым стал Й. Гайсс, который в 1978 г. писал о преувеличении пропагандой размаха «русских зверств»[34], а в 1989 г. П. Ян признал, что «террор, от которого страдало восточно-прусское население, имел особые формы (это были в первую очередь эксцессы со стороны мародерствующих солдат), характеризовавшие его скорее как террор от недисциплинированности; он никоим образом не принес более страшных жертв, чем, скажем, дисциплинированный террор немецкой оккупации в Бельгии»[35]. Для англоязычной и отчасти французской историографии начала XXI в., по утверждению И. О. Дементьева, наоборот, характерно преодоление однобоких оценок, в т. ч. посредством рассмотрения случая Восточной Пруссии в контексте действий других армий на оккупированных территориях. Впрочем, британский историк А. Уотсон, наоборот, считает: для западной истории в целом типично восприятие «русских зверств» в качестве «военного мифа», а сам он стремится доказать, что поведение русской армии принципиальным образом не отличалась от того, что делали сами немцы в отношении мирного населения Бельгии и севера Франции[36].
В российской историографии проблема отношений русских войск и мирных жителей Восточной Пруссии не привлекала широкого внимания, что объясняется как неослабевающей традицией опускать «сложные вопросы» военного прошлого, так и некоторой факультативностью этой темы: пребывание русских армий было непродолжительным, а руководство Российской империи всерьез рассматривало возможность присоединения только Мемельского края, а не всей провинции. Впрочем, это не отменяет определенных дискуссий на этот счет: например, генерал А. Н. Куропаткин выступал за аннексию всей Восточной Пруссии[37], об этом говорили некоторые литовские депутаты Государственной Думы, призывая вернуть «исконно» литовские территории. В начале 1917 г. в Министерстве рассматривалась возможность отторжения от Германии тех земель, где массово проживали поляки[38]. Однако основные территориальные приращения виделись в Закавказье и в Восточной Галиции. Пребывание русских войск на территории последней оказалось более продолжительным, а проводившаяся политика отличалась систематичностью, что и привлекло в настоящее время внимание ряда исследователей[39]. Различные аспекты взаимодействия русских войск и мирного населения Восточной Пруссии рассматривались в рамках либо истории Калининградской области и «русского присутствия» в регионе (локальная история или краеведение)[40], либо анализа депортаций мирного населения в годы войны[41].
В настоящей статье мы собираемся сосредоточить внимание на выработке и трансформации политики русских военных властей, а также на изменении нормативных установок, определяющих допустимые формы как силового воздействия на некомбатантов, так и отношения к их имуществу. Мы выдвигаем тезис, что сам характер войны поставил руководство русской армии в ситуацию, когда затруднительным оказалось следование устоявшимся нормативным представлениям о разделении между комбатантами и некомбатантами, а также военным и гражданским имуществом. Ввиду отсутствия времени и объективных возможностей (из-за динамики боев), а также неготовности осмыслять войну в принципиально новых категориях, русское командование ситуативно искало ответы на эти вызовы, однако тем не менее найденные к концу 1914 г. решения (реквизиции как метод подрыва экономического благосостояния противника и политика депортаций) уже нами могут быть оценены как серьезный сдвиг в сторону принятия логики «тотальной» войны.
Стоит обратить внимание, что Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., основанная преимущественно на традиционных подходах, вполне адекватных условиям «классических» войн XVIII–XIX вв., не могла стать адекватным руководством к действию в период затяжной массовой войны[42]. Так, она закрепляла различение между мирным населением и военными, в то же самое время требуя причислять к последним добровольческие и ополченческие отряды, если они обладают признаками военной организации, т. е. их возглавляет некое ответственное лицо, сами члены имеют «определенный и явственно видимый издали отличительный знак», носят открыто оружие, а также соблюдают положения конвенции. В случае, когда мирное население не успевает сорганизоваться таким образом, оно должно считаться комбатантами, если открыто носит оружие и соблюдает положения Конвенции (статья 2 приложения к Конвенции). Тем самым ключевым критерием, проводящим границу между военными и гражданскими, называлось открытое ношение оружия, однако это указание в реальных условиях оказалось недостаточным (поскольку никак не разъясняло такое поведение, как шпионаж, подача сигналов своим войскам, порча вражеских телеграфных проводов и т. д.). Прочие статьи запрещали бессудную расправу, жестокое отношение, бомбардировки незащищенных городов, принуждение мирного населения к присяге на верность или даче сведений о своей армии. Также предписывалось поддерживать общественный порядок и общественную жизнь, причем «честь и права семейные, жизнь отдельных лиц и частная собственность, равно как и религиозные убеждения и отправление обрядов веры, должны быть уважаемы» (статья 46 приложения). Все эти нормы задавали общую рамку поведения на оккупированной территории, однако с трудом давали ответ, как вести себя в случае массовой враждебности. Обобщенность формулировок допускала двоякие трактовки. Так, статья 50 приложения к Конвенции запрещала накладывать «общее взыскание, денежное или иное <…> на все население за те деяния единичных лиц, в коих не может быть усмотрено солидарной ответственности населения». Последнее, как и то, что именно считать «открытым ношением оружия», фактически оставалось на усмотрение начальствующих лиц и могло трактоваться совершенно по-разному. В отношении неприятельской собственности Конвенция также накладывала ограничения – ее истребление и захват могли быть оправданы только военной необходимостью (статья 23 приложения, пункт «ж»), статья 46 приложения напрямую запрещала конфискацию частной собственности, при этом статья 51 приложения разрешала контрибуции, а также сбор налогов, натуральных повинностей или работ на нужды армии или для организации управления занятой территорией.
28
Ферстер С. Тотальная война. Концептуальные размышления к историческому анализу структур эпохи 1861–1945 гг. // Опыт мировых войн в истории России: сб. ст. [Ред. колл.: И. В. Нарский и др.]. Челябинск, 2007. С. 12–27.
29
Кумальков А. Д. Война, или В плену насилия. СПб., 2019. С. 115.
30
Калдор М. Новые и старые войны. М., 2016. С. 75.
31
Ферстер С. Указ. соч. С. 25.
32
См.: Watson A. «Unheard-of Brutality»: Russian Atrocities against Civilians in East Prussia, 1914–1915 // The Journal of Modern History. 2014. Vol. 86. № 4. P. 789–795.
33
См.: Дементьев И. О. «Исключения из общего правила»: смена вех в дискуссиях западных историков о характере русской оккупации Восточной Пруссии в годы Первой мировой войны // Калининградские архивы: материалы и исследования: сб. ст. / Отв. ред. В. Н. Маслов. Вып. 11. Калининград, 2014. С. 75–88.
34
Там же. С. 78; Geiss I. Das Deutsche Reich und der Erste Weltkrieg. Munchen, 1978.
35
См.: Jahn P. «Zarendreck, Barbarendreck – Peitscht sie weg!» // August 1914: Ein Volk zieht in den Krieg. Berlin, 1989. S. 148.
36
См.: Watson A. Op. cit. P. 812.
37
Панченко А. А. Восточная Пруссия в геополитических проектах Российской империи в начале Первой мировой войны // Великая и забытая: материалы международной научнопрактической конференции / Ред. – сост. К. А. Пахалюк. Калининград: Гусев, 2013. С. 68–72.
38
Зубачевский В. А. Политика России в Центрально-Восточной Европе накануне и в годы Первой мировой войны // Новая и новейшая история. 2014. № 3. С. 3—12.
39
См.: Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.). М., 2004; Holquist P. The Role of Personality in the First (1914–1915) Russian Occupation of Galicia and Bukovina // Anti-Jewish Violence: Rethinking the Pogrom in European History / Ed. by J. Dekel-Chen, D. Gaunt, N. Meir, I. Bartal. Bloomington, 2010. P. 52–73; Соколов Л. Львов под русской властью. 19141915. СПб, 2019.
40
См. напр.: Кретинин Г. В. Август четырнадцатого // Очерки истории Восточной Пруссии. Калининград, 2002. С. 346–368; Багратионовск: художественный альбом / Сост. А. А. Панченко [и др.]. Калининград, 2003. С. 26; Чебуркин Н. Инстербургский парад // Балтийский альманах. 2002. № 3. С. 22; Иванов А. М. Гумбиннен – Гусев (историко-краеведческий очерк). Калининград, 2003; Новиков А. С. «Инцидент в Абшвангене» и политика русских военных властей в Восточной Пруссии // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции. 2017. № 5. С. 52–58.
41
Нелипович С. Г. Население оккупированных территорий рассматривалось как резерв противника // Военно-исторический журнал. 2002. № 2. С. 60–69.
42
Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 1907 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/901753259 (дата обращения: 23.11.2020).