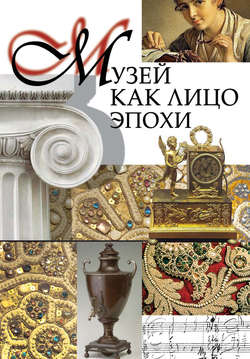Читать книгу Музей как лицо эпохи. Сборник статей и интервью, опубликованных в научно-популярном журнале «Знание – сила» - Сборник статей, Андрей Владимрович Быстров, Анна Владимировна Климович - Страница 12
Очень яркое время
Вадим Корецкий[3]. Таинственный XVII век
Таинственная личность
ОглавлениеЕй, ей, ты будешь на коле.
Дневник Борши, польского сторонника Лжедмитрия.
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла.
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла.
А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
Личность первого самозванца, человека талантливого, мужественного, смело бросившего вызов судьбе, издавна привлекала к себе внимание не только историков, но и поэтов, драматургов, художников. Образ отважного претендента вдохновил Лопе де Вега, Фридриха Шиллера, А. С. Пушкина. Лопе де Вега следовал прокатолической тенденции. У него добивается московского престола истинный царевич. У Шиллера Дмитрий сначала видит в себе истинного царевича и только много позже узнает, что это не так. Пушкин разделял взгляды современных русских публицистов и летописцев. Те согласно считали самозванца Григорием Отрепьевым, беглым монахом Чудова монастыря, расходясь между собой лишь в некоторых деталях его биографии. Если прогодуновская правительственная версия о гибели царевича Дмитрия сразу же подверглась критике, то здесь, напротив, царило полное единодушие.
Сомнения возникли два столетия спустя – в XIX веке. Тогда было предложено несколько решений. В человеке, одиннадцать месяцев занимавшем русский престол, пытались видеть: поляка или литовца по происхождению, выкормыша иезуитов, чуть ли не внебрачного сына польского короля Стефана Батория; некоего неизвестного русского, подготовленного боярами, чтобы свалить Бориса Годунова; истинного Рюриковича, спасенного от убийц своими доброхотами. Наконец, было высказано мнение о существовании двух Григориев Отрепьевых, из которых один так и остался дьяконом, а другой стал царствовать на Москве.
Но новые версии не мешали старой находить новые подтверждения. В 1851 году священник Амвросий Добротворский, посланный начальством на поиски местных исторических достопримечательностей, обнаружил в Загоровском монастыре на Волыни Постническую книгу Василия Великого, напечатанную в Остроге в 1594 году, а на книге – надпись о том, что подарил ее 14 августа 1602 года киевский воевода князь К. К. Острожский «нам, Григорию, царевичу московскому, з братею с Варламом да Мисаилом». При этом слова «царевичу московскому» приписаны позднее. Значение этой надписи еще больше возросло после того, как советские историки И. А. Голубцов и Е. Н. Кушева, независимо друг от друга, пришли к выводу, что знаменитый Извет Варлаама, спутника Григория Отрепьева во время бегства за границу, представляет собой подлинную челобитную, поданную во время царствования Василия Шуйского, а не публицистическое произведение, вышедшее из правительственных сфер. В своем Извете Варлаам описывает не только встречу с Григорием Отрепьевым в Москве и бегство в Литву, но и совместные похождения за рубежом, в частности посещение имения князя К. К. Острожского. Известно, что за рубежом Григорий Отрепьев часто отклонялся от норм монашеского жития – пил вино, ел в постные дни мясо, водился с разгульными запорожскими казаками. Князь, исповедовавший православную веру, напоминал ему своим подарком о недопустимости такого поведения. Важной вехой в разгадывании тайны стали замечательные палеографические и филологические работы С. Пташицкого и И. Бодуэна де Куртене. Эти ученые исследовали собственноручное письмо самозванца к папе Клименту VIII, найденное в 1898 году в Ватиканском архиве католическим священником Пирлингом. По характеру ошибок и манере написания отдельных букв они заключили, что самозванец, переписавший по-польски письмо, заранее для него составленное, был русским человеком, получившим церковное образование, возможно, москвичом. Последнее утверждение требует еще дополнительных обоснований. И их, думается, можно найти, сравнивая почерк Лжедмитрия I с тем, как было принято писать в скриптории Чудова монастыря, где Григорий Отрепьев занимался перепиской книг. Споры о том, кем был Лжедмитрий I, продолжаются и в наши дни. Недавно М. Н. Тихомиров предложил видеть в нем выходца южного мелкого служилого дворянства. Выступая против отождествления самозванца с Григорием Отрепьевым, М. Н. Тихомиров не дал, однако, какого-либо другого определенного лица, биографию которого можно было бы восстановить, ограничившись общими соображениями о быстроте, с которой самозванец сделал свою карьеру, и о том, что он хорошо знал Северскую Украину (через которую, кстати сказать, проходил во время бегства в Литву и Григорий Отрепьев).
В 1966 году в Бостоне вышла книга американского историка Ф. Барбура, в которой он прослеживает историю восхождения и краха первого самозванца. Ф. Барбур восхищается тем, что претендент прекрасно владел польским языком и знал правила этикета. Он тоже против признания самозванца Григорием Отрепьевым, хотя серьезно обосновать свою точку зрения не смог. Зато Ф. Барбур сделал важную находку, которая свидетельствует как раз против самого американского историка. Это – наиболее ранний акварельный портрет самозванца, обнаруженный в Дармштадте (ФРГ). Этот портрет помогает нам не только представить себе, как выглядел самозванец, но и понять, кем он был в действительности.
На поясном портрете Дмитрий изображен анфас на фоне роскошной драпировки, занимающей левую часть картины. Он в польской одежде. Слегка видна его правая рука. Он несколько идеализирован по сравнению с известными его изображениями на гравюрах. Но две знаменитые бородавки сохранены. У него темные волосы, несколько удлиненное лицо. Поражают умные, проницательные глаза. Нижняя часть лица, согласно традиционным представлениям, свидетельствует о силе и решимости. Справа, на уровне головы, – надпись, которой Барбур, к сожалению, не придал значения: «Demetrius Iwanowice Magnus Dux Moschoviae 1604. Aetatis swem 23», что означает: «Дмитрий Иванович Великий Князь Московии 1604. В возрасте своем 23». Прежде всего бросается в глаза, что в надписи латинские слова перемежаются с польскими. Причем отчество самозванца («Iwanowice») передано по-польски неправильно (надо «Iwnowicz»). С другой стороны, латинское слово «Moschoviae» вставкой буквы «h» – полонизировано. Следовательно, автор надписи не был в ладах ни с польской речью, ни с латынью. Автором надписи не мог быть художник. Ведь портрет и надпись имели политическую цель: пропагандировать личность и дело самозванца. Портрет в Германию привез великий маршал польского двора, человек достаточно образованный, чтобы правильно писать по-польски и латыни. И ученые иезуиты, блестящие стилисты, составлявшие для самозванца письмо к папе Клименту VIII, переписанное лично Лжедмитрием по-польски со многими ошибками, тоже не могли допустить таких промахов. Пташицкий и Бодуэн де Куртенэ уже в письме к папе обратили внимание на постоянные недоразумения самозванца с буквой «z» при написании польских слов. Характерно, что в надписи на портрете камнем преткновения оказалась та же злосчастная буква, превращенная в «e». Можно предположить, что автором надписи был сам Лжедмитрий, набросавший ее на листке бумаги, откуда она и была пунктуально переписана художником. В довершение всего оказывается, что Лжедмитрий I не знал точно времени рождения царевича. Согласно надписи, Лжедмитрию I в 1604 году исполнилось 23 года, тогда как царевич Дмитрий должен был достичь этого возраста лишь 19 октября 1605 года. Между тем давно установлено, что Григорий Отрепьев был старше царевича на год или два. Возраст, указанный в надписи на портрете, поразительно совпадает с возрастом Григория Отрепьева. Это новый серьезный довод в пользу того, что самозванец и Григорий Отрепьев были одним и тем же лицом.
Недавно мне удалось обнаружить послание самозванца патриарху Иову – единственный пока дошедший до нас плод его литературного творчества. Патриарх Иов был ярым и непреклонным обличителем самозванца. Он всенародно предал Лжедмитрия анафеме, по всей стране распространялись патриаршьи грамоты, называвшие самозванца Григорием Отрепьевым. В час своего торжества Лжедмитрий обратился к патриарху с посланием, где в виде «заслуг» Иова перечислялись как низкие стороны его характера – «златолюбие и сребролюбие», «властолюбие», лишь прикрытые постом и молитвой.
Называя патриарха «царского корени искоренителем» и «первым всея Руси изменником», самозванец потешался над проклятием, которому предал его Иов со всем «богоненавистным своим собором». В конце послания самозванец прямо угрожал расправиться с патриархом и всеми, кто его поддерживает. Лжедмитрий исполнил свою угрозу. Иова лишили патриаршества и отправили в Старицкий монастырь, где когда-то он начал свою духовную карьеру. Выспренний стиль послания, полного церковных славянизмов, изощренность в изобличении слабых сторон Иова указывают на церковную образованность автора и, более того, как будто даже на его личное знакомство с патриархом. А ведь черный дьякон Григорий Отрепьев, по летописным данным, был в прошлом приближен к Иову. Возможны и новые архивные находки о Лжедмитрии I. И когда-нибудь, может быть, историки решительно и безоговорочно назовут его подлинное имя.
Личность Лжедмитрия II еще более таинственна. В царских грамотах фигурирует как «стародубский», «тушинский» или «калужский» вор. Современники строили самые невероятные догадки. Его считали школьным учителем; поповым сыном (хорошо знал церковную службу); неким Богданком, письмоводителем Лжедмитрия I; сыном князя М. Курбского; выходцем из семьи стародубских детей боярских Веревкиных. Летописец, видимо, отчаявшись примирить столь различные версии, пишет о нем, как о «человеке незнаемом». Не пришли к какому-либо определенному мнению и историки.
Зато никаких споров не вызывает вопрос, кем был Лжедмитрий III. В нем летописец, а за ним и все, писавшие о «смуте», видят дьякона Матюшку, пришедшего в Ивангород, где его нарекли царем Дмитрием Ивановичем, «с Москвы из-за Яузы».
Многие мучающие историков загадки были бы, возможно, решены, если бы не одна потеря.