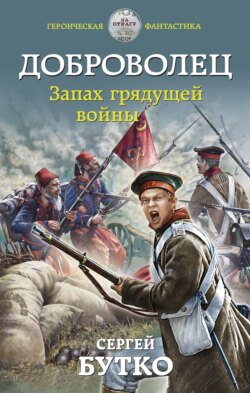Читать книгу Доброволец. Запах грядущей войны - Сергей Бутко - Страница 7
Часть I
Глава 6
ОглавлениеВсего за какой-то вечер Лермонтов успел досконально узнать всех, кто собирался в кают-компании, а значит, узнал их и я. Начну с «главного босса». Прошу любить и жаловать – начальник экспедиции адмирал (и граф по совместительству) Ефимий Васильевич Путятин. Солидный такой, со вздернутыми усами сухощавый дядька под сорок. Не только боевой моряк-черноморец и один из «учеников» Лазарева, но и, как оказалось, ученик уже другого учителя – политического долгожителя Нессельроде[30]. С дипломатией тоже на «ты». Не так давно на юге Каспия не только ликвидировал туркменских разбойников, наводивших панику на русских рыбопромышленников и персидских купцов, но и добился разграничения водных пространств для рыбной ловли, принудил персидское правительство отказаться от ограничений против русской торговли. С туркменами персов тоже примирил, а еще основал в Атсрабаде русскую военную станцию, организовал постоянное пароходное сообщение между Астраханью, Кавказом и Персией. Ныне назначен руководить этой полудипломатической, полувоенной, полуразведывательной экспедицией, направляющейся из северного Петербурга в восточные порты Китая и Японии.
С экипажем, а в особенности с офицерами, у Путятина отношения сложились, мягко говоря, непростые. Характер у адмирала сложный. С одной стороны, дипломатическая осторожность и рассудительность, с другой – безумная вспыльчивость, чудаковатость, подозрительность и въедливость. Опасное сочетание. Знавал я в пору своей трудовой юности одного прораба строительной фирмы с такими же тараканами в голове. У того, едва он приходил на работу, первая мысль не «что нам сегодня нужно сделать?», а «до кого бы мне сегодня докопаться?». Но если бы это делу помогало! Лично я терпеть не могу, когда стоят над душой во время работы. Помогать не помогают, но вот отвлекают здорово, рискуя однажды получить солидный и заслуженный мешок звиздюлей от разозленного трудового люда.
В общем, едва Путятин на фрегате появился, как настала для экипажа жизнь в режиме «покоя я вам не дам». Доставалось всем и всюду, но особенно капитану «Паллады» Ивану Семеновичу Ухтомскому. Несмотря на то что капитану всего тридцать, голова его уже начала лысеть, а глаза сделались красными от постоянного недосыпа. Хотя чего ему-то с Путятиным ссориться, мне решительно непонятно. Как и адмирал, капитан тоже «черноморец», тоже «лазаревец», тоже достаточно быстро приобрел опыт бывалого морехода. И к тому же четыре года назад прославился. По поручению самого Лазарева на яхте «Ореадна» из черноморского Николаева добрался до Кронштадта, там принял участие в регате на императорский приз, вырвав его у яхт новейшей конструкции, а затем уже в чине капитан-лейтенанта прежним путем вернулся обратно в Николаев. И это зимой по Балтийскому морю и Атлантическому океану с половиной команды, когда вторая половина в Кронштадте заболела холерой.
Но теперь два «черноморца» с присущей только им нервозностью, порывистостью, вспыльчивостью очутились на одном судне. И напряжение между капитаном и начальником экспедиции растет с каждым днем в геометрической прогрессии.
Если кто напряжение и может разряжать, так это правая рука Путятина по дипломатической части, флаг-капитан и фактический руководитель плавания Константин Николаевич Посадский. Отличный военный инженер, гидрограф, географ, артиллерист, натуралист. Одним словом: ученый до мозга костей и ходячая энциклопедия. Кажется, способен ответить на любой вопрос. Вот кого в «Что? Где? Когда?» посылать надо. И знатоков, и зрителей обыграет только так.
И вечно чем-то занят. Удивительно, как у него время остается для примирительных мер в стремительно набирающей обороты Путятино-Ухтомской «войне».
С Гончаровым и Лермонтовым Посадский сдружился, как и молодой (двадцать три года всего) лейтенант Иван Петрович Белавин, постоянно говоривший об астрономических вычислениях. Ими он с завидной регулярностью мучает гардемаринов на занятиях.
Идем дальше…
Лейтенант Воин Андреевич Венецианов. Про него говорят – идеал морского офицера. О нем Колоколов Лермонтову с Гончаровым рассказал следующее: «Для Воина Андреевича нет ничего невозможного. Неутомимость в труде, львиное бесстрашие, способность выучить и настроить известным образом команду, точность в исполнении приказаний, наконец, знание иностранных языков до степени умения изящнейшим образом излагать на них свои мысли письменно – таковы его блестящие качества. Мы все равняемся на него…»
Давний «черноморский» товарищ Ухтомского и в то же время его соперник Иван Иванович Булатов. Почему соперник? Потому что, проходя вместе с Ухтомским службу на Черноморском флоте, значительно отстал от «товарища» в чинопроизводстве и вот теперь всего лишь старший офицер на «Палладе», тогда как Ухтомский – капитан. Тоже под тридцатник. С аккуратным пробором и пышными, как у льва, бакенбардами. Спокоен, воспитан и… как будто ждет чего-то особенного. Может, своего часа, когда, подобно льву, сжавшемуся для прыжка, стремительно, одним махом достигнет цели? Может и так, а пока замечательно справляется с функцией «главного примирителя», улаживая мелкие недоразумения и ссоры, неизбежно возникавшие среди нервно настроенного офицерского состава судна.
Про хозяина кают-компании тихоню Тихменевского скажу одно: действительно не место ему на военно-морской службе. Он ее не любит и лишь по необходимости тянет служебную лямку. Зато мечтает о суше, время от времени разминая в руке потертый империал[31] и постоянно говоря о желании засесть на хозяйстве у себя в Костромской губернии. Фермерствовать пока не получается. Стесненное материальное положение семьи не позволяло ему осуществить задуманное. Тогда откуда империал? Оказалось, лейтенант (и барон) Николай Павлович Кридинбург подарил. Это главный приятель Тихменевского по плаванию. Одного поля ягоды. Барон тоже не особо хочет дальше строить карьеру морского офицера, а все время витает в облаках. Ничего не помнит (ни местности, ни лиц), живет только здесь и сейчас.
Примерно на такой же манер, с той лишь разницей, что «служить в моряках рад», позиционируют себя лейтенанты Шиммельфор, Турков, Пашич, Швецов.
Кстати, о судовой молодежи. Вместе с Галкиным и Колоколовым служит еще и мичман Павел Синий. С запоминающейся фамилией разбираться не буду, а вот про характер стоит сказать. Веселый, добродушный, покладистый, но до жути болтлив. Особенно любит испытывать болтовней еще одного мичмана по фамилии Ланье, что, впрочем, не мешает ему отменно справляться со своими обязанностями.
Штурманом (а точнее, старшим штурманским офицером) на «Палладе» у нас штабс-капитан Андрей Андреевич Халидов. На Балтийском флоте личность известная, среди местных матросов именуется как «дед». Моряк со стажем. За его плечами уже три кругосветки. Эта – четвертая.
Судовой священник. Вот личность примечательная. Внешне иеромонах Макарий выглядит диковато: могучий мужик сорока пяти лет, лицо заросло волосами настолько, что видна лишь полоска лба, два острых, хитрых глаза да нос в красноватых прожилках. Чистый леший из муромских лесов. А уж силищи – океан. Едва очутившись на палубе «Паллады», тут же затеял силовое состязание с нижними чинами; на спор перетянул канат у десятерых матросов, чем вызвал общий восторг и уважение. Лишь с Путятиным у него контры и поныне идут. Как оказалось, адмирал, не пропуская ни одной службы, знал до малейших деталей церковный устав, строго следил за его полнейшим соблюдением и нередко делал суровые замечания Макарию. Что всенощная, что обедня, Путятин тут как тут и давай поучать. Это не так, здесь не то. И ведь не боится последствий. Макарий, конечно, батюшка мирный, но если так пойдет и дальше, то одним ворчанием о «привередливом начальнике» дело не ограничится. Может и вдарить святой отец в гневе по адмиральской черепушке. А пока от этого необдуманного и чреватого серьезными последствиями поступка нашего священника оберегает драгоман[32] и советник Путятина коллежский асессор Осип Антонович Гулькевич. Макарий к его мнению прислушивается, ведь оба долго жили и служили в Японии и Китае, поэтому общий язык нашли быстро.
Теперь вкратце о судовом медперсонале. Старший врач (штабс-лекарь) Александр Петрович Арсентьев и младший врач Генрих Васильевич Бауэр. Первый скромен и молчалив, второй – хвастлив по части своей докторской судьбины. Например: «Если кому и везет из нас, так это судовым врачам. Даже если случится в море сражение, то и тут нам много легче будет, нежели нашему сухопутному собрату. А все почему? Все потому, что самые благородные раны – на воде. На кораблях даже пыли нет, а от земли, попавшей в рану, бывает заражение. К тому же свежий морской соленый воздух…»
Есть в команде еще несколько человек, но с ними Лермонтов не особенно общается. Это морской артиллерии капитан Волков, унтер-цейхватер (а проще – заведующий корабельным инструментом) Караваев, подпоручики Томилин, Евсеев, Зарубинский, поручик Иванов. Гардемарины Мищенко, Щукин, Татарский, Бурмистров. Опять же про юнгу Лазарева не забываем. Плюс: унтер-офицеров – 32, рядовых – 365, нестроевых – 30, музыкантов – 26. Всего же нас тут вместе со мной будет 486 душ экипажу. И чувствую, что ждет нас впереди еще много чего интересного. Я, во всяком случае, с первого же дня занятия себе нахожу, постоянно пытаясь вырваться из «плена».
Не получается пока вырваться. Вместо этого со своим «попутчиком» вынужден был принять участие в определении повседневных порядков в кают-компании. А они тут своеобразные.
* * *
Относительно алкоголя в вечер знакомств вышла интересная вещь. На столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмашке, а другие даже не притронулись. От Путятина поступило предложение вовсе не подавать вина за ужином. Предложение было принято единогласно. Излишек в экономии от вина решили приложить к сумме, определенной на библиотеку.
Жаль только, что наш «дед» Халидов библиотечными делами не интересовался, с грустью рассуждая о своем безрадостном будущем:
«– …Вот уж в четвертый раз я ухожу-с в дальнее, а что после? Я, господа, не загадываю. Что будет, то будет… Назначат-с снова в дальнее плавание – значит, пойду, а не назначат – не пойду, останусь в Кронштадте. Слава Богу, поплавал на своем веку довольно и всего на свете повидал!..
Да и у штурманов наших не осведомляются об их желаниях. Отдадут приказ: назначается на такое-то судно – хочешь не хочешь, а собирай свои потроха и иди хоть на Северный полюс. Мы ведь сами людишки маленькие, и впереди у нас нет блестящих перспектив… Ничего-с в волнах не видно! Хе-хе-хе! Однако ж и стать на мертвый якорь – выйти в отставку и получать шестьсот рублей полного пенсиона – тоже не хочется. Как-никак, а все-таки привык к воде… всю почти жизнь провел на ней. Так как-то зазорно сделаться сухопутным человеком и, главное, решительно не знать, что с собой делать с утра до вечера… Семьи у меня нет, жениться было некогда между плаваниями, я один как перст… ну и, видно, до смерти придется брать высоты да сторожить маяки!..»
Пессимистичный настрой. Но Лермонтову не до настроев. Следом за Гончаровым (тот покинул кают-компанию удивительно быстро) он ушел спать, вынуждая меня в очередной раз смотреть бесплатную и, как выяснилось позже, жутко однообразную киношку под названием «Обрывки жизни М. Ю. Лермонтова». И смотрю, никуда не денусь.
Что, например, показали вчера? Москву. Огромный зал в Благородном собрании уже готов к балу. Свечи, музыка, кавалеры и дамы одеты в узкие черные маски. Уж не с этой ли всей тусовки Михаил Юрьевич свой «Маскарад» списал? Может и так, а пока одна из масок отводит юного Лермонтова в сторону и начинает разговор. И голос у маски чарующий:
«– Бежите от себя и своего демона? От своих малых печалей к этому холодному веселью?
– Нет, не бегу, – возражает Михаил. – Но вы здесь, и это мирит меня с толпой.
– Я – совсем другое дело! – вспыхивает чаровница. – Мне нечего терять. Это мое место. А вас может погубить этот вздорный мир. Ваша печаль рождает прекрасные стихи. Не знаю, родит ли что-нибудь веселое. Вы должны мыслить, желать и жить только сердцем…»
Сердцем, говорите. Можно и сердцем…
Вот только проснусь и с сердечным порывом снова начну борьбу за освобождение.
30
Граф Кард Вильгельмович (Васильевич) Нессельроде (1780–1862) в истории дипломатии известен и тем, что занимал пост министра иностранных дел (канцлера) Российской империи дольше, чем кто-либо другой, – с 1816 по 1856 год (40 лет). Этот министерский рекорд не побит до сих пор.
31
Империал – русская золотая монета, чеканилась с 1755 до 1897 года. Оценивалась в 10 рублей, содержала 11,67 грамма золота.
32
Официальная должность переводчика и посредника между ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами. Должность предполагала как переводческие, так и дипломатические функции.