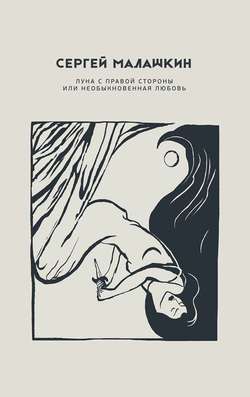Читать книгу Луна с правой стороны или необыкновенная любовь (сборник) - Сергей Малашкин - Страница 3
Предисловие
«На ущербе хмуром Октября»
Оглавление1920-е годы стали эпохой беспримерного литературного бума, сравнимого разве что с неоднозначной свободой «лихих» 1990-х. «Русская литература сера как чижик, ей нужны малиновые галифе и ботинки из кожи цвета небесной лазури»[3] – писал в эссе о творчестве Бабеля самый модный критик новейшей советской литературы Виктор Шкловский. Это определение применимо не только к творчеству Бабеля, но и ко всей эпохе, последовавшей за Октябрем: казалось, что тихая, интимная интонация старой литературы навсегда себя исчерпала, и на сцену вышла новая жизнь, наследовавшая самым ярким, радикальным и эпатажным достижениям авангарда 1910-х годов. Более того – старый литературный код, казавшийся советской молодежи пережитком империалистического прошлого, последовательно разрушался и подвергался критике в манифестах многочисленных литературных группировок и объединений.
На эту свободу самовыражения накладывались мировоззренческие и социально-политические изменения – советская власть и переформатированное общество быстро стали одними из главных заказчиков писательского труда. Искусство мыслилось в первую очередь как общественно важное событие. В русский художественный авангард, и без того интересовавшийся социальным прожектерством, правда, как правило, утопического свойства, вмешался авангард добровольной политизации.
При этом писатели выискивали все возможные способы расцветить серую как чижик русскую литературу новыми повествовательными приемами, темами и героями. В прозе 1920-х годов процветали элементы сказа, заумного языка и словесной живописи, а голос обрели самые разномастные персонажи – от «старательной женщины» проститутки Анели, за два фунта сахару отдавшейся трем махновцам (Бабель), до товарища Пашинцева в кольчуге на голое тело, изгнанного из ревзаповедника (Платонов). Персонажи Малашкина приходятся платоновским наивным строителям коммунизма менее известными родственниками.
Сергею Малашкину нравилось скрываться за литературной маской рассказчика с какой-нибудь по-гоголевски смешной фамилией. Ананий Жмуркин и Евлампий Завалишин, прикрываясь деревенской наивностью, сближающей их с широкими массами читателей, без прикрас и излишнего политического политеса описывают события Гражданской войны и Революции. Немного наивный Евлампий, по его собственному признанию, «грешащий немного» писательством, страдающий от косноязычия, передает «слово» народному комиссару, публикуя его записки. Тот же прием Малашкин использовал и в повести «Луна с правой стороны», и в «Записках Анания Жмуркина». Такое стремление непременно разделить высказывание на несколько разных голосов отражает общие умонастроения 1920-х годов – эпохи, когда у литературы стояла задача дать право высказывания всем членам нового общества. Если в прозе модернистского типа читателю предлагалось понаблюдать, как писатель по мере творческой работы открывает в себе художественный талант (такова, например, сюжетная матрица «Портрета художника в юности» Джойса, многократно повторенная другими авторами), то в прозе советской был иной сюжет: писатель становился писателем благодаря воле и таланту тех, кому он дает голос. Эта стратегия отказа от писательского авторитаризма и передачи слова тем, кто может поделиться личными переживаниями, рассказать историю как очевидец, разумеется, не изобретение Малашкина, а общий прием, который использовали в ту же эпоху И. Бабель (например, в пронзительном в своей наивности и жестокости «Письме», написанном от имени мальчика-красноармейца Василия Курдюкова), Е. Замятин (предлагавший полное погружение в тоталитарный рай Единого Государства личные записки главного героя), М. Зощенко (позволявший своим персонажам открываться читателю напрямую, минуя строгий фильтр литературности).
Советскую критику, которая взяла на себя роль средообразующего инструмента, интересовал не только вопрос «как» говорят (например, «Как сделана «Шинель» Гоголя), но и вопрос «кто» говорит. Особенно важны его классовая принадлежность, судьба и ценность для нового государства – исходя из этого определялась целесообразность использования художественных приемов.
Такова была литературная ситуация, в которую вступал со своими первыми рассказами и повестями Сергей Малашкин. Он начал писать чуть раньше, еще до революции, когда на литературной сцене царили символисты. В университете он познакомился с Есениным, и они вместе ходили в салон к Д. Мережковскому «Мы поехали с Есениным искать славы, – рассказывал Малашкин. – Учились вместе в университете Шанявского, он писал о деревне, я – о городе. Поехали в Питер к Блоку, остановились у Клюева. Я спал на диване, а они вместе с Клюевым на кровати. Потом к Мережковскому отправились. Мы с Клюевым через парадный ход, а Есенин надел на себя коробок – там мыло, гребешки, – пошел через черный ход, узнал, что горничная – рязанская, и говорит: „Я тоже рязанский, стихи пишу“»[4]. В образе крестьянского символиста Малашкин выступил и после Революции: символистский мэтр Валерий Брюсов упомянул его первый сборник под названием «Мускулы» (1918) и назвал его «пролетарским Уитменом и Верхарном».
В 1920-е годы естественным способом обновления ветхих классических литературных схем стала ориентация «на Запад» (так, в частности, назывался манифест группы «Серапионовы братья»). Причем в руки советскому читателю попадали не только идеологически выверенные зарубежные писатели, такие как Элтон Синклер, но авторы куда менее «грозные» (например, 0. Генри, Д. Лондон, Г. Уэллс). Стала понемногу издаваться и литература эстетствующего западного модернизма: в 1925 году на русский язык были переведены фрагменты из «Улисса» Джеймса Джойса, в 1927-28 гг. – несколько романов из цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста. Линия французского высокого стиля трогала пролетарского писателя Малашкина. Марсель Пруст был в числе его любимых авторов[5], до Революции он планировал заниматься переводами французской поэзии: «А я хочу Мопассана, Бодлера, Верлена читать на французском языке, а не переводы, – возражает Малашкин. – Я, когда учился в университете Шанявского и работал, стал изучать французский язык, пробовал переводить Верлена»[6]. В любви к французским и русским классикам Малашкин честно признавался и в анкете журнала «На литературном посту»: «Очень хорошо знаком с русской классической литературой, а из иностранной – с французской. ‹…› Мастерству языка очень много учусь у Бунина»[7].
Одной из немногих литературных группировок 1920-х годов, к которой мог бы присоединиться писатель с такими вкусами, было всесоюзное объединение рабоче-крестьянских писателей «Перевал». У «Перевала», которым руководил Александр Воронский, был наиболее свободный взгляд на то, как должно выглядеть пролетарское искусство. В № 2 журнала «Красная новь» за 1927 год была помещена декларация объединения, в которой утверждалось, что «великое содержание требует выражения в наиболее совершенных и многообразных формах»[8] – манифест советского свободного искусства. В списке членов московского отдела «Перевала» вторым стоял С. Малашкин.
Малашкин появлялся в «Красной нови» – близком к «Перевалу» наиболее элитарном советском издании конца 1920-х годов, которые публиковало всех т. н. «писателей-попутчиков», сейчас вошедших в учебники истории литературы – М. Горького, Б. Пастернака, Ю. Олешу, А. Белого, А. Толстого, Б. Пильняка и т. д. В № 10 «Красной нови» за 1927 год был помещен рассказ Малашкина «В бурю», опубликованный в настоящем издании. Этот рассказ наиболее соответствует эстетике журнала: тонко чувствующая главная героиня, жестокий, но изящный революционный сюжет (прекрасная девушка мстит за возлюбленного-коммуниста) и пространные описания приморской природы с розами, многоцветным морем и дымящимися облаками.
В № 3 «Красной нови» за 1928 год были опубликованы фрагменты из романа «Народный комиссар».
Однако скандальную известность Малашкину принесла повесть 1926 года «Луна с правой стороны».
3
Шкловский В. Бабель: Критический романс // ЛЕФ. 1924. 2-6. С. 152–164.
4
Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М: Олма-Пресс, 2002. С. 615.
5
«Любимые книги – неизменный Пушкин, Достоевский, Брюсов, Марсель Пруст» – писал в предисловии к изданию 1988 года О. Михайлов, бывавший у Малашкина в гостях. («В поворотных событиях века» // Малашкин С. Избранные произведения в 2-х т. М: Художественная литература, 1988. Т. 1 С. 3)
6
Чуев Ф. Молотов. Полудержавный властелин. М: Олма-Пресс, 2002. С. 614.
7
На литературном посту. 1927. № 5-6 С.63.
8
Красная новь. 1927, № 2. С. 236.