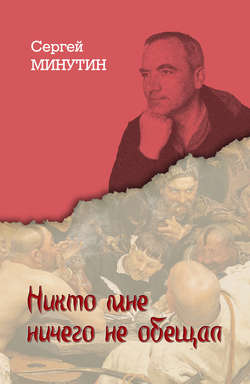Читать книгу Никто мне ничего не обещал. Дневниковые записи последнего офицера Советского Союза - Сергей Минутин - Страница 3
Часть первая. Последние годы Советского Союза
Глава 1. Дети
ОглавлениеНет ничего нового в происходящем. Оно произошло, следовательно, уже было. Не все это видят, так как не наблюдательны.
Его рождение ждали. Его будущая мама вслушивалась в биение двух сердец: своего и будущего малыша. Она улавливала любые его желания. Ему, а значит, и ей бесконечно хотелось солёных огурцов и чего-нибудь горького. Мама была очень осторожна по отношению к нему, ведь он многое забыл о том мире, в который возвращался. Она разговаривала с ним о солёном и горьком, перечисляя все возможные варианты продуктов, и прислушивалась к тому, что он ей отвечает:
– Горчица, – он не подавал никаких признаков заинтересованности.
– Хрен, – он продолжал дремать.
– Спирт, – он так встрепенулся, что её чуть не вырвало.
– Сигареты, – ей послышалось: «Ну что ты всё о гадостях, да о гадостях».
Её сильно тошнило и даже рвало, если её малышу что-то не нравилось. Это было так часто, что она отчаялась угадать, что же ему надо.
Но тут пришёл отец. Отец ждал рождения малыша ещё больше, чем его мама. Он был уверен в том, что будет сын, и это чувство переполняло его всего.
Он старался угадать и уловить любое желание своей избранницы и своего сына и только удивлялся их скромности. Удивлялся тому, что они хотят картошку, капусту, кашу и солёные огурцы. Вот если бы он носил их сына, то они бы ели «вкусненькое».
Отец пришёл радостный и счастливый. Он чмокнул маму в обе щёки, приложил ухо к её такому необычно большому животу и поставил на стол бутылку пива и выложил большую почти прозрачную солёную рыбу.
Малыш заметно оживился и даже начал двигаться. Мама задумалась: «Что же он увидел её глазами и что он хочет?» Она поочередно смотрела то на пиво, то на рыбу и слушала. Рыба малыша не вдохновляла. При взгляде на пиво её вселенная оживала, малыш начинал подавать сигналы и признаки того, что и у него теперь есть своя вселенная, которой необходима «горечь познания».
Она налила себе большой стакан пива и выпила его, подумав о себе и о нём: «Может, он, мой малыш, прав. Мир, в котором он скоро окажется, и солён, и горек. Хотя, – она посмотрела на его отца, – не только».
Они оба уже очень любили своего будущего малыша. Они уже придумали ему имя Сергей, в честь своего общего друга, мотогонщика, который разбился на одной из своих «сумасшедших» гонок. Судьба долго хранила его, ломая ему руки и ноги, но он, как завороженный, стремился догнать её на огромной скорости.
Давая своему малышу это имя, они думали, что так будет лучше. Возможно, что кроме родителей здесь он получит и доброго ангела-хранителя там. Ангела, который будет удерживать их сына на виражах жизни. Они верили в бессмертие и в жизнь на небесах. Они верили, а маленький Сергей знал и поэтому не спешил покидать мамин животик.
Но все установленные природой сроки прошли, и он родился. Он вышел из мамы в большом пузыре. Набожная медсестра запричитала: «Надо же, в рубашке родился» и быстро-быстро очистила ему розовый носик и ротик. Но он уже успел чуть – чуть задохнуться, глаза его перепугано вращались, личико было синеватого цвета, а вся его маленькая голова, покрытая редкими чёрными волосиками, выглядела весьма сморщенно. Малыш глотнул воздуха. Маленькое тельце ожило, и родильное помещение наполнилось громким детским криком.
О чём кричал малыш – знал только он сам. Но едва ли он орал от радости, очутившись в помещении с кафельными стенами, яркими лампами и большим столом. Помещение могло быть и родильной палатой, и операционной, и моргом одновременно. Это к старости человек начинает верить в загробный мир, а младенцы из него приходят. Это старик думает о большом тоннеле, по которому он пойдёт на страшный суд, под Божьи очи, а малыш приходит оттуда. Как тут не заорать, очутившись в плотном и весьма агрессивном материальном мире. Среди ярких ламп и кафельных стен. Будущих детей частенько ещё в момент зачатия охватывает ужас. Тоннель-то ведёт в оба конца, но божественный свет – только с одной стороны. Вот малыши и орут, и хотят обратно.
Сергея приняла на руки набожная акушерка. Она много-много раз его перекрестила и показала сына совсем ослабевшей маме. Мама, до этого момента никогда не видевшая новорождённых детей, машинально спросила: «Это кто?». Акушерка радостно доложила, что это её сын.
Часы показывали семь часов утра.
Сергей орал не переставая. Он «продувал» свои маленькие лёгкие, пробовал на крепость командный голос и утверждал своё: «Я есть». Он требовал к себе внимания и докладывал, что он вполне жив и здоров. Глаза перестали вращаться, личико порозовело, и мама успокоилась.
Набожная сестричка сказала маме, чтобы та не сильно реагировала на крик малыша. Она говорила, что малыш своим криком многое говорит взрослым о своей прежней жизни, но они не понимают его. В этом возрасте малыши взрослее своих родителей, они ищут только то, что им по-настоящему нужно. Они даже не ищут, они по-настоящему знают, что им нужна мама и её грудь. А ещё они верят в то, что это им дал Бог.
Набожная сестра знала всё о малышах, о мамах и даже о папах. Малыши, выходившие из-под её рук, были крепкими и какими-то светлыми и смышлёными. Она окружала всех в этом далёком роддоме, стоящем на берегу реки Плющухи в далёком сибирском краю, своей всеобъемлющей любовью. Эта любовь передавалась всем родным и близким рожениц и их детям.
Сергей сразу стал центром всеобщего внимания и заботы. Для отца – первый сын, которого надо учить. Для мамы – пока единственный ребёнок и самое любимое существо, которое надо баловать. Для дедушки и бабушки – первый внук. Сергей ползал, где хотел и делал что хотел. За все его проказы перед бабушкой и дедушкой отчитывались родители, но бывало и наоборот. Только Серёжка ни в чём не был повинен.
Когда он в клочья изорвал все папины документы, то ругали и папу, ибо документы надо прятать лучше. А когда они, мама и папа, пошли погулять, оставив своего сына спящим за закрытыми на ключ дверьми, а он тут же проснулся и начал орать, им обоим досталось от деда: «Ребёнка одного оставили… Не нагулялись…»
Однажды он всех сильно перепугал тем, что, ползая по полу, вдруг пропал. Его искали минут тридцать, пока не обнаружили спящим под своей же кроваткой.
Отец всё время носил его на руках. Поэтому из всех слов, которые он быстро выучил и которые постоянно произносил, были: «мама», «папа», «баба», «деда» и «на ручки». Остальные слова, которые ему говорили, он не запоминал.
Дедушка говорил, что его внук гений, и за каждую проделку награждал его куском сала. Сало с чесноком внук любил до самозабвения. Дедушка просто таял от такой любви внука к салу, так как видел во внуке главного ценителя своего труда.
С Сергеем все разговаривали, но больше всех, конечно, отец. Он его не учил частностям. Он показывал ему мир целиком, и Сергей жадно впитывал всё то, что видел сам, и что ему показывал отец.
В школу он пошёл в семь лет. Он не умел ни читать, ни писать. Но он уже умел главное: видеть и понимать.
«Подумаешь, «Букварь»», – по-взрослому размышлял он. Буквы – это частности в сравнении с тем, что он проделал в пять лет, отправившись на поиски мамы, которая, как он слышал, работает в книжном магазине. И он её нашёл. Он шёл по городу и просил всех прохожих подряд читать ему надписи на зданиях.
– Подумаешь, цифры. Это вообще ерунда.
Он вспомнил, как в четыре года, важно сопя, залазил в поезд, подсаживаемый отцом, и устремлялся на поиски своего купе. Он моментально находил своё купе, папину полку и своё место на ней. У него были свои, совершенно определённые представления о назначении римских и арабских цифр.
Одним словом, с буквами и цифрами он разобрался быстро. Лучше всех стал читать и считать и… заскучал, ибо закончилась его вольная жизнь, а школьная «неволя» ничего нового уже не давала. К однообразию он готов не был.
Мама и папа быстро заметили скуку, которая овладела их ребёнком, и, не мешая ему скучать, подарили ему, торжественно подарили, несколько взрослых книг Жуль Верна, Джека Лондона, Киплинга и Стивенсона. При этом они сказали ему, что эти книги расширят горизонты его сознания.
Книги по форме напоминали учебники и никакого энтузиазма в Серёжке не вызывали.
Тогда на семейном совете было установлено время и место чтения книг. Был определён целый час перед сном. Книги стали читать вслух. Сначала читал папа, затем мама. Сергей был слушателем.
Хватило недели, чтобы Сергей понял, что скука – явление проходящее, и что горизонты познания школой не ограничиваются. Даже наоборот, школа к знаниям никакого отношения не имеет. Знания – это нечто иное. Например, войти в образ литературного героя и прожить сюжет его жизни. Это и значит получить знание. И он зашагал по жизни путями, уже пройденными литературными героями. Пути литературных героев были абсолютно не совместимы с путями, которыми вела его школа. Школа его воспитывала, а он искал новые образы и свой путь.
Он откровенно «дрых» на уроках, ковырял в носу и читал книги. Его никто не контролировал и никто не проверял его дневник. Ему, ещё малышу, объяснили, что это его жизнь, а задача мамы и папы как его родителей, дать ему всё необходимое для познания той среды обитания, в которой он будет жить. В этом их ответственность перед ним. А дальше он всё должен делать сам. И он успешно познавал свою среду обитания, пока не попал в школу. В школе же он сразу пришёл к неутешительному выводу о том, что в ней познают не среду его обитания, а её частные формы. Но как можно учиться на постоянно изменяющихся формах, не объясняя при этом, почему именно они меняются. Он как мог сопротивлялся впихиванию себя в эти школьные формы и чужие рамки.
Учительница литературы бубнила произведения классиков прошлых веков. И из её слов выходило, что древние классики о его сегодняшней среде обитания знали больше, чем он ныне живущий, и что это замечательно, так как дальше над своей жизнью можно не думать, а следовать примеру классиков, стремясь быть похожим на их положительных героев.
На уроках химии, физики, математики ссылались на ещё более древних предков, чем на уроках литературы.
От истории человеческих отношений и общественных наук он вообще впадал в тоску. На этих уроках всё время звучала мысль о том, что как плохо было в древние и не совсем древние времена, и как хорошо сейчас. Но эти выводы полностью противоречили всем остальным урокам.
«Ничего себе, плохо, – думал он, – если в то время литературных и иных классиков народилось столько, что их до сих пор ни забыть, ни перечитать не могут».
В знаниях, которые давали ему школьные учителя, не было чего-то самого главного. Он чувствовал, что чего-то не хватает, но чего – не знал, и поэтому душа его металась. Плохая учёба, сон на уроках и пропуски занятий были лишь защитной реакцией на то, что давным-давно было определено как «не брать лишнего в голову, а тяжёлого в руки».
Единственный школьный урок, который не давал Сергею впадать в тоску, назывался «начальной военной подготовкой». Тосковать там было некогда. Урок вёл мудрый ветеран военно-морского флота, капитан третьего ранга в отставке. Его морская форма бодрила сама по себе. А многие армейские атрибуты, которые он показывал на своих уроках, больше нигде нельзя было увидеть. Автомат и противогаз, ОЗК и дозиметры, мелкокалиберные винтовки и приборы химической разведки полностью захватывали внимание Сергея. А рассказы об агрессивном блоке НАТО и успешном сопротивлении ему стран Варшавского договора грели его детскую душу. Сергей отметил для себя ещё одну особенность офицера-педагога. Он всё время был один. Он не заходил в учительскую. У него был свой мир, в который доступ имели не многие. Как редки были уроки начальной военной подготовки, так же редки были и друзья капитана третьего ранга. Сергей тоже чаще был один. Отец часто говорил куда-то в пространство: «Кто одинок – тот не будет покинут». Поэтому Сергей не видел в одиночестве ничего плохого. Ещё отец, будучи в хорошем настроении, часто напевал песенку: «Ковыряй, ковыряй, ковыряй. Суй туда палец весь. Только ты этим пальцем в душу ко мне не лезь». Так выходило, что только одиночество даёт душевный покой. Поэтому школьная скука и тоска над Сергеем не довлели. Ему всегда было чем заняться. И друзья у него были абсолютно самодостаточны. Им тоже никогда не было скучно, они не стремились собраться в толпу и пойти куда-нибудь «побалдеть». Всех вместе их собирали только праздники, например, дни рождения или какая-нибудь необходимость. Такую же жизнь Сергей наблюдал и у единственного в школе офицера запаса. Поэтому он начал считать, что армия – это именно то, что ему надо. Одиночество в окружении себе подобных.
После школы он углублялся в поиск знаний и смысла жизни. Он уже знал, что русские классики в тесных рамках школьной программы, как и учителя, трактующие их труды, помочь ему ничем не могут. Они «бубнят» каждый день одно и то же: «Годы трудные ушли, годы трудные пришли», при этом совершенно не видя своего места в этих трудных годах. Они давным-давно смирились с тем, что являются той самой «пищей», которая эти трудные годы кормит. Классики – поэты и прозаики, хоть и выделялись из ряда учителей своими могучими умами, но ребятишки были ещё те… С приходом «трудного» возраста Сергей перестал верить и учителям, и классикам.
У Сергея осталась одна мама, отец умер. Никакой ущербности Сергей не ощутил, таких, как он, полусирот, было более половины класса. Отцы уходили из жизни детей по-разному: одни умирали от болезней, как отец Сергея, другие сами расставались с жизнью, оставляя по несколько детей своим жёнам. Кто поймёт эту загадочную мужскую душу? И почему в стране развитого социализма и всеобъемлющей социальной защиты здоровенный мужик лезет в петлю или из ружья вышибает себе мозги вместе с верхней частью черепной кости?
Отец говорил маленькому Серёжке, что смысл жизни в постоянном поиске новых знаний. Сергей решил, что тем, кто сам убивает себя, просто уже нечего искать. Решив так, он обнаружил роковые «козни» классиков. Классики, исчерпав все сюжеты, пустили всех по замкнутому кругу повторяющихся событий. Бег человечества по кругу, заданному классиками, оказался очень прибыльным для вождей. Так и пошло: народы бегают по кругу, а вожди и разная «приблуда» стоят на страже границ этого круга.
Сергей не раз убеждался, что классики, особенно русские классики, описывая свою собственную среду обитания, вгоняли народ в жуткую тоску, а главное – в массовое противоречие по поводу и его, народа, жизни. Описывая российскую действительность, они, эти классики, всех донимали одними и теми же вопросами: «Кому там жить хорошо? Так хорошо, что даже не знаете, кто виноват и что делать? Ну, тогда попутешествуйте из Петербурга в Москву, а лучше сразу до Сахалина и обратно». И действительно, те, кому было жить хорошо, сразу задумывались: «А от чего, собственно, хорошо?», а те, кому и без вопросов было плохо, узнавали о том, что кому-то хорошо, и это было особенно невыносимо сознавать. Чтобы усыпить сознание народа, вожди постоянно отыскивали новых «классиков», которые гипнотизировали народы старыми сюжетами от путешествий «Москва – Петушки» до «Солдата Ивана Чонкина».
Эти знания, которые вкладывали в Сергея на школьных уроках, он бы даже считал занятными и весёлыми, если бы школьные учителя постоянно не акцентировали его внимание на том, что классики – они потому и классики, что описывают вечные сюжеты. А раз сюжеты вечны, следовательно, мы и сегодня живём по этим сюжетам, и никуда нам от них не деться. А если кому-то охота жить по другим сюжетам, оторваться от земли и взлететь, то тому нужно ещё раз прочитать классиков. И тут же учитель истории для закрепления опыта классиков и убийства мечты, которая могла, по недосмотру, зародиться в ребёнке, ему рассказывал о некоторых «лётчиках»: о Прометее, решившем огонёк развести, о Спартаке, проявившем излишний оптимизм, о Сизифе. Впрочем, о Сизифе не рассказывал, рассказывал лишь о его труде, ибо рассказ о Сизифе сразу приводил к рассказу о жизни и классиков, и политиков, и самих учителей.
Сергей решил всё постичь сам. Он обратился к первоисточникам. Русских классиков он не понимал, хотя красота и образность текстов его завораживали. Он пытался сопротивляться, но переболел и Обломовым, и Чацким, и Безуховым, и Волконским, и даже тургеневской «Бабой с мозгом». Он даже примерял на себя участь Анны Карениной, чувствуя в глубине души, что все персонажи русской литературы – это, в сущности, Анны Каренины, и Лев Толстой по этой причине – самый большой и великий русский классик.
Когда в девятом классе он впервые положил соседке по парте руку на коленку, а она вся покраснела и перестала дышать, его охватила совершенно беспричинная радость познания вперемежку с лёгкой иронией. Он очень умно, как ему казалось, произнёс: «Любовь бывает на два тома, как «Анна Каренина», а бывает на всю жизнь». После этой тирады он получил «по уху», а заодно получил и просветление, что любовь бывает и короче, а поезд с рельсами – это, возможно, и даже очень, единственное проявление большого чувства в России, заметное всем. Ухо «горело», а Сергей продолжал размышлять о российской духовности. Он думал: «Какая же Россия духовная страна и где она скрыта это русская душа, если, что ни классик, то трагедия, иначе душу не рассмотришь, а без трагедии на тебя, в общем-то, всем абсолютно наплевать.
Он уже многое знал. Например, что первая любовь, как её и описывают в книгах, должна быть сильной и несчастной. Если она не сильная и не несчастная, значит, она уже не первая.
А первая любовь у Сергея была сильная. Пришла она поздно, в конце школьного обучения, и захватила его всего. При мысли о своей «первой любви» через него от макушки до пяток «прокатывался» большой сияющий и тёплый «шар». Он бесконечно чистил зубы, ходил не переставая по комнате, сочинял стихи. Он думал только о ней. Другие мысли просто исчезли. Для него это было совершенно новое чувство, не поддающееся осмыслению, не вмещающееся в школьные учебники. Это чувство «первой Любови» для Сергея вообще было первым чувством, которое пришло непонятно откуда и захватило его всего. К его приходу он уже испытал множество переживаний: любовь к родителям, в основе которой лежал недетский ужас от скорого расставания с ними; жалость к матери, потерявшей своего мужа и его отца; потеря других близких ему людей, которые стали быстро умирать сразу после того, как Никита Хрущёв начал взрывать атомные бомбы в районе Семипалатинска, а многочисленным советским учёным было абсолютно наплевать на то, что рядом с этим полигоном находится целый ряд крупных городов, таких как Новосибирск. Весь этот научный каганат, слившись в экстазе, «защищал» советский народ, определив ему лучшим убежищем – кладбище. Нильс Бор не сильно ошибся, когда заявил, что научное сообщество хуже криминального.
Сергей уже знал, что такое чувства. Но все чувства, которые приходили к нему, являли собой продолжение его жизни. Они приходили постепенно, в определённой очередности. Всплакнула мама, расстроился отец, а он почувствовал беду. Пришла болезнь, пришло ожидание смерти. Всё это было не похоже на «первую любовь». Она пришла сразу и захватила его всего. И было совершенно непонятно: откуда пришла и куда поведёт дальше.
Два месяца он жил словно в бреду. Конечно, это было заметно. Над ним не смеялись, но ему сочувствовали. Победил ум. Так Сергей впервые понял, что с чувствами можно совладать. Этому, как и многому другому, с дуру учила школа. В стране был атеизм. Из всех религиозных учений о любви дети знали только одно: «Ромео и Джульетта» Шекспира. Может быть, к счастью, а может быть, и нет, кто знает замыслы божьи, но барышня в Сергея также сильно, как он в неё, влюблена не была. Серёжкина любовь закончилась длинным сочинением, описывающим его чувства. Концовка сочинения была весьма оригинальна. В ней уже начинал просматриваться будущий офицер – философ – циник: «Любимые мои девушки, какие вы все разные. Для одних из вас поэты сочиняют гимн «Аве Мария», другим посвящают вульгарную песню «Мурка». Хотя это два полюса проявления одного и того же чувства не к вам, а к самому себе, к своей ипостаси, хоть и вашей сущности, но это прекрасно характеризует именно вас. А дальше просто: либо ты остаёшься рядом с «муркой», либо ты стремишься к Богу».
У Сергея всё было, как у классиков. Как и они, он сильно вник в формы проявления несчастий от своей первой любви. Дальше по сценарию русских классиков его должны были либо засадить в острог, либо он должен был успеть смыться на Запад и удариться там в путешествия, леча искалеченную душу. К счастью, он ничего не написал для прочтения цензорам, а границы на Запад были закрыты для всего советского пролетариата и его младшего брата крестьянства наглухо. Поэтому Сергею оставалось лишь сразу же углубиться в зарубежную литературу.
Надо заметить, что его мама прекрасно знала, какие чувства и за какими последуют в её ребёнке. В этом мире она жила не первый день и ходила в те же школы. Мама подарила Серёжке зарубежных классиков: Гёте, Гейне, Байрона и других. Эти классики излагали своё понимание жизни, хоть и не так изысканно, как русские, но зато просто и прямо. По их учению выходило так, что без чувств нет действий, но если чувство пришло, поднимай «свою задницу» и совершай действие, иначе следующим чувством будет только уныние. На этом унынии жизнь и остановится, и будешь бегать по кругу до самого смертного часа. Дальше по их учению выходило так, что материальный мир нужен исключительно для познания духа, и, более того, существовать друг без друга они не могут.
Это открытие примирило Сергея с русскими классиками. Он вдруг понял, что все классики говорят об одном и том же, но среда творчества у всех разная. У русских она более материальна и агрессивна и вся убирается в промежуток между цензурой и анафемой.
В таких рамках «русскому духу» только и остаётся либо тосковать, либо баловать. Потом через много лет после падения СССР Сергей почувствовал пробел в своём образовании через свет Русской Православной Церкви. Обнаружив этот пробел, он был чрезвычайно удивлён тому, как учителя умудрялись преподавать православных классиков, сильно верящих в Бога, в стране с режимом атеизма!
Сергею, правда, несколько повезло. Он родился в момент, когда в стране атеистической цензуры уже не было, а анафема ещё не пришла. Страна переживала кризис, который назвали «застоем». Слово было мудрёное. Сергей его воспринимал своеобразно. Застоем он обозначал свою проблемность для учителей. Он всё время удивлялся, почему для мамы он проблему не представляет, а для школьных учителей представляет. Мама о нём заботится и растит его, а учителя его «вгоняют в рамки». В эти рамки «застоя» укладывалось всё: школа, учителя и сами «рамки». Не укладывался только он сам и его заботливая мама. Дома, читая по вечерам книги, запрещённые до «застоя», он понимал, что на граждан его страны снизошло счастье, но, выйдя из дома, он видел, что счастья своего, собственно как об этом и писали русские классики, они опять не заметили.
В городке, в котором он рос, кроме военрука, было ещё несколько офицеров. Все они служили на местном заводе в военной приёмке. Большинство рабочих этого завода считало их бездельниками. Завод делал моторы для автомобилей и другой спецтехники. Задача военных сводилась к постановке специального клейма на тот или иной двигатель или отдельную деталь. Но в стране был «застой», и все им пользовались как могли и насколько позволяла должность. Должность военпреда на заводе позволяла очень много. Для гражданской администрации завода каждая военная партия двигателей стоила очень много. Приходилось рассчитываться с военными краской, досками, линолеумом для их нужд, квартир и дач. Но гражданские контролёры приноровились. Они тайно изготовили свои клейма, аналогичные военным, и ставили их, часто даже не посвящая военную приёмку в отправку той или иной партии двигателей.
В этом не было никакого обмана. Родина во главе с партийными вождями боролась с казнокрадством и за коммунизм во всём мире. Поэтому заводской администрации легче было изготовить клейма, чем раздавать казённое имущество «господам офицерам». Так они и жили в полном неуважении друг к другу. Терпели. На этом заводском фронте лозунг «народ и армия едины» не работал. Офицеров военпредов не любили за жадность и глупость.
Ещё больше, чем их самих, не любили их жён, которых вынужденно, по закону приходилось пристраивать на тот же завод на «блатные» места. Из-за этого шло постоянное увеличение «блатных» мест, занятых сплошь дурами и дураками. Здесь заводское начальство и военное представительство сливались в экстазе, усугубляя «застой».
Все горожане знали эту сторону жизни завода. Городок был невелик, завод в нём был один, поэтому сплетни и слухи были главным развлечением.
Сергей тоже знал, но форма, погоны, звёзды завораживали. Пусть их жёны дуры, но рядом со своими мужьями они прекрасно смотрелись. Они были ухожены. Они не были похожи на полуглухих и вздрагивающих баб из цеха штампованных деталей или на женщин с пустыми глазами из цеха сборки. Этим женщинам уже давно всё опостылело, а особенно завод и его руководство, но деваться им было абсолютно некуда.
Сергей как-то пошутил на уроке истории, что дай местному пролетариату в руки серп и молот, они разнесут весь завод. Учительница оторопела. Она только что говорила то же самое, но о другом, капиталистическом мире, об их зверином лике империализма. И вдруг прямая аналогия с местными условиями. В школу вызвали маму. К счастью, был «застой». В городе Горьком уже жил ссыльный академик Сахаров. Чекисты, хоть и караулили его, но вполне были согласны с его теорией конвергенции (сближением социализма с капитализмом), оставалось разобраться в деталях этого сближения: кто и к кому первым должен броситься в объятья, кому и как рушить, до основания или по уму.
Поэтому за «серп и молот» маму поругали, но выразили молчаливое сочувствие и согласие. Так выходило, что не только Сергей понимал наступление последней черты, как и то, что, чтобы за неё не перейти, надо было разнести аппарат партхозноменклатуры, а заодно и военных в пух и перья. От них исходила только нищета, пустые полки магазинов и липовая мощь. Чекисты были в курсе всех скорбных дел в своей стране.
Школьная жизнь периода «застоя» – едва ли не лучшие годы в жизни детей СССР. Детей учили на обломках идеологии. К середине 70-х годов ХХ века просто не осталось учителей, которые бы хоть что-нибудь знали о марксистско-ленинской теории. Не осталось таких людей и в политбюро ЦК КПСС.
Сергей вёл дневник школьной жизни. Он дал ему двойное название: «Терра инкогнита» и «Дежа вю». В дневнике он писал: «Дети – это терра инкогнита (непознанная земля) для взрослых. Вся проявляемая забота о детях в итоге сводится выросшими детьми к новым войнам и революциям. На этих примерах обучаются уже новые дети. И так шаг за шагом, виток за витком».
Да, именно в детстве закладывается вся наша последующая жизнь. А потом начинается тоска и скука, которая выражается в направлениях «развития» взрослого общества. Это когда один у станка стоит, другой в сбербанке сидит, третий наукой себя изводит и т. п. У каждого направления есть свой вождь, свой начальник, который и ведёт куда-то, порой плохо зная куда. И только общий вождь «в курсе того, куда надо». Главное в этом процессе то, чтобы те, кого ведут «куда надо», не стали бы думать над тем, «а надо ли им это всё». Но, к сожалению, шагать в толпе легче. Господь предупреждал: «Не себе сотвори кумира», ибо автоматически становишься холуём, но кто слышит Господа? Он предупреждал с Неба, но на Земле поняли всё не так – и началось: «А на левой груди профиль Сталина, а на правой – Маринка, анфас». Додумались вожди поставить себя вровень с мужской любовью к женщине. А влюблённый, как бычок, бредёт не думая. Но одно дело «за юбкой». Это не навсегда, а до удовлетворения. И совсем другое – за вождём. Это навсегда.
Во многом правдивый учебник истории замечательно описывает историю вождей и холуёв. Бегали по земле дикие племена, свободно бегали, пока не возглавили их вожди. Затем из среды вождей, путём естественного отбора, методом обыкновенной поножовщины, выделились князья. Но потом и среди князей, свободно бегавших, проявился самый хитрый и стал у них царём. Затем народились буржуи, и уже в их среде появились самые хитрые, которые стали организовывать демократические правительства во главе с собой и «мочить» царей со всей их дворней. Ещё более хитрые взрослые, осмотревшись, кого бы ещё возглавить, увидели пролетариат и обалдели от того, что огромная толпа здоровых мужиков и баб гуляет сама по себе, и возглавили её, начав «кошмарить» всех подряд. А сколько разного взрослого сброда было между ними? Декабристы, анархисты, октябристы, левые, правые, центристы, социалисты, коммунисты, капиталисты, империалисты, «ястребы», «голуби» и даже соколы, профсоюзы, «буйволы» и «медведи» и прочие «глисты», которые паразитировали и паразитируют на детях.
Дети в массе своей не рвутся к власти, не пишут законов и манифестов. Именно дети ближе всего к народу, так как именно для детей народные мудрецы пишут народные сказки. Эх, если бы сказками всё и ограничивалось, но появляются учебники по истории, обществоведению, и природное время развития человека останавливается. Дитя встаёт в строй взрослых и шагает к очередному концу очередной взрослой утопии.
Самое интересное, что из детства всё это хорошо видно. Если взять детское творчество на свободную тему, то волосы встают дыбом оттого, что ты такой взрослый и умный виден детишкам, как под микроскопом. Что тебе уже дали кличку, которая полностью соответствует твоему взрослому миру.
Наших учителей пугает детский максимализм своей простотой, честностью, искренностью, и они начинают его ограничивать законом, нравственностью, моралью. Тыкать дитё «мордой» об парту и громко покрикивать на него, такого непослушного. Им, взрослым, крайне неудобно уживаться с детским максимализмом. Они начинают готовить детей к тому, чтобы в скором времени их опять возглавил какой-нибудь урод и завёл их в очередное «светлое будущее». Дети сопротивляются, как умеют. Они ещё не холуи, им понятен престол, они ничего не имеют даже против царского трона. Но им не понятны те, кто его занимает, если они не видят в них Бога. Пишут грустные стихи, лепят из глины смерть с косой. Иногда, к несчастью, расстаются с жизнью, ещё детской, не желая себе жизни взрослой. Но это не заставляет взрослых задуматься над тем, что если детей не «кошмарить» в рамках очередной утопии, очередного вождя, то, возможно, они из своего «светлого настоящего» никогда бы и не выходили. И всё было бы хорошо.
Очень редко взрослые понимают, что первично, а что вторично, где причина, а где следствие. Взрослые передают эстафету своих недостатков другим подрастающим взрослым, отличившимся на ниве кривды детям, и последние продолжают калечить детей дальше, щедро наделяя их всеми взрослыми пороками.
Только став стариками, некоторые взрослые по долгу гладят своих внуков и внучек по мягким волосам без слов, без назиданий, молча. Они передают через свои шершавые руки детям свою любовь и свою мудрость, до которой дожили только к старости. Но это редко. Чаще и старики, ощущая свою возрастную солидарность со своим «бессмертным» вождём, организуются в колонны и идут оправдывать свою взрослую жизнь. И если вождём был фюрер, то вообще хана.
В этом случае опять самые хитрые начинают вертеть головами и высматривать, кого бы опять возглавить и повести. И им на глаза попадаются дети, и сразу этим детям можно дать определение «пропащие дети», ибо их уже повели другие. Не могу сказать, что это плохо, когда только что родившемуся ребёнку дают медаль новорождённого, затем выдают значок «октябрёнка» и барабан, потом – комсомольский значок и горн, затем партийный значок и первую медаль, это то, что называется стабильностью. Стабильность – это, конечно, скука, если она перерастает в привычку, но это и стадо, а в стаде легче живётся.
Страшно оказаться на стыках времён. Это когда в самом низу уже решили, что так больше жить нельзя, а до самого верха команда ещё не дошла. Мы, родившиеся в 60-х годах ХХ века, в этот стык угодили. Нас учат одним правилам, а жить приходиться по другим. Мы любим свою школу. И не только потому, что нас к этому призывают. Мы любим своих учителей, распознавая душой своих, или ненавидим своих учителей, но по чувству детской наивности и максимализма.
Мир уже меняется, а на уроках истории нам рассказывали о классах, прослойках и антагонизме между ними. Учительница истории никак не может понять, что, будучи интеллигенцией, она всего лишь «прослойка». Так выходит, что она сама на себя наговаривает, объявляя о присущих прослойкам антагонизмах. Она сама ничего не понимает, что уж тогда говорить о нас. Мы замыкаемся и становимся спорщиками внутри себя, ибо всё, что выходит из нас наружу, беспощадно подавляется. Мы протестуем – нас наказывают. Хорошо хоть не сажают. Эксперимент по взращиванию классовой ненависти ещё продолжается.
Хотя нам повезло с уроками литературы, особенно с А.С. Пушкиным. Настоящий, профессиональный литератор может найти в Пушкине основы и начала буквально всему, в том числе и азам педагогической деятельности. Пушкин написал: «Нас всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь». И это высшая педагогическая наука и справедливость. Дети любят тех, кто их не мучает, кто даёт им направление для роста и отпускает их в свободное плавание.
Уроки литературы компенсируют уроки истории, благодаря чему многие из нас не станут истериками и дураками. Хотя это удастся не всем. Те, кому не удастся, видимо, придут опять в школу воспитывать других истериков.
Мы угодили в стык. Это и счастье, и несчастье одновременно. Счастье ожидания, а несчастье от несбывшихся надежд…
Итак, наш 10 «А» класс. «28 Душ, 28 характеров, 28 пауков в банке, 28 знающих всё и не знающих ничего, 28 всё умеющих и не умеющих ничего».
А интересно, что я смогу написать о своих школьных годах лет эдак через тридцать? Наверное, так: «По мере выпадения волос и зубов, скрипа в суставах и увеличения живого «боевого» веса, всё больше и больше хочется вспоминать и писать о детстве. О своём детстве. Случается, что люди из детства так никогда и не выходят. Сначала они проживают свою детскую жизнь, а затем живут детской жизнью своих детей, которую омрачает только вынужденная обязанность ходить на работу, ибо дитя надо одевать, кормить, растить, а потом наступает полное счастье – это когда «аист» приносит внуков. Это счастье, когда всё именно так».
В такой жизни, разница между своим детством, переросшим в детски – старческий маразм, и детством внуков стирается полностью. Такое завершение жизни можно считать пиком земного счастья, ибо откуда пришли, туда и вернулись, и самое главное – в прежнем, счастливом состоянии. И это без всякой иронии.
А пока, стихи:
Наш класс – единый организм,
И наш закон – коллективизм,
Привычка есть у нас одна,
(Чтоб ни покрышки ей не дна):
Всё делаем колоннами.
Организованно стоим,
Сидим, поём, едим и спим,
И на прогулку мы идём,
И за бутылкой в гастроном,
Всегда идём, всегда идём колоннами.
Давно идём за рядом ряд,
А под ногами камни спят,
Идём мы словно на парад,
Шагаем словно детский сад,
Который год уже подряд, колоннами.
Синхронность наша, чёрт возьми,
С ума сведёт меня, поди!
Но одному сойти с ума?
Нет, ни за что и никогда,
Уж лучше все свихнёмся мы колоннами.
Да, колоннами. Чтобы колонну изучить, надо в ней оказаться.
Сергей влекла военная служба. Он хотел стать офицером. Зачем? Он ответить не мог.
– Родину защищать? Слов на этот счёт произносилось много, но рядом не было ни одного человека, кто бы был убеждён в необходимости этого. Все давились в очередях за товарами потенциальных врагов. Кроме того, в учении марксизма – ленинизма ни слова не было ни о Родине, ни о её защите от внешних врагов. В этом учении враги были сплошь классовые, а следовательно – внутренние.
– От армии «откосить»? Пожалуй, да. Зарплаты матери не хватало на взятку военкому. Можно было дальше не учиться, а сразу пойти на завод. Но рабочий класс уважением уже не пользовался. Круг его жизни был очерчен весьма примитивно: утром гайки, вечером рюмки. Поступит в институт? Это ещё несколько лет на шее у матери. В этих условиях военное училище был лучшим вариантом.
– Романтика? Он не знал такого слова. Он мог войти в образ литературного героя или полководца. Увлечься его жизнью и увлечь этой жизнью других, но он не считал это романтикой.
Так получалось, что в военной службе его устраивал чисто практический аспект. Лучше военных в стране жили только чиновники и воры, что уже давно перестали разделять. Всё явно летело ко всем чертям. Стабильность просматривалась только в армии. Выбор был сделан.
Конечно, на выбор оказало влияние и школьное воспитание. Отношение к учёбе учителя выстраивали исходя из того, что если учишься на «двойки» и «тройки», то шагаешь прямо на моторный завод. Там таких дураков ждут. И действительно, там ощущалась острая нехватка рабочей силы. Если учишься на «четыре» и «пять», то институт и далее, как повезёт, но всё равно «не гайки крутить». Это было честно, хоть и цинично.
Поколение Сергея «попало на образование». В этом поколении было полно правдолюбцев и искателей правды. Этому поколению всё-таки ближе был ОБХСС, чем теневой маклер. Гуманитарные педагоги «вывихнули» мозги этому поколению в полном соответствии с задачами партии и правительства. Оно «попало». Пока партийная номенклатура «тащила и тырила» всё, что только могла, их правильно учили. Учили правильно, но научиться понимать что-либо они могли, только читая какой-нибудь самиздат. Там кое-что писали о том, как «падлы» (власть) эксплуатируют в условиях развитого социализма «быдло» (народ).
Их учили и воспитывали. В возрасте 15-16 лет всех школьников водили на экскурсии на моторный завод, чтобы они лучше учились.
На моторный завод экскурсии были не популярны. Там работало большинство родителей, и ничего хорошего от встречи с этим заводом дети не ожидали. Моторный завод вызывал в них тихий ужас. Грязные, промасленные полы цехов, по которым можно было кататься, как на коньках. Запах эмульсии и масла. Чёрные промасленные робы рабочих. Видимо, гуманитарные учителя, водя школьников на эти экскурсии, хотели показать в цветах и красках роман А.М.Горького «Мать» и его рабочих. Но, несомненно, экскурсии на завод повышали тягу к получению хороших оценок и желанию поступить в ВУЗ.
После такого похода у Сергея родился очередной стишок.
Постойте, погодите,
Конвейер остановите,
Дайте мне немного отдохнуть.
Постойте, погодите,
Немного отойдите,
Дайте мне побольше
Воздуха глотнуть.
Постойте, погодите,
Немного помогите,
Но сил уж больше нету,
Уносят меня в Ад.
В аду система та же,
Потоком идут трупы,
И черти просят Бога:
«Останови конвейер».
Но, Бог мольбам не внемлет,
Он счёт ведёт поштучно,
И к плану годовому
Опять даёт прирост.
А черти изнывают,
Исходят черти потом,
И с каждым годом
Пот всё сильней.
Устами младенцев глаголет истина, и это истинная правда. Если бы взрослые прислушивались к тому, что говорят и пишут дети, возможно, Россия не оказывалась бы так часто в полном «дерьме». Не в том «дерьме», о котором обычно говорят денег нет, грязь кругом, чиновники зажрались. Везде примерно одинаково, и всюду власть никогда о народе не думала, ни до древнего мира, ни после. Дерьмо есть только одно – отсутствие души. А из народа духовный стержень «вышибли» почти полностью. Дети пребывают в тоске не по своей вине. Просто, куда ни глянь в прошлое, то Анна Каренина бросается под поезд, то Раскольников бьёт старушку топором по голове, то влюблённая барышня бросается с обрыва в Волгу. В лучшем случае, барышня, как пушкинская Татьяна страдает от того, что другому отдана, а в худшем, всё тот же общественный гнёт. И «падлы» её, бедную, гнетут и «быдлы».
Счастливы те дети и их родители, которые никогда и ничего не стремились понять из объясняемого им учителями. Но, каким должен быть учитель, который бы смог ребёнку на совершенно противоположных примерах объяснить истину, чтобы дитя сделало выбор между обрывом, рельсами, топором и ответом: «А пошли вы все….». Конечно, такой учитель должен быть великим.
Сергей пытался понять.
Его дневник пестрил стихами своими и чужими:
Когда поэты наших дней,
Вдруг оборзев от впечатлений,
Готовы настрочить тома
Своих неискренних творений,
Когда под гром рукоплесканий,
Под вопли дикие толпы
Теряют головы другие,
Вновь, как и прежде, скромен ты.
О, светоч мудрости!
О, скромности светило!
О, гений чистоты!
Не зря тебя Земля растила,
Ты лучше всех,
Ты, это Ты.
Конечно, скромен ты,
И это вслух не скажешь,
Но, буду я кричать,
Неведомый твой друг,
Пускай ты даже вида не покажешь,
Но все поймут, кто лучше всех вокруг.
А если не поймут?
Народу волю дай!
Он пустит по ветру останки наши,
Творения сожжёт в костре святом,
А пепел выбросит в парашу.
Я появился, чтоб в строю едином
Не дать цивилизации заглохнуть,
Но не родился я таким кретином,
Чтоб просто за неё подохнуть.
И в зеркалах, и в окнах, и в воде
Своё я отраженье вижу всюду.
Я есть и там, и тут, я есть везде,
Я был всегда, я есть, всегда я буду.
А без меня цветы бы не цвели,
Икру бы не метала рыба,
Я соль, я просто пуп Земли,
Все люди – пыль, а я над ними – глыба.
Я и в микроструктурах бытия
Своею мыслью воплощён извечно,
В номенклатурном состоянье я,
Застыл, как памятник, навечно.
Пока живу я, цело мирозданье,
Галактики летят куда попало,
Весь этот мир лишь рук моих создание,
И для простора мне вселенной мало.
И как бы люди жили без меня?
Мгновенно б встало производство,
Не стало бы ни хлеба, ни тряпья,
Ни плановых процентов роста.
Но я живу, свои следы
На Гималаях я оставил,
Я Атлантиду утопил,
На Пасхе чучел понаставил…
Время шло, он окончил школу и поехал из маленького волжского городка на Урал поступать в военное училищё. С поступлением в училище особых проблем для него не должно было быть. В науках он хоть и не дерзал, но все экзаменационные предметы знал на твёрдые «четвёрки». Он уверенно набирал проходной бал. Но чем ближе была мандатная комиссия, тем понятнее становилось, что это не главное. Многие абитуриенты, ещё не сдав ни одного экзамена, знали, что они уже курсанты. Это были многочисленные внуки ветеранов Великой Отечественной войны, конечно, ветеранов живых, которые и привезли в училище своих внуков. Не менее многочисленными были и ряды детей действующих офицеров. Эти ребята были веселы и утешали «залётных» провинциалов частушками на тему «хочешь жни, а хочешь куй, всё равно получишь…».
Сергей понял, что направление он выбрал верное, а вот училище – нет. Училище было военно-политическим. Сергей поразился откровенному хамству и какой-то патологической ненависти к Родине со стороны этих людей. Кто-то где-то опять слукавил, описывая историю политического корпуса. Возможно, что замполитов расстреливали первыми, но были они в последней шеренге и всегда сыты и пьяны. Большинство из них выжило и теперь делало карьеру своим внукам. А внуки к семнадцати годам уже набрались от дедов и отцов знаний о номенклатурной жизни и «борзели», ничего и никого не стесняясь. Сергей ничего не знал о «золотой молодёжи» до поступления в училище. И лучше бы не знал и дальше. «Героические» деды, став после войны номенклатурой, вовсе не стремились прожить жизнь честно в памяти о своих погибших товарищах. Они передавали своим внукам совершенно иной опыт. Опыт хамства и стяжательства. Так выходило, что призванные в Красную армию 8 мая 1945 года, эти ветераны к 9 мая 1945 года, ничего не увидеть, не понять так и не смогли, но партийному активу нужны были «герои». Они ими и стали. А те, кто погиб или был взять в плен, начиная с 1941 года, считался либо без вести пропавшим, либо предателем, но семьи и тех, и других были изгоями в государстве СССР.
Конечно, вчерашние мальчишки – провинциалы, воспитанные такими же провинциальными учителями на пионерских линейках, сборах металлолома и макулатуры, в этой внучатой среде чувствовали себя отвратительно. Всё было лживо насквозь. Человек с открытой и честной душой просто не мог поступить в военно-политическое училище страны атеизма. Это бы просто нарушило все законы природы и божьи заповеди. Бог не фраер, и уж точно не генеральный секретарь, он готовит и бережёт свои кадры. А если ребёнок дорос до юноши и смотрит на мир открытыми глазами, значит это его, Бога, кадровый резерв.
Но Сергей хотел поступить в военное училище. На одном из вступительных экзаменов он чем-то «зацепил» гражданского педагога-экзаменатора. Какой-то фразой. Ему поставили «хорошо». А после экзаменов преподаватель сказал Сергею, что его место не в этом училище. Здесь его форма существования всегда будет находиться в противоречии с самим существованием. Есть другое военное училище – училище тыла. Там всё честно. Там никто не закатывает глаза к небу, рассуждая о советской власти и её светлом будущем. Там всё устроено так же, как и во всём СССР. Те же взятки, те же детки, тот же «блат», но это по определению и название училища не вступает в противоречие с нравственностью. Политическое училище готовит «проституток» и «сутенёров», а училище тыла «авантюристов» и «пройдох». От проституток удовольствие кратковременное и сомнительное, а авантюристы развивают этот мир вечно.
Сергей запомнил этот разговор.
Весь следующий год он усердно готовился, чтобы взять это училище «в лоб» и искал обходные пути, чтобы взять его и «с тылу».
Год прошёл в тяжёлом труде на местном заводе. Все слухи и сплетни подтверждались ежедневно. Оказалось, что действительно, лучше всех на заводе жила группа офицеров из военной приёмки. У них был самый что ни на есть здоровый образ жизни. Три раза в неделю физическая подготовка на местном стадионе и бассейне, три раза в неделю политподготовка и прочие занятия. Дистанция от них до гегемона Советской власти была огромна.
Завод сделал руки Сергея жилистыми, а глаза злыми. Цех чугунных деталей превращался во вторую смену в пьяный бедлам. Грязные, зачуханные работяги, в ряды которых влился и Сергей, сначала гнали план, кое-как шлифуя диски сцепления. Главным было количество в обход всех технологий. Последний плановый диск плавно перетекал в первый налитый стакан. Пили быстро, почти не закусывая, затем все падали возле своих станков и спали до утра прямо на грязном, промасленном железном полу. Это был рукотворный ад, который открылся Сергею после того, как у него до локтей облезла кожа с рук. Он грешил на заводскую эмульсию, но оказалось, что она была сильно разбавлена мочой. Работягам было лень ходить в туалет, и они ссали прямо в станки.
Россия переживала не только «застой», но и очередной пик платоновского социализма в его знаменитой формулировке: «элита, армия, рабы».
Элита и армия рабов знать не хотела. По случаю развития цивилизации рабы именовались не просто пролетариатом и крестьянством, а гегемоном. Хотя некоторый местный колорит был и у элиты с армией. «Рабы» пили, но не дурили. Элита пила и дурила. Директор завода, Герой Социалистического Труда, на очередной гулянке с девками потерял партийный билет. Парторг завода ни в какую не хотел поменять формулировку потери партбилета с «по халатности» на «украли». Принципиальный попался. Рабочие смеялись. Парторг откровенно решил вознестись пусть и над блудливым, но профессионалом.
– Ну, ну, – говорили рабочие, – а кто план будет давать? Парторг с мозгами, вывихнутыми партией?
Всем было интересно знать, чья возьмёт: власть капитала и Госплана или теория марксизма-ленинизма в лице КПСС. Победил капитал, парторга убрали. Директору выписали новый партийный билет и записали выговор.
С заводской элитой частенько путались и жёны офицеров, поддерживая и продолжая карьерный рост своих мужей. Хлеб надо было отрабатывать и им, а так как в конструкторских отделах толку от них не было никакого, то приходилось радовать глаз в других местах.
Ничего нового в той жизни, которую вела партийно-хозяйственная номенклатура, сливаясь в экстазе с армейской элитой, не было. Точно так же, как в начале ХХ века, имперский бордель развёл российский царь, и в пламени этого борделя гибли русские солдаты на войне с японцами, потом с немцами, а потом и друг с другом, точно также в конце ХХ века такой же бордель развёл российский генеральный секретарь, и точно также в пламени этого борделя гибли русские солдаты в афганской войне.
Сергея удивляло огромное количество бездельников, слонявшихся по заводу. Партийные деятели, комсомольские деятели, профсоюзные деятели, спортсмены, никогда не видевшие станков, к которым были приписаны, и такие же артисты художественной самодеятельности.
Уместно заметить, что у Сергея очень рано проявился дар разведчика. Он мог совершенно спокойно проникать в любую среду. Он для всех был своим, так как молчал и слушал. Из откровенных разговоров разного рода начальников так выходило, что в СССР развели целые стада льготников. Льготами пользовались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны КПСС, ветераны труда, Заслуженные деятели культуры, Заслуженные артисты и т. д. Эти стада сметали всё: путёвки в санатории, квартиры, автомобили, гаражи, садовые участки и конечно продукты, ещё до их появления на прилавках магазинов, и все прочие товары. Льготников было много, а у них были дети, внуки, родственники. Родину эта социально защищённая часть населения не любила, так как считала, что она им всё равно должна больше, чем даёт. Но партия и правительство их усиленно откармливали, так как видели в этих льготниках мобилизующий фактор. Во время «Ч» они должны были, если не увлечь своим примером (зря что ли хлеб ели), то хотя бы помочь партии и правительству отмобилизовать другую часть населения. Другая часть населения, не пользовалась ничем, но именно она обеспечивала все социальные льготы. Эту часть населения составляли люди, которым не повезло, которых отмобилизовали на призывах партии: «на борьбу…», «на битву…» и которых никто и никогда не защищал, не щадил и не берёг.
Сергей, бывая у своих бабушек, задумывался над тем, откуда происходит нищета, в которой они живут. Один дед начал воевать ещё с японцами, затем продолжил с финнами, потом в первых рядах Красной Армии вступил в бой с немцами. Он ещё до Великой Отечественной войны навоевался до «одури», и всё время в первых рядах. Даже если бы он захотел дожить до внуков – всё равно бы не успел. Первые ряды чаще становятся покойниками, а не льготниками. Деду по своему повезло. В конце 1941 года он попал в плен. Потом целая череда немецких концентрационных лагерей. В 1945 году – освобождение. При росте 1,82 метра в нём осталось весу 46 кг вместе с вшами. Но он был жив. Родина отправила его в Новокузнецкие шахты, где было много ветеранов, начинавших воевать ещё в Испании. Потом на шахте произошёл взрыв, а взрывы на шахтах происходили ежедневно. Жёны шахтёров залазили на крыши домов, чтобы увидеть на какой именно шахте произошла авария. Администрация шахт сначала подавала протяжный гудок, а потом вывешивала флаг, мол ваши мужья, там внизу, бегом бегите…. А бабы смотрели, та ли это шахта, и их ли «очередь» подошла бежать…. Словом, деда засыпало угольком.
У второго деда судьба была похожая. А бабушки и в свои семьдесят, а потом и восемьдесят лет всё продолжали ходить на работу. Что-то где-то мыли, что-то где-то сторожили. Вожделенной мечтой маленького Сергея было желание овладеть одноствольным ружьём, выданным 74 – летней бабе Мане для охраны одной из заводских проходных. Мир не без добрых людей. Минимальная пенсия, взрослые дети, у которых по факту проживания в стране социализма были безграничные возможности, а по факту безотцовщины – никаких.
Рядом с ними была весёлая жизнь победителей, начавших воевать, как правило, в конце войны, а то и не воевавших вовсе, с трофеями, со связями. Им периодически вручали медали за не их подвиги. А у вдов и их детей на горизонте маячила одна тяжёлая работа, без всякой надежды на светлое будущее. Эти люди были социалистической, коммунистической или просто лагерной пылью.
Об этих людях родина не заботилась совсем. Она их кошмарила, мочила и обугливала. В итоге «родина-мать» добилась своего, с конца 70-х годов ХХ века всё более и более стали проявляться следы «трупа». Родина Сергея тихо умирала, обглоданная до костей льготниками, мародёрами и просто партийными дармоедами.
Началась война в Афганистане. Родители мальчишек призывного возраста «впали» в тоску. Убитых на этой войне привозили тайно. Хоронили без панихид. Салютов над могилами не давали. Солдаты – мальчишки были в основном рождены как раз от «лагерной пыли» и выросли в нищете. Родина даже не накапливала здоровье этих детей, чтобы потом забрать его разом. Она их просто забирала и убивала. Родина откармливала внучат льготников, детей партхозноменклатуры. Для чего и кому нужны были эти внуки-дети, Сергей ещё не понимал. Но мудрые люди уже говорили, что «просрать» можно всё, даже империю. Для этого надо просто вырастить прожорливых свиней.
Конечно, ни один нормальный родитель при таком раскладе отдавать своего сына в армию не хотел. Родители не очень понимали, что именно должны защищать их дети. Их, родителей, нищету? При этом погибнуть и лишить их вообще всякой надежды? Речам членов политбюро уже никто не верил. Да и как было верить, если сыновей привозили в цинковых гробах со стеклянными окошками, в которых был виден только нос, и хоронить приказывали тихо, как воров. Всё было поставлено с ног на голову. Воры громко торжествовали, а героев тихо хоронили. Все убеждения в непогрешимости курса партии, правительства рассыпались, как пепел на ветру. А без убеждений работать, а тем более служить Родине, невозможно.
Сергей не был исключением. Он не хотел в солдаты, но он был не прочь посмотреть изнутри жизнь советского офицера. Этот вычитанный лозунг: «элита, армия, рабы» – не давал ему покоя. Армия была посередине, как и в другом лозунге: «вера, царь, отечество».
Время шло, он влился в ряды тех, с кого собственно начинались все великие шалопаи и авантюристы всех стран мира. Он стал военным.