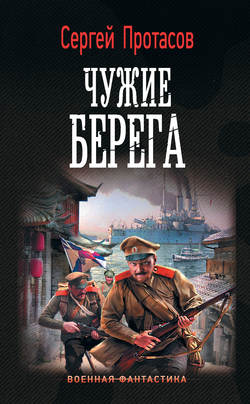Читать книгу Цусимские хроники. Чужие берега - Сергей Протасов - Страница 2
ВОСТОЧНЫЙ ПОХОД
Глава 1
ОглавлениеУже спустя два дня после боя у Цусима-зунда русские достаточно надежно обосновались на Цусиме. Все населенные пункты, находящиеся почти исключительно в прибрежных бухточках, были прочесаны пехотой и десантными отрядами с кораблей. При этом удалось взять живьем только двоих совсем юных мичманов, найденных ранеными в хижинах рыбаков в бессознательном состоянии, да нескольких рядовых из пехоты и матросов, пытавшихся укрыться у местных жителей.
Не менее трех десятков японских солдат и несколько младших пехотных офицеров были убиты в перестрелках, порой вспыхивавших в ходе осмотра деревень, или покончили с собой, чтобы не попасть в плен. Наши потери оказались больше, так как всячески старались не задеть местных, из-за чего нарывались на выстрелы из-за угла.
По причине явной малочисленности гарнизона было очень важно добиться максимальной лояльности мирных жителей, ведь некоторые из них еще наверняка помнили давние визиты русских кораблей. Благодаря этому имелись шансы наладить добрососедские отношения. Старожилы могли сравнить их с визитами тех же англичан. Отличия в стиле ведения переговоров у наших моряков и у «просвещенных мореплавателей» тогда были весьма серьезными[1]. Правда теперь англичане – союзники Японии, а мы – враги, так что, как поведут себя подданные князя Со, еще было неизвестно.
С аборигенами в любом случае предстояли сложности, связанные с неизбежным ограничением их мореходства, вызванным соображениями секретности. Из-за гористого рельефа островов, делавшего пригодным к земледелию лишь незначительные участки земли в долинах и на некоторых склонах, кормились здешние жители преимущественно рыбой и всем прочим, что добывали в море. Теперь же рыболовство разрешалось только во внутренних акваториях, уверенно контролируемых с разворачиваемой сети сигнальных постов.
Недостаток в продуктах питания, который при этом обязательно должен возникнуть, предполагалось компенсировать крупами и зерном. Однако из-за больших потерь в грузах этот вопрос еще только предстояло решить в перспективе за счет трофеев с перехваченных в море судов или за счет подвоза из Владивостока, либо перенаправления части судов со снабжением, шедших на Дальний Восток из Европы и Азии на новые земли.
Береговая черта Цусимы большей частью извилиста, с множеством бухт, бухточек, прибрежных ущелий и гротов, весьма сложная для контролирования. С моря из-за рядов невысоких гор с круглыми, плотно заросшими лесом вершинами Цусимские острова напоминают спину спящего древнего азиатского дракона, какими их изображают китайцы и японцы. Но благодаря нескольким доминирующим и приметным вершинам, с моря ориентироваться довольно просто.
Ничего особо примечательного в ходе осмотра территории обнаружено не было. Как и следовало ожидать, от основанного экипажем корвета «Посадник» более четырех десятков лет назад русского поселения в бухте Имосаки почти ничего не осталось. Склады леса давно израсходовали на свои нужды местные, а изрядно обветшавшие бараки использовались время от времени рыбаками, не утруждавшими себя их ремонтом и ограничивавшимися лишь латанием крыши. Видимо, совершенно иная конструкция всего строения, не вписывающаяся в местную архитектуру, пришлась им не по душе.
Вообще же архитектура во всех поселениях Цусимы оказалась откровенно бедной, даже можно сказать, убогой. Причем это не только в рыбацких деревушках или поселках, но и в довольно крупных городках. Хоть какой-то интерес среди массы преимущественно деревянных местных строений вызвали величественные древние противопожарные стены столицы княжества Цусима Идзухары. Возведенные бог знает сколько веков назад из камня, они должны были предотвращать распространение огня между кварталами.
Несмотря на изрядную запущенность и кажущуюся ветхость, эти сооружения, широко использовавшиеся японцами при обороне последнего их оплота на Цусимских островах, выстояли даже под огнем современной артиллерии, в том числе и флотских калибров. Хотя, конечно, не без ущерба. Все-таки выдержать прямое попадание двенадцатидюймовой стальной бомбы, выпущенной всего с двух миль, не способна даже бетонная стена, не то что старая, размытая дождями и раскачанная растительностью, каменная кладка.
Сама бухта, на берегах которой расположена Идзухара, небольшая, но довольно живописная. Она имеет сравнительно широкий вход, более трех кабельтовых между мысами Торазаки и Яразаки, нависающими над водой крутыми густо-зелеными сопками. Причем южный мыс, Торазаки, гораздо массивнее.
От входа виден круто поднимающийся вверх западный берег бухты, с возвышающейся над ним горой. И только войдя в нее саму, открываются южный и северный рукава, заканчивающиеся небольшими долинами впадающих в бухту рек, отгороженных от моря рядами горушек. Северная река по местным меркам довольно крупная. В ее устье и находится Идзухара. Еще одна, гораздо меньше, с юга. Там тоже какое-то селение, даже с несколькими улицами, неизменно выходящими к деревянным пристаням. Расстояние между этими устьями чуть меньше мили.
Благодаря своей форме и высоким гористым берегам, бухта напоминает миниатюрный фиорд. Вода почти пресная. Много рыбы, довольно крупной, буквально высовывающейся из воды. Но самой главной достопримечательностью этой гавани, несомненно, стал затонувший за мысом Торазаки японский пароход, потопленный нашими подводниками. Его борта с полностью облезшей краской и прогнувшиеся от жара бимсы, оставшиеся от палубы после того, как ее деревянный настил сгорел, буквально притягивали к себе внимание всех русских, кто появлялся здесь. Но их было не много. Основная жизнь кипела в Озаки и Такесики.
У входа в Цусима-зунд развернули серьезные строительные работы. Уцелевшую пару 240-миллиметровых пушек привели в полный порядок, оснастив дальномером системы Петрушевского с современной связью. Орудийные дворики тщательно замаскировали и защитили траверзными и тыловыми прикрытиями из бревен, покрытых железом, и такой же крышей. Подобную защиту получили и пути подачи боезапаса с командным постом.
Не став восстанавливать остальные японские батареи, доказавшие свою низкую эффективность, матросы и саперные части пехоты в кратчайшие сроки отрыли котлованы в каменистом грунте и соорудили деревянные основания под шестидюймовые пушки системы Канэ, доставленные на борту пароходов «Калхас» и «Джина». К вечеру 22 июня они уже закончили установку шести таких орудий на вершине холма у мыса Камасусаки. Их позиции разместили таким образом, чтобы обеспечить максимальные углы обстрела в направлении от северо-восточных до южных румбов, откуда могли появиться японцы. Часть пушек вообще имела круговой сектор обстрела.
Пробные залпы этой батареи, прогремевшие в вечерних сумерках, были замечены с японского дозорного крейсера «Акаси», державшегося в восьми милях западнее. Об этом он по радиотелеграфу сообщил в Фузан и Мозампо, а уже оттуда, снова по радио, была извещена крепость Бакан, а через нее и Главная Квартира. Все эти телеграммы, перехваченные нашими станциями, были разобраны довольно быстро.
Японцы не знали, что орудия стояли на позициях, обнесенных временными брустверами из валунов и мелкого камня, сложенными безо всякого раствора, не имели погребов боезапаса, жилья и укрытий для расчетов, а командный пункт размещался в небольшом окопчике, обложенном булыжниками и прикрытом сверху навесом из жердей и парусины. Зато имелся полноценный дальномер и телефонная связь с сигнальными постами и соседними позициями береговой обороны. В случае необходимости можно было напрямую связаться даже со штабом.
К обеду следующего дня отстреляла пробные залпы такая же батарея на мысе Гоосаки. Сразу занялись составлением таблиц согласования взаимодействия с трофейной тяжелой батареей, для пушек которой под завалами нашли японские пристрелочные карты. Развернутые у самого уреза воды трехдюймовые противоминоносные батареи был готовы к открытию огня еще раньше. В дальнейшем велись активные работы по обустройству и усилению этих позиций.
Кроме того, под четыре 120-миллиметровые пушки и три трехдюймовки с «Изумруда», которые удалось восстановить после взрыва и пожара, начали сооружать батарею на мысе Эбошизаки, для прикрытия входа в Цусима-зунд и рейда Озаки.
«Владимир Мономах» обзавелся, кроме противоторпедной защиты, еще и импровизированным волноломом из двух выгоревших небольших каботажников, затопленных у его борта со стороны моря. Их корпуса заполнили камнем, а загораживавшие обзор надстройки срезали. На палубах крейсера из мешков с песком и колосников устроили дополнительные прикрытия орудий, отчасти компенсировав так и недополученные в ходе модернизации щиты. Подобную защиту получили пути подачи боезапаса, пожарные магистрали и другие боевые посты. Поскольку плотно сидящий на грунте почти без крена крейсер был теперь не восприимчив к перегрузке, баррикады соорудили вполне основательные. Материала для этих работ на берегу было достаточно.
Командир был отправлен в госпиталь, развернутый в Озаки, и быстро шел на поправку. Правда, обратно на корабль не рвался. Командовал «Мономахом» теперь старший офицер капитан второго ранга Ермаков. Под его руководством провели основную и резервную телефонные линии для связи с берегом и штабом, согласовали взаимодействие с остальными батареями, а также выполнили ремонт фундаментов всех вновь переставленных шестидюймовок.
Выяснилось, что их детали, выполненные в строгом соответствии с чертежами, частично были собраны на болты. Ими наживляли всю конструкцию до окончательной сборки. После резьбу предполагалось заменить клепками, но по недосмотру в спешке этого не сделали. От выстрелов гайки быстро слабели, из-за чего весь фундамент терял устойчивость.
Поскольку испытания артиллерии после ремонта ограничились несколькими залпами на предельных углах возвышения орудий, не выявивших остаточных деформаций, своевременно это обнаружено не было. Только после боя, когда стали выяснять причину появившихся при стрельбе вибраций, все вскрылось. Заменить болты клепками сейчас возможности не было, так что все гайки просто протянули заново, законтрогаив для надежности.
Инцидент, имевший место на мостике «Урала», огласке не предавали, указав в документах причину гибели командира крейсера «осколок снаряда». Но на совещании штаба, посвященном этому вопросу, заслушав свидетелей, решили в дальнейшем в приказном порядке обязать всех командиров кораблей проходить регулярное психологическое обследование. Командовать «Уралом» поставили бывшего старшего офицера погибшего «Изумруда» капитана второго ранга Паттон-Фаттона-де-Верайона, чье ранение в руку оказалось не опасным.
На входе в бухту Миура, на северной и южной оконечностях острова Коросима, в кратчайшие сроки развернули противоминоносные батареи из скорострельных 75-миллиметровых флотских пушек с круговым сектором обстрела. Устроили защитные боны, а на обращенных к Цусиме склонах – батарею поддержки из восьми старых 107-миллиметровых пушек на переделанных под большие углы возвышения станках и другие укрепления.
Подходы пристреляли со всех позиций, что позволяло встречать приближающегося противника сосредоточенным огнем еще до того, как он сможет наблюдать расположение орудий. Фортификации района Миура находились под единым командованием мичмана Панаева с крейсера «Россия». Они защищали стоянку барж с углем, водой и бензином, организованную в глубине бухты, которой постоянно пользовались наши миноносцы и подводные лодки.
Батареи Миура дважды отражали попытки прорыва японских легких сил на внутренний рейд бухты. При этом юный мичман, едва закончивший обучение в Морском корпусе, но успевший досконально изучить «Последние наставления по управлению артиллерийским огнем с использованием современных средств связи», изданные очень ограниченным тиражом кустарным способом во Владивостоке после прихода флота, блестяще показал себя как организатор мобильной береговой обороны.
Используя для отражения нападений огонь не только задействованных в бою позиций, но и с противоположного прорыву мыса, он добивался сосредоточения массированного огня скорострельной артиллерии всеми имевшимися в распоряжении видами боеприпасов, исходя из ситуации, на наиболее опасных направлениях. В результате его действий у японцев сложилось мнение, что в бухте Миура несут дежурство крупные корабли, усиливающие береговую оборону этой передовой базы, что не позволило в итоге проникнуть на ее внутренний рейд.
Протока Кусухо была надежно заперта противодесантной батареей, размещенной на ее повороте, в ложбине. Это делало позиции артиллеристов недоступными для огня с моря, позволяя в то же время простреливать с прямой наводки продольным огнем отрезок протоки, длиной почти полмили. Этот участок считался непреодолимым еще и потому, что был перекрыт тремя рядами надежных минированных боновых заграждений, разводимых при необходимости дежурным катером.
С развертыванием береговой обороны получившие значительные повреждения большие эскадренные броненосцы вывели в резерв и поставили в ремонт. Предварительные проекты восстановления для каждого из пострадавших кораблей были подготовлены заранее. Также предварительно начали заготовку материалов и всего необходимого, используя привезенный с собой задел и трофейные запасы. Поэтому работы сразу развернулись в полную силу и продвигались весьма успешно.
Поскольку основной набор корпуса не пострадал, ограничились восстановлением дымоходов, систем вентиляции котельных и машинных отделений, а также артиллерии. Пробоины в бортах заделывали наложением заплат из тонких стальных листов внахлест, без замены поврежденных участков обшивки. Внутренние ремонтные работы сводились к восстановлению герметичности водонепроницаемых переборок, дверей, люков и горловин, для чего широко применяли бетон. На большее не было времени, да и возможности «Камчатки» и отбитых у японцев портов были далеко не безграничны.
Левое машинное отделение на «Бородино» полностью восстановили, благодаря круглосуточной работе машинной команды броненосца и специально сформированной бригады базы Озаки. Поскольку, своевременно остановив машину, удалось избежать серьезного повреждения ее трущихся частей попавшими осколками, трудоемкой полной разборки не потребовалось. Полностью очистить ее от посторонних предметов, частично перебрать, подогнать и притереть все сопрягаемые движущиеся части удалось уже через трое суток. А спустя еще девятнадцать часов машину отладили как швейцарские часы.
Броненосцы Небогатова и Йессена, сохранившие боеспособность, использовали сначала как подвижный резерв, но в море они почти не выходили и приняли участие лишь в подавлении остатков японской обороны на островах; после этого три дня занимались переборкой механизмов, стоя на рейде Озаки, рядом с плавмастерской «Камчатка». К этому времени оборону входа в Цусима-зунд уже полностью возложили на новые береговые батареи и «Мономаха».
Боезапас на всех кораблях был принят по усиленной норме, что почти полностью исчерпало запасы для скорострельной артиллерии на борту «Анадыря». Тяжелых снарядов также оставалось совсем немного. Двенадцатидюймовых только 56 штук. Из них почти половина сегментных. А десятидюймовых – 72 бомбы закаленного чугуна да полсотни сегментных. Полноценные бронебои и фугасы для «ушаковцев» все были уже в погребах броненосцев. Зато девятидюймовых для второстепенного калибра «Николая» после восполнения убыли оставался еще почти полный комплект. Но это исключительно благодаря тому, что перед выходом из Владивостока исполнили приказ наместника на получение дополнительного боезапаса с девятидюймовых мортирных батарей, изъяв оттуда абсолютно все найденные современные стальные фугасы.
Сложности с дальнейшим наполнением погребов становились очередной потенциальной проблемой, каких уже набирался целый ворох. Существенного пополнения снарядного парка ждать в ближайшее время не приходилось, поскольку, покидая базу, из арсеналов было взято все до железки, что предназначалось флоту, и большая часть того, что флоту не предназначалось, но могло быть им использовано.
Это было совершенно необходимо, поскольку интенсивные артиллерийские учения во время стоянки в базе обошлись почти в четыре тысячи шестидюймовых выстрелов только из скорострельных пушек, что вылилось в итоге еще и в замену артиллерии главного калибра «Богатыря». Кроме того, были расстреляны до упора почти половина орудий среднекалиберных батарей «Наварина» и «Нахимова», стоившие еще почти трех с половиной тысяч шестидюймовых снарядов и восьми стволов старых шестидюймовок. Для их замены были взяты пушки с разоруженных барж-плавбатарей.
Это далеко перекрывало темпы подвоза орудий и боекомплектов по железной дороге. Возобновить в полном объеме артиллерийские запасы крепости в ближайшее время совершенно не представлялось возможным. Единственная железнодорожная ветка, связывавшая Дальний Восток с Россией, была не в состоянии обеспечить соответствующее снабжение армии и флота, начавших наконец воевать в полную силу. Однако такой фантастический перерасход боеприпасов позволил в кратчайшие сроки поднять до нужного уровня выучку артиллеристов на эскадре, что наглядно продемонстрировали последние события. Но об истраченных тысячах снарядов и приведенных этим без боя в негодность «почти полусотне» орудий стало быстро известно в столице, что вызвало массу гневных депеш из-под шпица и из артиллерийского комитета.
В них едва не дошло до прямого обвинения в саботаже. Теперь где-то в пути была специальная комиссия, назначенная для расследования этого вопиющего случая расточительства в военное время. От прямого отстранения от должности и ареста Рожественского, по сути, спасло только возобновившееся наконец, причем весьма успешно, продолжение кампании.
Столько событий произошло после выхода эскадры с Балтики, а конца войне все еще не видно… Год назад казалось, что стоит дотянуть до Аннама эту армаду, и японцы пойдут на переговоры о мире. Сам Рожественский был в этом уверен и своей задачей считал именно обеспечить переход. Воевать он не собирался. Впрочем, тогда он был совершенно другим человеком.
Кто-то из древних сказал: «Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах!» Получив категорический приказ, воевать все же пришлось. Хорошо еще опомнились в дороге да готовиться начали. Повезло, конечно, что японцы дали до себя дотянуться. Прорвались во Владивосток. Но и этого оказалось мало.
Даже теперь, когда, собрав все оставшиеся силы, снова надавали японцам по морде, они не сдаются. Все предвоенные доктрины летят псу под хвост. Планы штабов, уже новые, казавшиеся абсолютно безупречными и логичными, не срабатывают. Враг стойко держит удар за ударом, а силы тают! Не хватает всего!
Новый наместник императора на Дальнем Востоке потерял всякую надежду найти взаимопонимание в верхах. Все его прежние связи перестали действовать. А завистливых взглядов и злобного шипения за спиной становилось только больше. Причем не только в столице, но и здесь. Слишком многих отодвинул от кормушки или наступил на мозоли.
Вице-адмирал Бирилев, назначенный командовать на Тихий океан, едва прибыв к месту базирования своего флота, был проинформирован доброхотами о творящемся в крепости безобразии и, вполне ожидаемо, пришел в ярость, увидев наиболее выразительные цифры, касающиеся как расхода снарядов, так и небоевых потерь в части артиллерии, а особенно в миноносном флоте, и без того весьма скудном[2]. Однако, побывав на практических стрельбах уже обученных такой ценой комендоров «Олега», в сравнении со стрельбами не прошедших дополнительной подготовки новых береговых батарей, укомплектованных опытными расчетами и вооруженных такими же пушками, свой гнев умерил. Разница в уровне боеспособности была слишком большой.
А после показательных ночных учений минных отрядов с лихими выходами в атаку при слабом свете одних лишь осветительных ракет и без использования прожекторов и состоявшегося сразу после них обстоятельного разговора с замотавшимся до последней степени Зиновием Петровичем в целом одобрил все его начинания.
Имея к этому времени представление о возможностях Владивостока, как базы для целого флота, он был согласен с тем, что у России в этой войне сейчас имеется шанс лишь на единственный, верный и сокрушительный удар, который может решить всё. В таких условиях экономить на подготовке этого удара просто преступно.
Уже на рассвете следующего дня Бирилев отправил в адмиралтейство основательную депешу с обоснованием необходимости понесенных казной расходов в сложившейся ситуации, а также с запросом на скорейшую отправку на Дальний Восток всех пушек, снятых в ходе ремонта и планируемого перевооружения с броненосца «Александр II». Их предполагалось использовать для обороны наиболее важных пунктов побережья, а при необходимости для замены поврежденных в бою орудий аналогичной конструкции.
Кроме того, он считал весьма желательным для этих же целей как можно скорее доставить во Владивосток хотя бы по десятку современных патронных орудий всех калибров и освободившиеся тридцатипятикалиберные картузные пушки со списанных черноморских канонерских лодок и из других мест, где будет возможно их изыскать. Вплоть до снятия малопригодных для использования в бою ретирадных шестидюймовок с броненосцев типа «Екатерина». При этом в обязательном порядке снабдить орудия старых моделей новыми замками улучшенной конструкции и максимальным боекомплектом.
Помимо депеши в адмиралтейство также отправил пространное послание лично генерал-фелдцейхмейстеру великому князю Михаилу Николаевичу, возглавлявшему артиллерийский комитет, с описанием сложившейся ситуации с артиллерией и, самое главное, с ее боеприпасами на театре боевых действий. Он настаивал на срочном принятии самых действенных мер по увеличению пороховых и прочих боевых припасов, заявляя, что иначе мы просто упустим уже почти добытую победу.
Но в Петербурге всего этого понять не могли. Великий князь Алексей Александрович требовал немедленной отставки Рожественского, прямо заявляя: «Коль скоро подготовка эскадры оказалась достаточной для разгрома японского флота при Цусиме, не было никакой нужды приводить в негодность бессмысленными стрельбами исправную артиллерию кораблей! Видимо, ранение сказалось на здоровье Зиновия Петровича гораздо сильнее, чем считают врачи!» Телеграмма об этом заявлении и многие подобные ей, требующие немедленного ответа, изрядно потрепали нервы наместника до начала операции.
С началом активных боевых действий, перепоручив ведение всей высшей канцелярии принявшему дела комфлота Бирилеву и «сбежав» от этой бесплодной переписки на Цусиму, Рожественский наконец получил возможность заняться непосредственно противником, безо всякого сомнения заслуживающим самого пристального внимания.
После уже двух цусимских боев и ряда сопутствующих этому успехов враг все еще был силен и очень опасен. Одолеть его в прямом противостоянии не было никаких шансов. Он имел гораздо больше возможностей для восстановления своего флота, чем мы, не только стоя на отбитой у японцев Цусиме, но даже базируясь во Владивостоке. Однако останавливаться и, тем более, отступать, сейчас было нельзя! Единственной выигрышной стратегией продолжения кампании виделось ведение активной маневренной морской войны.
С Цусимы открывался сравнительно свободный выход на оперативный простор, что позволяло добраться до восточного побережья Японии не только с севера, но и с юга. Причем с большей безопасностью и гораздо более значительными силами. Казалось, что появилась возможность наносить разнонаправленные частые и сильные удары по жизненно-важным центрам японской империи и ее коммуникациям, избегая генерального сражения.
Это теоретически ставило более сильного противника в позицию обороняющегося, в которой он, не зная, где будет следующий удар, вынужден будет тратить значительные ресурсы на создание достаточной обороны везде, что заведомо безнадежно. Но для этого было очень важно сохранить темп начатого общего наступления на море, что без боеспособных кораблей было невозможно в принципе.
Для максимального сокращения сроков ремонта главных сил флота делалось все возможное. В авральных работах были задействованы даже экипажи транспортов, не занятые боевой подготовкой. Поскольку ремонт шел круглые сутки, свободные от вахты отдыхали на берегу, где был оборудован лагерь. Вместо сожженных японцами казарм и бараков разбили палатки. Благо лето и климат приятный.
Параллельно с ревизией механизмов и устранением боевых повреждений проводились интенсивные артиллерийские учения и стволиковые стрельбы. Отрабатывались до автоматизма способы применения трехдюймовых шрапнелей, составлялись и корректировались новые таблицы стрельбы и методики массированного применения этих боеприпасов, на основании опытных стрельб, проведенных еще во Владивостоке, и уже полученного первого боевого опыта.
Флагманским артиллеристом Берсеньевым была предложена новая, весьма оригинальная, тактика борьбы с береговыми батареями, разработанная на основании сведений об организации береговой обороны противника, полученных от пленных. Ее суть сводилась к максимальному использованию медлительности японских тяжелых крепостных орудий устаревших систем с минимальным уровнем механизации процесса стрельбы и примитивными системами управления огнем.
Он предлагал делить атакующие силы на несколько быстроходных групп, маневрирующих индивидуально. При этом первая группа была отвлекающей, так сказать заигрывающей с батареями. Она должна была состоять из быстроходных кораблей. Маневрируя в виду фортов, явно обозначая агрессивные намерения обстрелом или попыткой прорыва через охраняемые воды, эта группа вызывала огонь на себя, заставляя противника открыть свои позиции. После чего в дело вводилась группа подавления, действующая по обнаруженным огневым точкам, выбивая, в первую очередь, самые опасные батареи. После введения в бой подавляющей группы, отвлекающая могла отойти из-под обстрела, либо продолжить участвовать в бомбардировке, в зависимости от обстоятельств.
Такая тактика позволяла подавляющей группе или даже группам стрелять в самых благоприятных условиях, хотя бы на первых порах, одновременно вынуждая батареи переносить свой огонь с одной цели на другую, что в принципе было делом непростым, а под интенсивным обстрелом осложнялось еще больше, заметно снижая общую эффективность ответного огня.
Идея поначалу вызвала множество споров, ввиду явной рискованности. Особенно для заигрывающих кораблей. Но после нескольких проработок с макетами на боевых планшетах ее признали стоящей, а риск вполне приемлемым. При благоприятном стечении обстоятельств это позволяло отвлекающей группе прорваться на прикрываемый батареями рейд еще до подавления активной обороны противника и воспрепятствовать его минированию или блокированию любыми другими способами.
Кроме тактических и стратегических вопросов, активно прорабатывалась возможность утечки информации о планировавшемся захвате Цусимы. После всестороннего анализа в штабе считали наиболее вероятной причиной столкновения со всем японским флотом у Цусима-зунда именно заранее подготовленные ответные действия противника. Вероятность случайного сосредоточения стольких отрядов на ограниченном участке моря в самый неподходящий момент была слишком незначительной.
Исходя из того, что японцы явно не ожидали полноценной высадки и захвата островов, высказывалось предположение, что они были извещены только о цели атаки, но не имели сведений о ее масштабе и задействованных средствах. Отсюда напрашивался вывод, что столь ценные сведения были получены вражеской разведкой с самого верха, где не знали подробностей.
Это казалось вполне вероятным, учитывая непозволительную словоохотливость некоторых больших начальников и тот факт, что карты Цусимы запрашивались из столицы. В том числе и внутренней ее акватории, изданные гидрографическим департаментом Морского министерства еще по результатам промеров глубин офицерами клипера «Посадник».
Добавила пищи для размышлений штабистам и аналитическая записка флагманского специалиста лейтенанта Леонтьева, в которой обобщались результаты перехватов вражеских телеграмм в ходе только что закончившейся операции. Из нее следовало, что японцы ввели новый телеграфный код, начав заменять им старый, уже хорошо освоенный нашими специалистами.
Если к началу операции даже не целые перехваченные телеграммы, имея значительную часть текста, в большинстве случаев удавалось довольно быстро разобрать, используя перевод добытого владивостокскими крейсерами на одном из перехваченных пароходов кода, выполненный нынешним флагманским переводчиком Занковским еще весной прошлого года, то теперь некоторые депеши, даже принятые станциями целиком, не читались. Причем таковых становилось все больше. Требовалось добыть новые коды.
Пока штаб думал, как быть дальше, а основные силы флота приводили себя в порядок, стоя в Такесики и Озаки, охрану вод, прилегавших к Цусима-зунду, обеспечивали номерные миноносцы, прикрываемые «Жемчугом» и дежурившими поочередно по двое суток тройками истребителей. Однако «Жемчуг» вскоре был также снят с дежурства и ушел на ремонт и бункеровку. Хотя повреждения на нем были минимальными, требовалось основательно осмотреть и проверить главные механизмы. Единственному быстроходному разведчику, оставшемуся у эскадры, при любом дальнейшем развитии ситуации хлопот наверняка хватит, а вот время для ремонтов уже вряд ли удастся выкроить.
При этом машинной команде крейсера ставилась задача, в первую очередь, добиться максимальной надежности и экономичности, поскольку о достижении проектной скорости хода речи, конечно, быть уже не могло. Хотя «Жемчуг» еще совсем недавно вышел из завода, теперь уже было совершенно ясно, что обеспечить быстрый и качественный восстановительный ремонт главных механизмов мастерские Владивостока все еще были не способны. Воспользовавшись предоставленной возможностью, механики сразу приступили к вскрытию холодильников и переборке паровой и водяной арматуры, закончив работы к утру 29 июня.
Одновременно с вводом в строй береговых батарей, вооруженных современными патронными орудиями, уплотнялись и усиливались дозорные линии. Выводились из консервации все доставленные на палубах транспортов катера и миноноски, перевооруженные в чисто артиллерийские корабли еще во Владивостоке. Уже на третий день освоения новых земель из привезенных на Цусиму четырнадцати миноносок восемь несли дозорную службу вместе с катерами. А оставшиеся шесть вместе с восемью паровыми катерами, несколькими портовыми и грунтовозными шаландами и четырьмя небольшими трофейными пароходами составили партию траления водного района Цусима-зунда.
Первые две ночи японцы активно стремились проскользнуть на рейд Озаки, не считаясь с потерями. Их многочисленные катера и миноносцы пытались нащупать прорехи в линии русских дозоров, но им это так и не удалось. При этом были потеряны пять катеров. Тогда они начали минную войну. В ней широко применялись даже небольшие парусные суденышки, конфискованные у корейских рыбаков и доставлявшие на внешний цусимский рейд по две-три мины за один рейс.
Факт начала минирования западного Цусимского пролива выяснился при достаточно трагических обстоятельствах. В ночь с 23 на 24 июня дозорная миноноска № 3 обнаружила рыбацкую шхуну, шедшую к берегу в четырех милях юго-западнее мыса Гоосаки. Немедленно двинувшись на перехват, через мегафон по-японски потребовали убрать паруса. Но судно попыталось уйти.
Мичман Бачманов, командир миноноски, решил взять шхуну на абордаж, надеясь перехватить японских лазутчиков, но когда приблизились к ней, раздался мощный взрыв, которым смело с палубы всю абордажную команду. От удара взрывной волны в корпусе открылись сильные течи. Пар в котле сразу «сел», и миноноска почти лишилась хода.
Более-менее уцелели лишь контуженые машинист и кочегар, которые с большим трудом смогли привести покалеченный кораблик в Озаки. Попутно они подобрали из воды своего командира и еще одного матроса, находившихся в бессознательном состоянии, а также оглушенного японца, чудом выжившего при взрыве. Все остальные погибли.
Этот-то японец и рассказал потом, что шхуна входила в состав только что созданного специального диверсионного отряда «Кокутай», задачей которого было блокирование русского флота на Цусиме. На взорвавшейся посудине имелись готовые к постановке две обычные якорные мины, которые подорвал динамитной шашкой командовавший судном мичман Тадзима. Пленный сиганул за борт, едва был подожжен фитиль, потому и выжил.
После этого случая дозорные суда либо открывали огонь с безопасного расстояния, либо ограничивались наблюдением, с последующей отметкой мест возможных минных банок. В случаях попыток минирования значительными силами в бой вступали истребители и миноносцы, отгонявшие японцев, активно огрызавшихся в ответ. В этих стычках получили серьезные повреждения и встали на ремонт к борту «Камчатки» миноносцы № 211 и № 203. О японских потерях ничего известно не было, но как минимум один миноносец они утащили от Цусимы на буксире. Это было обнаружено сначала катерным дозором, а с рассветом подтверждено наблюдателями с «колбасы».
В ответ на японские минные постановки наши истребители тоже начали навещать входные фарватеры Фузана и Мозампо, выставив за три ночи пять минных банок. Перестрелки между дозорами как у Цусимы, так и у корейских шхер стали привычным делом и уже не вызывали тревоги. Кроме того, корейские воды вблизи японских передовых баз начали скрытно осваивать подводники. Работая во взаимодействии с миноносцами, они выявляли районы маневрирования патрулей и учились их обходить на узких и достаточно мелководных фарватерах.
В ходе этих вылазок была перехвачена корейская шхуна с военной контрабандой, шедшая из Шанхая в Ульсан. От ее капитана и из найденных на борту газет узнали, что японцы объявили о начале блокады Цусимы, а заодно и берегов северо-восточной Кореи и российского тихоокеанского побережья. Проливы восточнее и западнее Цусимы объявлялись закрытыми для любого судоходства. С конца июня японцы считают вражескими любые суда, даже принадлежащие нейтральным странам, направляющиеся в эти районы, и будут топить все, что увидят там и у русских берегов днем и ночью без досмотра.
В ответ на это Рожественский отправил по беспроволочному телеграфу во Владивосток официальное заявление, в котором сообщалось, что в такой ситуации русский Тихоокеанский флот считает себя вправе также топить все корабли, которые находятся в Японских водах и портах, без различия национальности. Кроме того, будут приняты самые активные меры по предотвращению подвоза снабжения из Европы и Индокитая для японских армий, ведущих боевые действия в Маньчжурии.
Депеша ушла открытым текстом, так что ее приняли не только во Владивостоке. Но для большей ясности заявление в тот же день огласили на специально созванной пресс-конференции, на которую были приглашены все пребывавшие во Владивостоке журналисты, число которых менее чем за месяц увеличилось в разы.
Новость сразу напечатали в нескольких дальневосточных газетах с сопроводительными комментариями. Причем тон этих комментариев колебался от одобряющего, исходившего со страниц «Чифу Дейли Ньюз», до резко осуждающего в англоязычной прессе. Немецкие и французские газеты ограничились лишь дословной перепечаткой с краткими нейтральными пояснениями.
В дальнейшем оба заявления были многократно перепечатаны многими серьезными изданиями и моментально дошли до Европы, вызвав массу споров и протестов. Из Петербурга во Владивосток пришло немало гневных депеш и нот от английского, американского и некоторых других правительств, переданных российскому МИДу. От Рожественского требовали предоставить немедленные разъяснения для «Певческого моста»[3], которые помогли бы сгладить негативную реакцию ведущих держав.
В ответ в столицу ушло уведомление, что наместник императора на Дальнем Востоке отбыл по делам на Цусиму, а поскольку телеграфного сообщения с этим островом пока нет, любые разъяснения нашей позиции по этому вопросу несколько задерживаются. Кроме него никто во Владивостоке комментировать это не вправе.
Несмотря на грозный и решительный текст русского и японского заявлений, фактически подтвердить их было нечем. Японцы ремонтировались в Мозампо, перегнав туда еще две свои плавмастерские. В море выходили только старички «Нанива» с «Такачихо», вспомогательные крейсера да «Цусима» с «Акаси». К их сопровождению привлекался первый отряд истребителей, не участвовавший в последнем бою, но потерявший по техническим причинам один корабль из своего состава, вставший к стенке порта для переборки главных механизмов.
Самой заметной их операцией стал набег на Владивосток и залив Посьет 30 июня. Но эта акция, наделавшая много шума, не имела результата с военной точки зрения. Пострадали лишь жилые кварталы города и поста Посьет. Ни порту, ни мастерским никакого урона нанесено не было. Из-за неустойчивой радиосвязи о ней на Цусиме стало известно уже много позже.
Русские тоже пока вынужденно не проявляли большой активности, ограничившись продолжающимися действиями крейсеров. Но время работало против нас. После зачистки Цусима-зунда и занятия удобных для обороны позиций на обоих Цусимских островах перед Тихоокеанским флотом остро встала проблема обеспечения гарнизона новых земель продовольствием и топливом. А после потери части грузов на погибших пароходах список потребностей еще больше расширился, а сроки на решение этого вопроса наоборот сократились.
Оба новейших броненосца получили достаточно серьезные повреждения в бою у Цусима-зунда и нуждались в заводском ремонте, поэтому ни о каком длительном океанском плавании речи пока быть не могло. Между тем ситуация диктовала необходимость, в первую очередь, защищать новые, протяженные и чрезвычайно уязвимые коммуникации между Приморьем и Цусимой. Срочная проводка конвоя под носом у противника представлялась делом весьма непростым и очень рискованным, неизбежно грозящим столкновением с основными японскими силами и крайне нежелательным новым большим сражением. Найти выход из этого противоречия между стратегией и тактикой никак не удавалось.
Тактическая пауза явно затягивалась, хотя все в штабе Рожественского понимали, что тянуть нельзя. Стоявшая в Озаки эскадра и суда сопровождения ежедневно расходовали только угля около семисот тонн, не считая прочих статей довольствия. Планировавшееся изначально дальнейшее использование бронепалубных крейсеров, базирующихся на Цусиму, на судоходных путях между Японией и Кореей неожиданно оказалось недостаточно действенным средством.
У разведки появились сведения, что японцам удалось скрытно протащить к Чемульпо армейский конвой под охраной крейсеров «Нанива», «Такачихо» и старых кораблей седьмого боевого отряда контр-адмирала Ямада. Хотя эти транспорты были каплей в сравнении с потребностями армий маршала Оямы, проводка конвоя показала возможность снабжения войск на континенте через корейские порты даже под носом у всего русского флота.
Имелись достоверные сведения, что в Симоносеки, Модзи, Сасебо и Нагасаки стоят в ожидании отправки десятки судов с грузами для войск на материке. Причем их число быстро растет, так как все неохраняемые перевозки пока приостановлены специальным распоряжением морского министра, а грузы продолжают прибывать как из Европы и Америки, так и из японских портов тихоокеанского побережья и внутреннего моря.
Из Гонконга и Шанхая поступили известия о возможном открытии в ближайшее время новых кредитов для Токио английскими и американскими банками, что позволит японцам скупать уже не грузы, а целиком груженые пароходы. Предполагается вести их часть пути из Европы под английским флагом и под управлением английских команд, а на заключительном отрезке маршрута даже под эскортом английских крейсеров.
При этом конечным пунктом маршрута по бумагам должен был быть Вей-Ха-Вей. От него до Дальнего буквально рукой подать, так что этим пароходам совершенно ничего не стоит просто свернуть не туда. Суда планировалось передавать под управление японского экипажа уже в порту разгрузки.
При успешной реализации противником этой схемы снабжения перехватить их будет невозможно, а вероятность вызвать международный скандал в случае такой попытки будет невероятно высокой. Предотвратить подобное развитие ситуации могли только дипломаты, но они явно не хотели ввязываться в баталии с джентельменами.
В то же время базирование на Цусиму крупных кораблей было связано с серьезным риском из-за постоянных набегов японских миноносцев, шхун и паровых катеров, начавших активно ставить мины по ночам. Прикрывавшие их миноносцы и истребители всегда уходили от прямого боя, но не упускали случая напасть исподтишка. Опыт подобного противостояния после Порт-Артура у японцев был весьма богатый.
Ожидавшегося всеми аналитиками штаба Тихоокеанского флота оставления противником своих баз на юге Кореи с захватом нами Цусимы так и не последовало. Несмотря на фактический обрыв их коммуникаций, японцы и не думали уходить, наоборот, начав укрепляться там по-настоящему, подтягивая войска. Даже свои поврежденные крейсера они не увели в Сасебо или еще куда-то, начав ремонтировать их прямо под носом у засевшего в Озаки всего русского флота с его миноносцами и подводными лодками. Даже демонстративные и неожиданно результативные действия подводников, на которые особенно рассчитывал Рожественский, не дали желаемого результата.
Впрочем, результат все же был. Крупные японские корабли возле Цусимы не появлялись. Отмечались проходы на большой скорости бронепалубных крейсеров и отрядов миноносцев и истребителей в зоне видимости с береговых постов или аэростатов, но в общем и целом активные действия в светлое время суток велись только малоценными боевыми единицами и на приличном расстоянии, что заметно облегчало положение русских.
В условиях полной пассивности противника, ограничившегося ночными вылазками легких сил, пострадавшие в артиллерийском бою большие корабли Тихоокеанского флота России исправляли повреждения в более-менее спокойной обстановке, находясь на рейде Озаки, а для производства сложных работ переходя в Такесики.
Поскольку возведение главных береговых укреплений в ключевых точках обороны Цусимских островов было почти закончено, а строительство противодесантных позиций и дальнейшее совершенствование главных фортификаций могло продолжаться и после ухода флота, было решено все же увести эскадру во Владивосток. Там было гораздо больше возможностей для полноценного ремонта и обеспечения всем необходимым.
Крейсера планировалось также отзывать из рейда уже в ближайшее время. Их базирование на Цусиму с уходом флота становилось слишком рискованным, а действия на торговых путях с опорой на временную угольную станцию на островах Рюкю были бы явно недостаточно эффективными. К тому же оккупация рейда Наха в любом случае скоро перестанет быть тайной.
Тогда пункт снабжения придется делать «кочующим», к тому же постоянно охраняемым, что еще более снизит эффективность действий крейсеров и надежность их обеспечения припасами. Исходя из этих предпосылок, планировалось, что они пойдут с флотом, чтобы прикрывать отход поврежденных кораблей, а затем защищать наши новые растянутые коммуникации вдоль корейских берегов. Иного выхода, кроме глухой обороны и крейсерской войны непосредственно из Владивостока, казалось, не было.
Предстоящий переход, затем довольно длительный ремонт, формирование конвоя – все это займет массу времени и даст возможность японцам опомниться и очень хорошо приготовиться. А все наши дальнейшие действия легко предсказуемы. Нужно будет вести конвой на Цусиму. Вести снова с боем и новыми потерями! При таком раскладе, без гарантии успешной доставки снабжения, флот быстро и гарантированно должен был потерять боеспособность. Возможно, уже окончательно.
В этой ситуации штаб командующего искал варианты развития достигнутого успеха. Решено было, воспользовавшись захватом рейда Наха, максимально активно развернуть крейсерскую войну в Тихом океане, как это планировалось изначально. Имевшие теперь недобор топлива «Днепр» и «Терек» отправили в глубокий рейд к восточному побережью Японии с промежуточной бункеровкой на Окинаве, где обосновался Добротворский со своими крейсерами и трофеями. Но этого было явно недостаточно, чтобы заставить микадо начать мирные переговоры. К тому же это никак не влияло на обстановку вокруг Цусимы.
Когда на «Орле» получили телеграмму о трофейных картах, совершенно неожиданно для всех оказалась вполне исполнима одна из чисто теоретических проработок походного штаба. Рожественский тут же распорядился организовать доставку документов на Цусиму и созвал срочное совещание командиров и флагманов. Он предложил более детально проработать возможные варианты форсирования Симоносекского пролива и последующей атаки Осакского залива, исходя из предположения, что нам теперь будет известен весь фарватер, примерное расположение фортов крепости Бакан и проходы между возможными минными полями.
Это мероприятие, при его успешной реализации, позволит, не теряя темпа общего наступления, решить проблемы со снабжением Цусимы, избежав нежелательного генерального сражения. Но для достижения успеха предполагаемую операцию против Симоносеки и Осакского залива нужно было провести в ближайшее время. Иначе будет потерян эффект внезапности, и японцы могут исправить свои ошибки, допущенные ранее. Особенно в части береговой обороны.
Атака портов Симоносекского пролива и его форсирование крупными силами, с последующими активными действиями у японского тихоокеанского побережья неминуемо отвлекут весь боеспособный флот противника на восток. При этом, в случае успешного прорыва, у расского флота будет большая фора по времени, так как узкий и извилистый пролив с мелководным фарватером можно достаточно быстро и надежно блокировать, что вынудит преследователей терять время на его расчистку или путь в обход. В данном случае в обход значило обогнуть остров Кюсю с юга, на что потребовалось бы не менее суток. За это время эскадра будет уже далеко.
Серьезной схватки с береговыми батареями в случае форсирования пролива никак не избежать, но скопившиеся в нем многочисленные войсковые транспорты явно достойны того, чтобы к ним прорваться с боем. По этому поводу Рожественский даже пошутил, сказав, что, ловя пароходы оптом, прямо в портах, угля спалим в разы меньше, чем гоняясь за ними по морю, перехватывая поштучно.
В то же время, уже пройдя пролив, открывалось направление на Осакский залив, с достаточным запасом времени. А после атаки Кобе и Осаки имелись два варианта отхода: либо на юг вокруг острова Кюсю обратно на Цусиму с последующим отступлением всеми силами во Владивосток, либо на север с прорывом через пролив Цугару и дальнейшим прорывом во Владивосток или форсированием проливов Курильских островов с последующим прорывом через пролив Лаперуза. По заверениям инженерного корпуса эскадры, кратковременный океанский переход все корабли, даже поврежденные броненосцы, гарантированно выдержат.
В обоих вариантах все японские силы с большой долей вероятности будут оттянуты далеко от Цусимы, так как игнорировать такой удар противник явно не сможет без катастрофического ущерба для престижа страны. Воспользовавшись этим, можно будет провести на острова несколько судов с войсками, продовольствием и боеприпасами из Владивостока или Гензана под прикрытием отряда Энквиста и наших легких сил, остающихся в Озаки и Такесики.
Теоретически штурм Симоносекского пролива, или пролива Коммон, как его называли японцы, был теперь вполне выполним, но при обязательном условии непротиводействия главных сил японского флота в первой стадии операции, по крайней мере до начала атаки Симоносекского порта. Крепость Бакан, по докладам разведки, не имела современных орудий, а ставить мины в активно используемом проливе с сильными переменными приливными и прочими течениями никто не решится. Хотя даже в этом случае при форсировании узкого фарватера, прикрытого фортами с тяжелыми батареями, без потерь не обойдется.
Но риск все же признавался приемлемым. Для сдерживания противника на начальном этапе должна быть проведена предварительная показательная атака подводными лодками основных фарватеров у Фузана и Мозампо. К тому же вражеский флот теперь был все время у нас на виду, так что считалось, что сюрпризы, подобные тому, что был у Цусима-зунда, исключались.
Помимо военной целесообразности этой операции существовал еще и гораздо более важный ее политический аспект. Разгром крупнейших и, несомненно, очень хорошо охраняемых японских портов Симоносеки, Модзи и промышленного района Кобе – Осака должен будет серьезно подорвать престиж Страны восходящего солнца на мировой арене и ослабить японскую экономику, заодно показав всему миру, кто в японских водах хозяин. А это уже, вполне возможно, заставит микадо искать мира.
Правда, при формировании экспедиционного корпуса для действий в Тихом океане неизбежно придется ослабить гарнизон Цусимских островов, так как больше флоту войск взять просто негде. Это, по мнению Рожественского, можно будет компенсировать дальнейшим повышением огневой мощи береговой обороны путем насыщения наиболее угрожаемых позиций скорострельной артиллерией. Либо прикрыть побережье полевыми гаубицами и устаревшими тяжелыми и шестидюймовыми мортирами, снятыми с владивостокских фортов и развернутыми на закрытых со стороны моря позициях, позволяющих простреливать прибрежные воды на десантоопасных участках навесным огнем. Всю дополнительную артиллерию планировалось доставить с конвоем.
Войска, изъятые из обороны Цусимских островов, в случае их невозврата обратно, впоследствии должны были быть быстро замещены прибывающими из европейской части страны пополнениями. Причем обязательно регулярными, хорошо обученными, полностью боеспособными и укомплектованными частями.
В окончательном варианте операции Тихоокеанский экспедиционный корпус Российского Тихоокеанского флота, комплектуемый войсками цусимского гарнизона, должен был состоять из флотского добровольческого батальона, бравшего Такесики, и тридцать второго полка восьмой восточно-сибирской дивизии. Этот полк в полном составе прошел ускоренный курс подготовки к высадке на необорудованный берег еще под Владивостоком и поэтому считался наиболее подходящим для предстоящего дела.
Для усиления им придавался батальон добровольцев из экипажей транспортов «Изумруда» и «Владимира Мономаха», с тремя десантными пушками и шестью пулеметами, снятыми с этих крейсеров. Кроме того, десанту передавались все имевшиеся на Цусиме легкие горные орудия калибра 64 миллиметра и большая часть боекомплектов к ним. Предполагалось также широкое использование десантных рот со всех кораблей.
Десантные части и их снабжение начали спешно собирать в Озаки, чтобы затем быстро загрузить на отзываемый из так и не начавшегося рейда в Тихий океан «Терек», как только он придет с Окинавы. Несмотря на огромные размеры коммерческого крейсера, всем войскам на нем будет явно тесно, поэтому «Уралу» было приказано, не дожидаясь его прихода, начать принимать на борт пехоту и пушки. При этом обязательным условием было сохранение возможности использования воздухоплавательного парка в полную силу.
Предполагаемая теснота в палубах пароходов-крейсеров была вынужденной и временной мерой. В дальнейшем часть пехоты и все отряды, комплектуемые личным составом флота со своей артиллерией, должны были при первой же возможности перейти на вспомогательный крейсер «Днепр», когда тот присоединится к эскадре после выполнения уже приготовленного штабом для него специального задания.
К моменту, когда «Днепр» доставил карты и прочие трофейные бумаги с Окинавы, совещание шло уже вторые сутки. За это время были в общих чертах подготовлены боевые приказы для Добротворского, вспомогательных крейсеров и пароходов-угольщиков. Потратив около часа на изучение карт, проверку их по уже имевшимся сведениям от агентов, пленных и полученных от подводников и на окончательную доработку плана операции, в конце концов, утвердили один из предварительно проработанных вариантов. Командиру крейсера-гонца вручили секретные пакеты и отправили обратно.
Одновременно на Окинаву по беспроволочному телеграфу передали приказ бронепалубникам готовиться к выходу на соединение с флотом и не пользоваться радио, чтобы не выдать место стоянки, а во Владивосток приказ срочно готовить конвой из быстроходных судов с грузами для цусимского гарнизона. Также было приказано начать разоружать форты на острове Русском, свозя пушки с них в порт. Но поскольку в шифрованной телеграмме, да еще и по беспроволочному телеграфу, все сообщить было просто не реально, в главную базу также пришлось снарядить гонца.
На следующий день, уже в вечерних сумерках, на закончившем разгрузку пароходе «Иртыш» во Владивосток отправили офицера связи со срочными распоряжениями для коменданта крепости, а также с телеграммами, в том числе императору.
Воспользовавшись штормовой погодой, большой трансокеанский пароход легко прорвал блокаду и вышел в чистые от противника воды севернее Цусимы. Из соображений скрытности перехода скалы Лианкур и остров Дажелет он обошел восточнее и, держа на протяжении всего перехода максимальный ход, благополучно достиг Владивостока, доставив секретную корреспонденцию.
Там его уже ждали. Начальник владивостокского порта контр-адмирал Греве немедленно отдал все необходимые распоряжения о погрузке судов и формировании конвоя, а комендант крепости генерал-лейтенант Казбек распорядился начать отгрузку старых пушек и их артиллерийских парков. Хотя сам и не мог точно представить, зачем флоту могли понадобиться в срочном порядке гвардейские полки из столицы, тяжелые осадные и гаубичные батареи и завалявшиеся на складах, давно списанные горные пушки Барановского.
Единственное, что полностью соответствовало, в его понимании, потребностям флота на далеких Цусимских островах – это запрос на все имевшиеся в наличии стодвадцатипудовые шестидюймовые осадные орудия, ограниченно пригодные для береговой обороны, а также на большой запас снарядов к ним и всем другим пушкам, уже имевшимся на Цусиме. Соответствующий список прилагался, но те цифры, что там были указаны, перекрывали все мыслимые расходы артиллерийских припасов в пять, а то и в восемь раз.
Генерал-лейтенант Казбек имел достаточно четкое представление о нормах отпуска снарядов на полевые и крепостные батареи, поэтому счел, что столь серьезный запас потребовался, вероятно, потому, что все, что уже было отправлено с флотом, ушло на дно вместе с потопленными японцами пароходами. И теперь голодная пехота сидит там с пушками, но без снарядов. А поскольку ни о какой встрече отправляемых в сопровождении всего одного старого крейсера и двух номерных миноносцев судов отрядами Небогатова, Йессена или Рожественского ни в полученном по радио сообщении, ни в доставленных пароходом бумагах не было ни слова, решил, что дела у флота совсем плохи.
Но только что полученный письменный приказ наместника, подтверждавший полученное ранее по радио распоряжение о разоружении фортов, изрядно нервировал коменданта, считавшего, что всей сухопутной обороной крепости командует только он. Снимать пушки с готовых капитальных оборонительных позиций казалось ему чрезмерным. Особенно теперь, когда флотские, судя по всему, «сели в лужу». С этим злополучным приказом он отправился к вице-адмиралу Бирилеву.
Но тот не нашел никакой крамолы в перевозке пушек с тыловых позиций обороны, каковыми теперь считались старые форты острова Русский, на Цусиму. Для успокоения генерала он посоветовал отправить в столицу запрос на новые пушки взамен отдаваемых флоту, добавив, что такого старья уже не пришлют, так что крепость окажется только в выигрыше.
Более комендант не решился оспаривать распоряжения удачливого наместника императора, и, поскольку в телеграмме, а потом и в письменном приказе с Цусимы указывались конкретные, весьма сжатые сроки проведения работ по демонтажу устаревших мортир, который он до сих пор всячески откладывал, немедленно отдал необходимые распоряжения. А вечером даже поехал лично проконтролировать начало их исполнения.
Несмотря на то что о содержании штабной почты с Цусимы знал довольно узкий круг лиц из штаба крепости и флота, а своими впечатлениями о прочитанном комендант вообще ни с кем не делился, слухи о критическом положении предпринятой наместником южной экспедиции распространились по городу невероятно быстро. После возвращения в свой кабинет генерал-лейтенанта Казбека начали донимать журналисты, задававшие подозрительно заковыристые вопросы. Звонил комфлота Бирилев, также страдавший от чрезмерного внимания прессы и весьма неприятно удивленный ее информированностью.
Об истинных масштабах этих слухов стало известно уже к ночи, когда начальник разведывательного отдела штаба Тихоокеанского флота капитан второго ранга Русин положил на стол коменданта депешу одного из многих расквартированных в городе иностранных корреспондентов, взятую с телеграфа. Правда, уже после отправки ее адресату. Поскольку постоянного дежурства офицеров разведки на телеграфе еще не было, о ней стало известно только из ежедневного отчета, предоставляемого служащими.
Некий Бруно Аткинсон передавал в редакцию своей газеты в Шанхае сильно видоизмененный список загружаемых на транспорты материалов и в несколько раз увеличенное количество отправляемых именно на Цусиму судов. А также сведения о якобы имевших место случаях отказа капитанов пароходов следовать на Цусиму без охранения и требованиях получить расчет немедленно.
Объяснить столь быстрое получение, хотя и искаженной, информации о формируемом караване именно на Цусиму каким-то писакой генерал-лейтенант Казбек не смог. С его слов был быстро составлен список всех, ознакомленных с последними телеграммами и приказами, после чего Русин удалился.
* * *
Согласно полученному с возвращением «Днепра» боевому приказу окинавские угольщики должны были отправить один пароход в Сайгон с депешами для князя Ливена, а остальные покинуть рейд Наха сразу, как закончат бункеровку пароходов-крейсеров. После чего следовать в район ожидания севернее островов Бородино, где ждать дальнейших инструкций до 15 июля. Если за это время новых распоряжений не будет, следовать в Сайгон. Всем призам, кроме «Малазиен», приказывалось отправляться во Владивосток в обход Японии в общем строю немедленно по готовности выйти в море, а французу – держаться вместе с угольщиками. На не задействованные в бункеровке пароходы возлагалось несение дозорной службы.
Большие вспомогательные крейсера, по плану операции, предполагалось использовать как быстроходные войсковые транспорты, а не эскадренные угольщики. В связи с этим «Тереку» было приказано прервать бункеровку и срочно возвращаться на Цусиму для погрузки войск, а «Днепр» должен был догрузиться углем до полных ям, не заваливая эмигрантские палубы, и следовать к проливу Бунго, где предполагалось встретиться с флотом. На переходе ему следовало вести поиск возможных пароходов-контрабандистов и японских судов, следующих на материк вокруг Кюсю.
Крейсера первого ранга в полном составе задействовались в атаке портов пролива Симоносеки. Но никакого предварительного сосредоточения сил не планировалось. Они должны были присоединиться к эскадре уже на заключительном этапе броска к проливу, пройдя ночью вдоль западного берега Готских островов и обойдя остров Икисима с юга. Попутно предполагалось атаковать прибрежные японские коммуникации от Симоносеки к Сасебо и Нагасаки.
Это – вместе с захватом Окинавы, о чем противнику уже, возможно, известно, и с действиями «Днепра» – должно было создать у японцев впечатление отвлекающих маневров юго-восточнее Цусимского пролива, в Тихом океане и южнее Кюсю, в то время как с Цусимы на север будет прорываться сильно охраняемый конвой пустых транспортов. Это, в свою очередь, отвлечет блокадные силы, дежурившие по ночам вблизи Цусимы, от направления на Симоносеки. Начало операции назначили на третье июля. Но тут коррективы внесла погода.
Юго-восточный ветер продолжал усиливаться и к рассвету 30 июня развел приличную волну. Усилились дождевые шквалы. В бухте Наха на западном берегу Окинавы, прикрытой от ветра островом, волнения не было, так что погрузка угля шла полным ходом. Когда «Днепр» прибыл на рейд, крейсера первого ранга уже развели пары и были готовы к выходу в море. Получив пакет с боевым приказом, Добротворский созвал на совещание командиров всех крейсеров и пароходов.
Совещание продлилось более двух часов, после чего крейсера двинулись к Цусимскому проливу. Бронепалубники шли экономическим ходом. «Терек» ушел еще накануне, после получения по радио приказа из Озаки о его срочной отправке. Он грузился первым и успел не только принять полный запас в угольные ямы, но и частично завалить другие, приспособленные под топливо помещения.
Шторм продолжал набирать силу. Уже после обеда Добротворский решил отправить на Цусиму запрос о подтверждении точек рандеву, в условиях испортившейся погоды. Но ответа не было. Так шли в штормовом море до вечера, когда станция «Олега» сквозь фон помех начала принимать невнятные обрывки телеграмм. Вскоре в этих телеграммах, повторявшихся каждые полчаса, удавалось разобрать уже по нескольку слов. Передававшая депеши станция была аналогична тем, что устанавливались на русском флоте.
Незадолго до полуночи смогли наконец сложить весь текст депеши. В ней говорилось, что из-за шторма начало операции переносится на два-три дня. Добротворскому приказано возвращаться на Окинаву и бункероваться там, ожидая дальнейших инструкций. С «Олега» отправили квитанцию о получении, сообщив также, что «Терек» должен был достичь Цусимы еще к утру этого дня, и начали разворачивать отряд на обратный курс. Вскоре с Цусимы пришел условный сигнал, что депеша получена, и радиопозывной «Терека». Это означало, что он на месте.
После прихода «Терека» в Озаки на него сразу начали свозить войска, но тут выяснилось, что часть эмигрантских палуб занята углем. Его уже перегружали в несколько освободившихся после перехода угольных ям, но весь «излишек» там явно не мог поместиться. Получалось, что в таком состоянии он сможет принять лишь чуть более батальона пехоты с тяжелым вооружением, то есть менее половины назначенных на него войск.
Поскольку погода окончательно испортилась, начало операции перенесли на несколько дней, что дало возможность выгрузить лишний уголь на береговой склад. Внеплановые работы растянулись больше чем на двое суток, после чего в авральном порядке снова принимали войска и вооружение.
Пехоте предстоял новый «круиз» в тесноте и с минимальным комфортом, но теперь еще и в грязи. Вычищать угольную крошку и пыль, оставшуюся в нижних палубах, начали только выйдя в море. Раньше для этого просто не было времени. В этом, без особого принуждения со стороны команды, активно участвовали все «пассажиры», что несколько отвлекло их от собственных ощущений. Хотя отголоски стихшего шторма еще слегка раскачивали огромный корпус крейсера, с непривычки вызывая неприятные спазмы желудков и слабость в ногах, болтаться на волнах среди разъедающей легкие и кожу угольной пыли никому не хотелось.
Крейсерам после разворота идти на юг было труднее, так как приходилось бороться с тяжелой встречной волной. Лишь к обеду первого июля достигли наконец острова Ихейя, лежащего в двадцати милях севернее Окинавы, и укрылись от шторма под его северо-западным берегом. Дав отдых экипажам до рассвета следующего дня и исправив некоторые штормовые повреждения, двинулись к Наха, куда прибыли к половине первого часа пополудни, тут же встав на бункеровку.
Пароходы и призы, к счастью, пережидали непогоду в бухте, так что никого догонять не пришлось. Признаков явного беспокойства со стороны противника пока также отмечено не было. Никаких подозрительных судов не появлялось. Шторм заметно слабел, но дождь по-прежнему лил стеной. В таких условиях, учитывая достаточно долгое пребывание на вражеской территории, можно было в любой момент ожидать появления противника, причем крупными силами.
Добротворский приказал, по возможности, держать артиллерию в готовности к бою. Поскольку видимость была отвратительной, все дальние наблюдательные посты и их линии связи снимались, заменяясь не занятыми в работах пароходами, курсировавшими севернее и западнее бухты, чтобы иметь возможность всем отрядом и конвоем моментально покинуть стоянку в случае возникновения угрозы. Кроме того, он распорядился иметь под парами не менее четверти котлов на каждом из крейсеров, на всякий случай, невзирая на запредельную усталость машинных команд.
«Ливония», избавившаяся от груза и всплывшая много выше грузовой ватерлинии, уже привела себя в порядок и держалась северо-западнее, у входа на рейд, готовясь отправиться в Сайгон. На нее возложили обязанности брандвахты, усилив сигнальные вахты матросами с остальных пароходов. Крейсера встали к бортам «Китая» и «Олафа», принимая воду для котлов и бытовых нужд и машинное масло с швартовавшегося к ним поочередно «Метеора».
Все свободные от вахты в кочегарках и у пушек назначались на ремонтные работы, но их вскоре пришлось свернуть. Люди слишком устали. Командам дали десять часов отдыха, сократив вахты до двух часов. В это время малайцы из Сайгона начали восполнение потраченного топлива и прочих расходных материалов.
Для ускорения процесса к работам решили привлечь и филиппинцев, размещенных на «Ливонии». Но те потребовали оплатить свои услуги, так как считали, что дорогу домой уже отработали. Расходовать скудный бюджет судовых касс Добротворский запретил, поэтому с ними договорились о расчете выменянным у местных рисом и рыбой. Это всех устроило, и вскоре они также участвовали в угольном аврале и приемке провизии. К рассвету третьего июля ямы и кладовые были вновь полны, но приборку еще не начинали. Доверить это дело грузчикам никто не решился.
Едва закончилась приемка припасов, с «Ливонии» передали фонарем, что видят быстро приближающийся большой пароход на северных румбах. Он был заметно крупнее патрулировавшего в этом секторе «Оскара», прозевавшего его и подавшего условный сигнал прожектором уже после того, как нарушителя спокойствия обнаружили с внешнего рейда. Почти сразу после этого из мутной рассветной дождевой пелены на северо-востоке проявился силуэт быстро приближавшегося большого судна с двумя близко расположенными трубами и двумя мачтами.
Он направлялся к входу в бухту, явно зная фарватер. На всех бронепалубниках немедленно сыграли боевую тревогу, начав срывать парусиновые чехлы с орудий и наводя их на незнакомца. Рубили швартовы и давали ход, пытаясь перехватить внезапно появившееся судно до того, как оно станет удирать. Началась всеобщая суматоха и свалка.
Однако довольно быстро все прояснилось. С парохода передали фонарем позывные «Кореи» и запросили место для стоянки рядом с «Малазиен», сообщив, что имеют важный пакет для начальника отряда. Еще даже не ошвартовавшись к борту француза, с «Кореи» спустили шлюпку, тут же двинувшуюся к «Олегу», вставшему на якорь неподалеку.
* * *
Учитывая неудовлетворительные условия работы радиосвязи, что могло серьезно повлиять на организацию атаки в самом начале и привести к непредсказуемым последствиям в дальнейшем, было решено продублировать доставку всех распоряжений старым проверенным способом. Необходимость этого вполне подтвердилась при первом боевом развертывании всех разбросанных по морям отрядов. Для избежания «накладок» Рожественский выслал на Окинаву транспорт «Корея», как связной пароход с дополнительными инструкциями и приказом бронепалубным крейсерам быть в условленной точке готовыми к атаке пятого июля к шести часам утра.
Попутно на нем отправили сводный, а точнее надерганный почти повзводно, батальон из состава 32-го полка с легким вооружением для последующей пересадки на «Днепр» (все, что успели найти в Озаки до выхода в море). В сплошной суматохе тех дней, сопровождавшейся неизбежным бардаком с документацией и снабжением, погрузка войск была проведена в авральном порядке без уведомления армейского командования еще только формирующегося экспедиционного корпуса. Это заметно смягчило вопрос перенаселения жилых палуб на остальных пароходах-крейсерах, позволив разместить там запланированное число штыков, но зато перемешало войска, нарушив их организацию и вызвав заметные трудности при последующей высадке.
На обратном пути «Корея» должен был доставить жизненно необходимые трофейные тяжелые полевые пушки и моторные катера, а также машинное масло, керосин, бензин из недр наливного транспорта «Метеор» на осажденную Цусиму. Изрядный запас своих и трофейных бочек подо все это имелся на борту. Считалось, что после перенесения активных боевых действий на другую сторону Японских островов плавание в районе Цусимы будет сравнительно безопасным, и большой пароход сможет прорваться обратно в Озаки без эскорта.
Как только Добротворский получил пакет, он снова созвал совещание. Тем временем на всех крейсерах его отряда продолжалась подготовка к походу. Окончательно исправляли штормовые повреждения, смывали угольную пыль и грязь. Экипаж «Кореи», не теряя времени, приступил к перегрузке крупповских гаубиц и боеприпасов, доставляемых обратными рейсами шлюпок и собранных из них грузовых плотиков, отвозивших пехоту с ее имуществом на «Днепр». Трофейные катера перевели на буксире, так как не удалось запустить их двигатели. Не нашлось специалистов, хотя топлива было в избытке.
Спустя два часа «Днепр» уже вышел в море. Почти сразу после него «Олег», Богатырь», «Аврора» и «Светлана» также покинули рейд Наха. Отсалютовав флагами своим угольщикам и трофеям, они встали в колонну с «Олегом» во главе и двинулись на север. Приказ командующего был доведен до всех командиров и старших офицеров крейсеров и совместными усилиями доработан, исходя из фактической обстановки в отряде. Считалось, что все учтено и все готовы, однако вскоре начались неприятности, вынудившие крейсера разделиться.
1
Из-за своего географического положения Цусима всегда привлекала европейцев. В 1855 г. английское судно «Сарацин» произвело гидрографическую съемку островов Цусима. Японский историк Синтаро Накамура в книге «Японцы и русские» писал: «Английский консул в Хакодате в „Памятной записке” сообщил: „Для нас срочной необходимостью является захват Цусимы и превращение ее в остров Перим”» (английская военно-морская база на юге Красного моря). В это время Россия тоже активно продвигалась на восток. И эти планы ее весьма беспокоили, поскольку обладание Цусимой англичанами могло серьезно осложнить морское сообщение с еще не освоенными дальневосточными землями. А нормальной дороги по суше туда тогда не было. Исходя из этих соображений, в начале 1861 г. на Цусиму был отправлен корвет «Посадник» под командованием капитана первого ранга Бирилева. Прибыв в Озаки, Бирилев обратился к местным властям с просьбой о предоставлении подходящей бухты для ремонта. Было необходимо заменить фок-мачту и осмотреть и починить руль и дейдвудную трубу. Русские и японцы обменялись дарами. Японцы подарили одно то (около 18 литров) саке и двадцать кур, а русские – ружье, бинокль и европейское вино. Вскоре был озвучен и вопрос о возможной аренде части территории для основания морской станции. Но русский корабль пришел на Цусиму уже после англичан. В 1859 г., после «Сарацина», корабль «Уорд» вошел в бухту Имосаки, где его командир потребовал от властей открыть порты для английских судов. Произошли стычки с местным населением, закончившиеся гибелью нескольких чиновников и селян, несколько человек были ранены. После чего англичане, пополнив запасы, ушли. Возможно, по этой причине, когда «Посадник» перешел из Озаки в Имосаки, местное население пыталось препятствовать высадке. При произошедшем столкновении погиб один из крестьян, а еще двое были взяты в плен. В ходе дальнейшего пребывания русских на Цусиме в течение нескольких месяцев конфликтов не было. Вместе с русскими работали японские плотники. Японцы сами показывали лучшие деревья для валки, помогали во всех работах. Их учили пользоваться более совершенным и мощным, чем у них, кузнечным и другим инструментом, а также современным оружием и подарили несколько пушек из вооружения гребных судов. Но под давлением Англии и Франции русские с Цусимы ушли, оставив в бухте Имосаки кузню со всем оборудованием, начатую пристань в 20 футов шириной и другие постройки, а также склады заготовленного леса. Представители правящего на Цусиме клана Со обещали сохранить это все в целости. После ухода русских и англичане отказались от планов на Цусимские острова. Эти события детально описывает историк Накамура в книге «Японцы и русские», в отличие от многих современных трактовок цусимского инцидента в интернете, не упуская из вида «некоторых маленьких деталей». А что касается методов, то именно так тогда и расширялись империи. Только русские, в отличие от европейцев, не изобретали концлагерей для резкого сокращения численности воинственного местного населения и принимали в своей столице японские делегации не как представителей полуколониальной страны.
2
Адмирал Бирилев в реальной истории всемерно способствовал Рожественскому в подготовке к плаванию второй эскадры и вообще проявлял к нему заметную благосклонность.
3
Иносказательное название Министерства иностранных дел России до 1917 г., так как здание МИДа находилось в Санкт-Петербурге у Певческого моста.