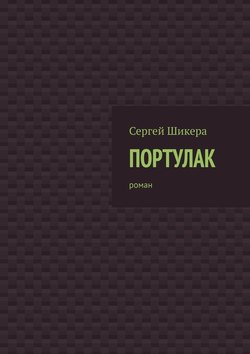Читать книгу Портулак. Роман - Сергей Шикера - Страница 10
Часть первая
IX
ОглавлениеНо вернемся к Витюше Ткачу. Несмотря на то, что его слова об «очищении» и перекликались с призывами Цвиркуна хорошенько почистить город, на собраниях у последнего он ни разу замечен не был (хотя с Глебом Глебовым его уже видели), и источник его воззрений находился явно где-то в другом месте.
Решив, что откладывать дальше некуда, Чернецкий тем же вечером, после нашего тревожного обмена мнениями, отправился к его сестре за брынзой. (А брынзу она, надо сказать, делала отменную. Такая, знаете, на вид совсем невзрачная, сероватого и даже как будто землистого оттенка, к тому же плотная и тяжелая, как глина, но с удивительно богатым вкусом и еле заметной приятной горчинкой. С нашими степными величиной с ладонь помидорами в грубых трещинах от напора сладкой мякоти да с домашним прохладным вином – чудо как хороша!) Когда мы дошли до перекрестка, я и себе заказал кружок овечьей, после чего мы с Чернецким попрощались.
Всё детство Витюша провел в интернате, но сразу же после смерти матери был забран оттуда старшей сестрой. Выучив и поставив брата на ноги, она до сих пор занималась всеми его делами. Работал он на тяжелых строительных работах, и сестра сама встречалась и договаривалась с работодателями.
Чернецкий проговорил с Людмилой Ткач около часа в летней кухне. Девица простодушная, но не глупая, она и сама стала замечать за братом некоторые странности поверх тех, что за ним водились. И без того нелюдимый, он замкнулся еще сильнее. Не так давно решительно отобрал у сестры топор и впервые сам отрубил курице голову. А еще ей показалось, что он стал выпивать, если не что похуже. Последнее Людмилу беспокоило больше всего – она опасалась, что брат попадет к Цвиркуну. Эти изменения начались месяца два назад, сразу после того как у них переночевал некий актер одесского театра, приезжавшего к нам на день города. Заплутавшего гастролера (отбившиеся от коллективов артисты были, видимо, бедой того лета) Витюша подобрал где-то на окраине во время сильной грозы. Небольшого роста, бойкий, со свисающей на глаз длинной прядью – больше ничего о нем Людмила сказать не могла. Имя: Игорь. То, что актер, поняла, услышав утром разговор по телефону, – тот собирался встретиться с кем-то в Одессе сразу после того, как «отыграет спектакль». Витюша проговорил с ним всю ночь и выходил на кухню за чаем один раз вроде как заплаканным. Когда она спросила, что с ним, загадочно ответил: «Это он». И больше ни слова.
Закончив с сестрой, Чернецкий заглянул к брату, и тут, разговорив его, услышал много для себя нового и удивительного.
Если коротко, узнать ему удалось следующее: всё последнее время Витюша, оказывается, жил в предчувствии и в ожидании откровения, и вот, наконец дождался. Что уже само по себе чудо, поскольку откровения теперь в мир посылаются совсем иначе, чем прежде. Зная гнусную привычку людей убивать его пророков, Господь решил: хватит, и с некоторых пор стал их скрывать. Суть маскировки в том, что чем меньше пророк знает о себе и послании, которое принес в мир, чем меньше он походит на пророка, тем лучше. Многие так и остаются в полном неведении о своем предназначении. Бросив, или лучше сказать: выронив пророческое слово, пророк, не подозревая о сделанном, идет дальше. Узнать их, разосланных по городам и весям, тоже дано не каждому, а лишь тем, в кого Господь также заронил крупицу пророческого дара. По этой крупице, отражаясь в ней как в зеркале, пророк бессознательно определяет, что перед ним тот, с кем следует поделиться пророчеством. И под видом разговора, дружеской приятной беседы делится сокровенным, чаще всего и не подозревая об этом. То есть, строго говоря, пророк рождается в тот момент, когда он, говорящий, сливается с внимающим. И перестает им быть до следующей подобной встречи. Ну а внявшим отводится роль исполнителей. Такая вот конспирация. О самом пророчестве, о том, в чем оно заключалось, говорить Витюша отказался. Покружив вокруг этой темы и ничего не добившись, Чернецкий спросил:
– А что значит очищение, о котором ты говоришь? Очищение от чего?
– От мерзости.
– Ну и какая такая мерзость у нас, здесь?
– Стряхнины, – ответил Витюша и демонстративно поморщился. Очевидно, он был знаком с недавним гнусным слухом.
– Оба?
– Все.
– Хм.
– Чоботов, – добавил Витюша, и вдруг, судорожно вскинув лицо, словно вынырнув – обычное его движение, – требовательно спросил: – Где ответственность художника? Где она? В чем?
– Ты о ком сейчас?
Но Витюша уже опять опустил голову и замкнулся.
– Можно поподробней?
Витюша отвечать не стал, и тогда Чернецкий спросил:
– И какова, по-твоему, их судьба? Что с ними должно произойти?
– Они исчезнут. Когда придет время. Как тени. Когда начнется движение.
– Какое движение, чего?
Витюша отвернулся к окну.
Итак, Витюша Ткач действительно находился во власти какой-то еще до конца не перебродившей в нем идеи, и в этом смысле мы, кажется, вовремя спохватились. По-видимому, заблудившийся актер был принят Витюшей за одного из тех пророков, о которых он говорил. Романтическая обстановка встречи: ночь, гроза, наверняка яркая речь пришельца – всё это могло поразить его воображение.
Закончил рассказ Чернецкий желанием непременно актера найти и с его помощью попробовать Витюшу расколдовать, чтобы не кусать потом локти.
– Не чужой же он нам, а значит, мы за него в ответе, – сказал он (его отсылка к Экзюпери, как еще увидим, оказалась пророческой).
Расходы Чернецкий брал на себя. Мне затея, не говоря уже о весьма призрачной возможности её исполнения, казалось зряшной тратой времени и сил, но я доверился его чутью и согласился.
А еще в нашем распоряжении оказалась рукопись, оставленная Витюшей по рассеянности в кухне; сестра её сунула Чернецкому перед уходом. Назывался сей утомительный графоманский опус: «Глубокий ум сна». Диалоги с Шекспиром, Данте, Ньютоном и прочими великими, спешившими поделиться своими мыслями с автором, перемежались с его собственными рассуждениями. Некоторое впечатление на меня произвела вскользь упомянутая лужа пролитой Лермонтовым на дуэли крови, время от времени появлявшаяся по ночам в комнате Витюши, но что это: навязчивое видение или поэтический образ, понять было трудно – однажды мелькнув, она больше в тексте не встречалась. Из забавного: наш городок в полсотни тысяч душ у Витюши, нигде дальше Одессы не бывавшего, превратился в многомиллионный мегаполис и выглядел так: «Многолюден, многоязык, многоглазный, многоликий, многоногий, упрямый и коварный, горбатый, полусырой, ядовитый, символический, угрожающий». И люди в нем «ищут, бегают, хватают, рычат, жалуются, кричат и бесятся… будто я сам разрешил это все, будто я высший из высших и все это через меня, будто сам я током их всех зарядил и пошло и поехало и побежало и помчалось перед моим невозмутимым спокойствием а я на все это смотрю и ничего не говорю». И как же трудно живется в нем автору: «вроде толпы людей а не с кем поговорить, что-то посоветовать, на что-то обратить внимание… Но как тяжело здесь дышать: смрад, грязь, помои, тухлое мясо, мусор, над всем этим стоит спертый непристойный воздух… И главное никто на это не обращает внимание, будто ничего этого нет, будто все чисто, будто их это не касается, будто это не у них, будто это не с ними, будто это не в ихнем городе, будто это не тут! Но дышать тяжело и надобно обратить на все это внимание и устранить все то что мешает дышать и передвигаться горожанам!.. Что вы понимаете! Все то что у меня здесь под сердцем, нельзя высказать, нельзя передать, нельзя другому перечувствовать, сам все чувствую, сам все переживаю, сам все воспринимаю с болью и самому придется под бременем и тяжестью этого бремени нести эту ношу и (если надо) гибнуть». Единственная отрада Витюши в этом жестоком мире – «пшеничноволосая зеленоглазка» – загадочная сущность, перед которой склоняли головы Великие Мужи, Природа и сама Истина. Являясь по ночам, «она игрилась надо мною как дикая какая-то вакханка». Противостоял Витюше довольно невразумительный, безликий, сгустившийся из миазмов страшного города предводитель темных сил, с которым ему предстояло сразиться и победить. Возможно ценой жизни. При благоприятном исходе его ждала награда – зеленоглазка.
Весь текст был напечатан прописными буквами, почти без знаков препинания и часто без пробелов между словами, что делало его похожим на древние письмена с их сплошными строками, а также свидетельствовало о том нешуточном накале страсти, с каким он писался, когда не до пробелов и переключений регистров.