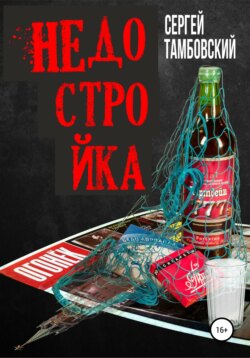Читать книгу Недостройка - Сергей Тамбовский - Страница 1
ОглавлениеИюнь 2017 года, Стокгольм, Швеция
В Арланде было какое-то столпотворение, задержали что ли несколько рейсов или у них там планово такой пассажирооборот невменяемый, сложно сказать. Но протискиваться к своему гейту пришлось довольно тяжело и долго. А потом ещё и в очереди больше часа провели, я уж думал, не успею зарегистрироваться и придётся экстренные меры предпринимать, но нет, обошлось… да, со мной же вместе была девочка Яночка, технолог из параллельной службы. Так-то мы на переговоры летали с такой многопрофильной конторой под названием «Альфа Лаваль», разные прибамбасы для наших производственников собираемся прикупить, понадобились консультации на месте, вот и послали меня с Яной.
Проконсультировались, да… по-английски говорят все шведы без исключения, причем на очень хорошем английском, лучше, чем у меня например, так что проблем в консультациях мы никаких не имели – утвердили перечень закупаемого, написали список необходимых доработок, выбили небольшой дисконт, в связи с чем хозяева нашего бизнеса в Вацапе обещали лично мне некое поощрение по приезде, так что поездка была в высшей степени успешной.
В оставшееся свободным время прошвырнулись с Яной по шведской столице, да… город большой, чистый, приморский, шведки высокие, спортивные, беленькие и через одну привлекательные, пиво вкусное, королевский дворец стоит на месте, смена караула только рассмешила, как бы это описать-то… ну это по сравнению с тем, что на Красной площади происходит, это как постановка новогоднего представления со Снежинками и Бабой-Ягой на детском утреннике на фоне балета Большого театра «Щелкунчик»… но и то, что нам показали краснощёкие здоровенные шведы, тоже было прикольно. Необъятные океанские паромы с торговой маркой Силья-лайн в центре города впечатлили отдельно – я всё думал, глядя на них, а что, если эта дура на скалу какую наскочит или при развороте не впишется в фарватер, что тогда? Там же пара тысяч пассажиров запросто влезает, кто и как их спасать будет?
И ещё искал сувенир с Карлсоном, который, как всем хорошо известно, летает на собственном пропеллере и живёт на крыше – моим главным потрясением от Швеции было то, что Карлсон, как культурный артефакт, в Швеции отсутствует. Совсем нету его нигде, в отличие от Пеппи-Длинного-Чулка и Муми-Троллей, которые на каждом углу в десятке разновидностей лежали. Нашёл только магнитик в детском каком-то парке на Юргордене. Спросил у шведов на Альфа-Лавале, отчего это так? Всё оказалось чрезвычайно просто, как мне объяснили альфа-лавалевые шведы, ну ты сам посуди, Энтони, сказали они – Карлсон же это практически асоциальный тип без определённого места жительства, раз, без официальной работы, два, на что существует, не совсем ясно, и наконец, имеет подозрительную склонность к маленьким мальчикам. Не, ты не подумай, продолжили они в приватном порядке, мы люди толерантные и с самыми широкими взглядами, но вот всё это вместе взятое, а особенно маленькие мальчики, накренили чашу весов так сильно, что Карлсончика просто взяли и люстрировали из нашей культуры. Такие дела…
И еще пара моментов запомнились… первый это памятник Ленину, самый оригинальный наверно в мире – кусок рельса, вделанный в бетон, вот и весь памятник. Там была такая история, что Ильич в апреле 17 года ехал из Щвейцарии в Питер в пломбированном вагоне, а по дороге у него случился Стокгольм, и здесь он не удержался и принял участие в демонстрации трудящихся. А во время этой демонстрации фотограф поймал момент, когда он переходил через трамвайные рельсы, и этот снимок стал типа культовым… дальнейшее, надеюсь, понятно. А второй момент, это туалеты юнисекс, у них там почти все такие – зашёл я в один такой, закрываю за собой дверь в кабинку, а запора там нет, ну и пока я свои дела делал, мою кабинку, не занята ли, проверили человек десять, все женского пола… непривычно, что и говорить…
Но всё в этой жизни, как известно, когда-нибудь да заканчивается, подошёл к финалу и срок нашего с Яной пребывания в гостеприимной столице страны, подарившей миру одноименные стенку, семью и автомобили Вольво. Кстати про Яночку – не подумайте чего-нибудь лишнего, не было у нас с ней ничего такого, хотя я, если совсем уж честно, не отказался бы чего-то такого. Но не сложилось, отшила она меня сразу и жёстко, бывают в жизни такие обломы… так и улетали мы из стокгольмского аэропорта Арланды друзьями.
На дорожку закупились в дьютике-фри, Швеция же это страна принудительной трезвости, спиртное здесь только в специально организованных местах продаётся (в Стокгольме в трёх что ли) и только в специальное время, с 11 до 17, как при позднесоветском строе, и их ещё поискать надо, эти места, а в обычных Севен-Илеванах и Лидлах только пиво до 3,5 градусов. Так что я взял примеченный зелёный Гленфиддич двенадцатилетней выдержки, давно хотел, а тут он штабелями лежит и по достаточно дружественной цене, а Яна прикупила Мартини какое-то хитрое, тоже недорого. С этим добром в заклеенных наглухо пакетах (в дьютике спросили – с пересадкой летите? нет, ответили мы, стронгли дайректли ту Москау, ну тогда, сказали нам, можете пакет распечатать, когда на борт зайдёте, но не ранее), ну мы и распечатали, а потом немедленно приняли по стопарику… а потом я заснул очень быстро и больше ничего не запомнил, даже взлёта посреди шведских скал, поросших красивым зелёненьким мхом…
Июнь 1987 года, борт самолёта где-то над Сибирью
А проснулся я в каком-то абсолютно другом самолёте – вылетали-то мы на вдоль и поперёк знакомом комфортабельном Эйрбасе-319, где мягкие кресла и жидкокристаллические экраны над каждым пассажиром, а тут всё строго и аскетично, кресло жёсткое, экранов никаких, расстояние между рядами минимальное, коленки упираются. И стюардесса в необычном наряде прошла, вроде б только что у неё красно-серая гамма была, а не сине-белая.
Посмотрел вокруг – Яночки нету, а есть непонятные ребята и слева, и через проход… пригляделся – мать же моя женщина, это мои коллеги… ну бывшие коллеги по институту, из которого я ушёл двадцать лет назад. Молодые все, максимум 25 лет… на себя что ли тоже посмотреть, подумал я и вышел в сортир – из зеркала на меня глянул я в возрасте тех же примерно 25 лет, что и мои соседи… ну и рожа у тебя, Шарапов, успел ещё подумать я, возвращаясь назад. Дату, куда меня занесло, определил по журналу Огонёк, которым накрылся мой сосед – на журнале было написано «№21, июнь 1987 года».
Ну так-таки так, дорогой ты мой Антоша Яблочкин (так меня зовут), ты конкретно попал на 30 лет назад и летишь сейчас, если тебе не изменяет память, на полуостров Камчатка выполнять важную партийно-хозяйственную задачу, поставленную руководством института в свете решений 26 съезда КПСС. В течение следующего часа меня достаточно жёстко колбасило и плющило попеременно, а на исходе этих часовых размышлений я решил, что да и хрен бы с ним, чего я там забыл в этом 2017 году, кроме нажитых болячек и скорой пенсии, а тут всё движуха какая-то. Будем жить и выживать, больше ничего не остаётся, а пока, Антоша, сиди и вспоминай всё про это важное хозяйственное задание, и что ты конкретно должен делать при его выполнении, и кто тут с тобой рядом летит – а то нехорошо получится, если начнёшь в показаниях путаться… с горем пополам за следующий час с хвостиком кое-что припомнил и рукой махнул, сошлюсь на плохую память, если что.
Я очередной раз посмотрел в иллюминатор и опять ничего не увидел, кроме непроглядной темени – на моих часах было восемь вечера, значит прибавляем примерно четыре-пять часов разницы в поясах и получаем район полуночи, мы где-то над Байкалом. ТУ-154 хорошая, конечно, машина, надёжная и вместительная, но запаса топлива ему хватает максимум на три тыщи км, а это значит что? Правильно – каждые три, а лучше две с половиной тыщи км ему необходимо присесть и подзаправиться. В Омске, как я это вытащил из памяти, мы уже приземлялись (из самолёта на период заправки всех выгоняют к чёртовой матери, так что я имел достаточно времени, чтобы заценить омский аэропорт – однояйцевый близнец нашего, по типовой схеме строили), следующая, значит, посадка вот-вот должна быть, в славном городе Чите, если в этом мире ничего не изменилось.
Кормить нас ночью со всей очевидностью не будут, так что через Читу мы проедем голодными… ну можно в ларьке что-то прикупить, подумал я и тут же себя одёрнул – круглосуточные ларьки через несколько лет только образуются. И даже кафе там скорее всего на ночь закрыто будет, так что займёмся-ка мы лечебным голоданием. Ожил микрофон над дверью пилотской кабины, сказавший нам деревянным голосом, что самолёт начал снижение к аэропорту города Чита, просьба пристегнуть ремни и не курить в течение всего процесса снижения и посадки. Температура воздуха в аэропорту ожидается в районе восьми градусов. По шкале Цельсия. Зашибись.
Чита не поразила моего воображения, аэропорт снова был ровно такой же, как и два предыдущих, в инкубаторе что ли их выращивают? Со мной вылезли из самолёта все четыре члена, так сказать, нашей команды – старшОй, начлаб Кротов Евгений Петрович (или попросту Петрович) и трое младших. Научных сотрудников. Со мной вместе мнс-ов получается четверо – Серёжа, заслуженный турист России, Андрей, шустрый и весёлый, чем-то похожий на молодого Ярмольника, и Саша Мыльников, этого последнего почему-то все зовут геноссе Мыльников, убей вот не знаю, почему. И я, Антон Яблочкин, последний по алфавиту, но не по значению.
Тут наверно надо сказать хотя бы пару слов, кто мы такие и что делаем посреди бескрайних лесов Сибири в двенадцать часов ночи… пожалуйста, скажу. Мы работаем в одном маленьком, но довольно-таки большом академ-институте в центральной России, а институт этот участвует в одной маленькой, но довольно-таки важной народнохозяйственной теме, имеющей большое оборонное значение, и руководство отдела определило вот нас пятерых как сопровождающих груз электронно-вычислительной техники и разной сопутствующей периферии. На полуостров Камчатку, да. Нет, не в Петропавловск-Камчатский, Питер по-местному, в котором, как все хорошо знают, всегда время полночь, через него мы транзитом проезжаем. А в маленькую воинскую часть с номером N в полутора сотнях километров от него, до которой ещё как-то добраться предстоит. Ну вот нас определили, мы и сопровождаем…
Компьютеры, если кто-то забыл, в те времена укромные и теперь почти былинные были размером не с ладонь, и даже не с тумбочку. Да и не со шкаф тоже. Величиной с хорошую стенку они были, с мебельную стенку – два метра в высоту, четыре в ширину и метр почти в глубину. Шла эта канитель под названием СМ-4, это за которую я отвечаю, а другая, которая под сергунькиным присмотром была, это Электроника-100/25, впрочем по набору элементов, операционной системе и мощности это почти что брат-близнец моей, не знаю, зачем отечественная промышленность наплодила одинаковых уродцев под разными трейд-марками. Весили наши две, значит, ЭВМ, по полторы сотни кг каждая, ладно ещё, что их можно было разбить на 4-5 составляющих, процессор отдельно, оперативную память отдельно, дисковые накопители вкупе с магнитными стриммерами тоже (про монитор с клавиатурой весом в три полных кг уж не будем), которые уже можно передвигать вдвоём без риска нажить грыжу. И еще была пара ящиков с разной периферией.
Но ладно, хватит пока об этом, потом как-нибудь продолжу про матчасть, а пока Андрей достаёт из своей сумки через плечо бомбу портвейна под названием «Три топора» и предлагает дерябнуть по маленькой – в аэропортах пока что вегетарианские времена, любую жидкость можно проносить на борт. Исключая легковозгораемые материалы – бензин там или чистый спирт нельзя, а вот алкоголесодержащие препараты запросто.
– Я не против, – отвечаю я, переглянувшись с коллегами.
– А я не буду, – твёрдо заявляет Сергуня, он у нас упёртый и твердокаменный турист, почему-то не пьёт алкоголь вне туристических маршрутов.
– Давайте сыграем в демократию, – предлагает Петрович, он среди нас больше других читает перестроечную прессу и даже ходит на перестроечные митинги, – кто хочет, пусть выпивает, кто не хочет, может заняться самосовершенствованием.
– А также самофинансированием, – добавляю я, – и хозрасчётом.
– А ты сам-то как? – спрашивает Андрюха старшего, – за демократию и гласность или против?
– А за, – скромно отвечает Петрович, доставая из своей сумки складной пластиковый стаканчик, остальные, ну кроме Серёжи, тоже достают посуду.
– Вот и ладушки, – радостно разливает портвейн Андрюха, – давайте за перестройку что ли…
– И новые мЫшление, – добавляю я.
– Не торопись, – замечает молчавший до этого времени геноссе Мыльников, – за мЫшление это второй тост будет.
– Согласен, – откликаюсь я и немедленно выпиваю свой стакан.
Ой, какая ж гадость, граждане судьи, этот портвейн три семёры. Впрочем Агдам с Азербайджанским нисколько не приятнее – по мне, так лучше водки пока ещё ничего не придумали. Закусываем плавленым сырком «Дружба», разломленным на четыре части. Серёже не дали – нехрен продукт переводить на непьющего.
– А кто что про Читу знает? – спрашивает Андрюха. – Как-никак мы тут первый и наверно последний раз оказались.
– Я знаю, – отзывается Петрович, – тут где-то рядом буряты живут. И ещё Монголия под боком. И зимой очень холодно.
– И еще в Мимино про неё поют, – добавляю я.
– Это в каком месте? – спрашивает любознательный Саня.
– Ну как же… чита-грита, чита-маргарита, вах…
– Да, действительно, – подхватывает Андрюха, – ну давайте прикончим уже этот портвейн, не пропадать же добру.
А мы и не возражаем, подставляя опустевшую тару.
– Грызут меня тяжкие сомнения, – делюсь я с остальными, выпив очередную дозу розовой гадости, – заработает ли вся наша электроника после перевоза её на другой край света…
Из своей памяти я извлёк, конечно, тот факт, что электроника в принципе работать будет, но весьма своеобразно и не совсем так, как ожидалось бы, а ответил мне демократический начлаб Петрович.
– Не боись, Антоша, в случае чего с толкача заведём.
У него, у Петровича, единственного в нашем отделе был личный автомобиль системы Москвич-412, жуткая ломучая консервная банка с болтами, поэтому он иногда употреблял в своей речи соответствующие авто-термины.
– Ну ты меня успокоил, – ответил я, – а про Камчатку кто чего знает? Читу же мы сейчас проедем и забудем, а там нам не один месяц всё же жить предстоит.
– На Камчатке вулканы, – оживился турист Серёжа, – и гейзеры горячие ещё.
– Долина гейзеров закрыта, – сразу уточнил Андрей, – так что на неё рот можешь не разевать. А на вулкан какой-то я бы с удовольствием поднялся.
– Подтверждаю про долину, – добавил Петрович, – туда даже организованные группы не пускают уже много лет. Плюс к тому до неё из Петрика лететь или плыть надо, дорог на Камчатке очень мало, так что либо воздухом, либо морем.
– Ладно, на месте разберёмся, а сейчас это не нас там на посадку зовут? – сказал я, обратив внимание на каркающий громкоговоритель.
– Нас как будто, – подтвердил геноссе Мыльников, – пойдёмте уже, а то что-то не хочется в этой Чите застрять.
Елизово-Питер-Морвокзал
Хабаровск как-то мимо моего сознания протёк, ничего не запомнилось в том же стереотипном двухэтажном аэропорту, где из-за нелётной погоды скопилась чёртова уйма народу, стоящая, сидящая и лежащая на каждом свободном квадратном дециметре пола. Ящики с блоками моей СМ-4 перегрузили без нас, что меня сильно удивило – при вылете мы активно помогали в этом деле, аэрофлотовские грузчики надрываться сверх положенного не особо рвались.
Нас почему-то не задержали из-за плохой погоды, так что вылетели мы в Петропавловск ровно тютелька в тютельку, когда и должны были по расписанию. Два с половиной часа – и мы над знаменитыми камчатскими вулканами, да. С высоты десяти километров смотреть на них было, честно говоря, жутковато, торчат такие все белоснежные шпили с обгоревшими верхушками… а ниже, где снег уже растаял, чёрные-пречёрные лавовые поля, и серой наверно тащит там, если пониже спуститься, преисподняя как она есть в полной боевой красе.
Когда ещё подлетали к Елизову, в глаза бросились стоящие на отдельной полосе в ряд боевые самолёты, в основном МИГи, пяток Сушек и десяток огромных бомбардировщиков ТУ-95, которые когда-то и в пассажирском варианте производились. Спросил у нашего старшего, чего это они на гражданском аэродроме делают, а тот с умным видом ответил, что на Камчатке земля неровая, место под посадочные полосы только одно нашли в районе Петрика, вот и объединили.
Потом нас отдельно предупредили по громкоговорителю, чтоб сидели на местах по стойке смирно до… нет, не до полной остановки самолёта, к этом-то все давно привыкли, а ещё и до проверки разрешительных документов на въезд на данную территорию. Э, вспомнил я, вот для чего нас в районную ментовку-то гоняли перед отъездом, там мы подписывали страшные бумаги и получали разрешение на въезд в погран-зону… бред, если вдуматься, какая нах погранзона в районе Петропавловска, когда до ближайшей границы отсюда (остров Атту на Алеутах) больше тысячи километров по всегда холодному и ветреному Берингову морю, а до материковой Аляски и все две тыщи, однако ж вот так вот…
Сидим, ждём проверки… дождались суровых молоденьких погранцов, один офицер, двое сержантов, все с примкнутыми кортиками… мою командировку они минуты три изучали, я уж решил, что сейчас мне рук за спину заломают и в КПЗ уведут, но нет, не понравилось им там одно криво написанное слово, спросили у меня, почему так, вместо Петропавловск написано Петрипавловск? Я пожал плечами, наверно машинистка не на ту клавишу щёлкнула, они посоветовались и вернули мне всё добро (паспорт, ментовское разрешение и командировка), ну слава богу, назад не вышлют. А через полчасика пилотский громкоговоритель разрешил вставать и двигаться к выходу – встали и двинулись.
И вы наверно будете смеяться, но аэропорт местный был как две… нет, уже как четыре капли воды, похож на все предыдущие – в родном городе, в Омске, Чите и Хабаровске. Как на картинках в развлекательных журналах – «найдите десять отличий», вот не найдёшь даже и трёх, как ни старайся. Народу здесь много было, как пояснил всё тот же хорошо информированный Петрович, отсюда в отпуска начинают уезжать с начала мая месяца и заканчивают в июле, а в конце августа-в сентябре обратный поток случается. Сейчас мы в противофазе как раз находимся, в июне сюда только командировочные и приезжают. Проконтролировали перемещение ящиков с нашей аппаратурой на склад временного хранения и покатили на автобусике производства славного города Павлова в столицу Камчатки. Полтинник кстати билет стоил (не рублей, копеек), не сказать, чтоб очень дёшево по тем временам. Кстати о деньгах – нам выдали под отчёт командировочных средств по 950 рублей, да, полугодовая средняя зарплата по нашему институту. Никто из нас таких сумм в руках не держал… правда по 170 р сразу же ушло на билет, но всё равно осталось достаточно, чтобы опасаться вокзальных воров. Лично я спрятал оставшееся бабло в специально пришитый карман на внутренней стороне рубашки.
По дороге слева по борту открылась шикарная перспектива местных вулканов, черых снизу, белоснежных далее и чёрных на самой верхушке, один из них, кстати, курился тоненькой струйкой дыма.
– Это Корякский что ли, который дымится? – спросил я.
– Не, это Авачинская сопка, – авторитетно пояснил мне турист Сергуня, – Корякский чуть дальше и чуть выше.
Петропавловск встретил нас неприветливым дождичком и хмурыми лицами на пустынных улицах. Высадились на Ленинской улице рядом с Морвокзалом, посмотрели расписание паромов на другой берег Авачинской бухты – ан последний на сегодня вот только что укатил, весело гудя над холодной рябью залива.
– Чего делать-то будем? – спросил я у старшего.
– Не страшно, парни, – бодро ответил он, – сейчас в гостиницу устроимся до завтра, а там уж видно будет.
Ну как же, в двух ближайших гостинице нам обрадовались, как я не знаю кому – табличка «Мест нет» у них в бетоне была выполнена и никогда не убиралась со своего парадного места. Вернулись на морвокзал несолоно хлебавши.
– Ну делать нечего, – всё так же бодро заявил начальник, – ночуем прямо здесь, надеюсь нас на улицу не выгонят. А завтра с раннего утреца отправляемся первым же паромом на ту сторону, а там уж…
Что там уж, он не пояснил, а народ уточнять не стал, стали устраиваться на ночлег прямо в зале ожидания, он здесь один был, но размеров необъятных, батальон наверно солдат вместился бы и ещё свободное место осталось бы. Пока начальник бегал в газетный киоск и покупал местную и не только местную прессу, мы разложили на скамейке газетку, разложили то, что с собой захватили, а ещё и по дороге успели в местном магазине прикупить (палтуса во всех видах, в солёном, копчёном и жареном в кляре, почему-то здесь в пустых совершенно магазинах именно эта рыба спросом не пользовалась и лежала свободно), разливать решили аккуратно, под прикрытием, а то мало ли что…
Начальник прибежал обрадованный, ухватил свежий Огонёк, плюс Московские новости и журнал Знамя с очередным остроразоблачительным романом. И Камчатскую правду он тоже прикупил, чтобы быть в курсе местных проблем. А мы его обрадовали разлитой Столичной – ну выпили, закусили консервами, начальник начал вслух зачитывать самые интересные места из Огонька, а я пока продолжу о целях нашего посещения этого забытого богом места.
Итак, в восьмидесятые годы у советских подводников и противо, если можно так сказать, субмаринщинков остро встал вопрос незаметности – у американцев и французов подводные лодки были супер-тихоходные, не слышно их было и не видно, в отличие от отечественных, которые ревели, как носороги в брачный период. Выход из этой прискорбной ситуации виделся двоякий – во-первых надо было кардинально снижать шумность нашей техники, что и делалось, но другими специально обученными людьми (если помните, был дикий скандал с продажей нам японских прецизионных станков, на которых вытачивали ведущие валы для подлодок). На а во-вторых можно было обеспечить лучшую обнаруживаемость техники вероятного противника, грубо говоря придумать и внедрить следящие устройства повышенной чуткости, которые находили бы вражескую технику в условиях даже и очень слабой слышимости. Вот этим наш институт как раз и занимался. В бухточке, куда нас должны были вскоре перебросить, притаилась воинская часть, занимающаяся как раз этими вот вопросами – акустическим зондированием мирового океана. А мы сочиняли оборудование для эхолотов и программное обеспечение для них заодно. Такие дела.
Однако вернёмся к нашим баранам, то бишь на территорию морского вокзала… это немного другой морвокзал, чем, к примеру, на Балтике или на Чёрном море. Там-то регулярные рейсы отправляются чуть не каждые полчаса в самые разные концы света, о местном сообщении уж и говорить не приходится. А здесь что – раз в неделю во Владик, два раза в неделю в Певек, раз в месяц остров Беринга, ну и паром на ту сторону бухты, вот и всё сообщение. Скучно. Хотя зал ожидания практически заполнен, не знаю уж, кто и зачем тут сидит, наверно такие же, как мы, в основном, ночь коротают. Я прислушался, о чём там мои коллеги разговаривают – оказалось, что всё о том же, о неизбывном, про культ личности, про товарищей Сталина, Берию и примкнувших к ним в последнее время Кагановича, Молотова и Мехлиса. Тон задавал Петрович, как самый начитанный. Я послушал минут десять и не выдержал.
– Ну что вы все, как дети малые – Сталин-Сталин, тиран-тиран, кровавый-кровавый. А при ком индустриализацию провели? До 17 года самое большее, что у нас было на селе, так это паровая мельница, а в 30-е годы и тракторы, и всё остальное. Войну при ком выиграли? Я понимаю, что это не благодаря, а вопреки, но всё-таки – при ком? Атомную бомбу когда сделали? Да и задел по космосу в конце 40-х, начале 50-х произошёл.
– А коллективизация? – вскипел Петрович, – а 37-й год? А катастрофа начала войны? А слезинка невинного ребёнка?
– Были перегибы, как без них. Но покажите мне пальцем на того руководителя, при котором люди не гибли? Что, трудно?
– Не, такого конечно не найдёшь, – несколько сбавил разоблачительный пыл Петрович, – но тут дело в масштабах. Одно дело десятки-сотни и совсем другое тысячи-миллионы. И потом, как нас классики учат там – нельзя перейти на новую ступень развития, не проанализировав ошибок прошлого.
– Ну так классики учат анализировать, а не шельмовать с особым цинизмом. Так можно с грязной водой и ребёнка выплеснуть. Нельзя видеть одни тёмные страницы прошлого, хотя их там конечно немало было, надо ж и положительное рассматривать. А Огонёк ваш мне напоминает несмышлёного пацана, который увидел, как родители в спальне сексом занимаются, и теперь рассказывает каждому встречному-поперечному подробности этого, да прибавляет, какие они сволочи.
– Ну так, как сейчас, тоже ведь нельзя жить, – это Андрюха вступил в диалог, – застой в стране, если честно, насто…доел – надо что-то менять, не согласен?
– Ага, перемен мы ждём-перемен, как поёт популярный автор. Перемены тоже ведь разные бывают, не задумывался об этом? И боюсь, что когда они реально в нашу жизнь придут, перемены эти, они мало кого обрадуют. Знаешь байку про оптимиста и пессимиста?
– Их много, которую из?
– Ну это где «пессимист, это тот, кто говорит, что хуже быть не может, а оптимист возражает – ещё как может». Если ты, например, думаешь, что мы в нижней точке развития и дальше возможно только движение вверх, то это не совсем так. Есть ещё, куда падать, ой есть…
– Какой-то ты пессимист сегодня, – заметил геноссе Мыльников, – у меня есть предложение – может ну её, эту политику, а лучше ещё по одной накатим?
Приморский (он же Вилючинск)
Ничем, короче говоря, хорошим наш ночной диспут не закончился, с горем пополам переночевали на жёстких морвокзаловских скамейках, а с утречка раннего, поёживаясь под холодным ветерком с залива, мы заняли очередь на паром до Приморска. В 21 веке он называется Вилючинск, но в 80-х годах никто такого слова не употреблял, может секретным оно было. Вообще-то Вилючинск это Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), состоящее из трёх частей – Рыбачий, где база атомных подлодок располагается, потом идет Сельдевая с заводом по ремонту этих подлодок, ни и Приморский, это типа спальный район для работников завода и базы. Чуть меньше часа (Авачинская бухта-то ой какая немаленькая что вдоль, что поперёк), и мы причалили к пирсу города Приморского прекрасным июньским утром. Тут же подверглись строгому досмотру очередных погранцов – Петропавловск конечно тоже режимная зона, но Приморский это уже особо режимная. Про Сельдевую с Рыбачьим уж и говорить не приходится, на въезд туда отдельные бумаги надо, которых даже у нас не было.
Бумаги наши оказались в порядке, поэтому мы довольно быстро транзитом через пирс оказались на территории города. Слева и справа здесь тянулась береговая полоса чистеньким жёлтым песочком. Эх, с тоской подумал я, если б не холодное Курильское течение, здесь бы совсем рай земной был, но увы – море тут холодное, круглый год четыре-пять градусов. Местных любителей морских купаний это правда не останавливало, где-то вдалеке можно было заметить кучку аборигенов, загорающих под лучами восходящего солнца.
– Нам сюда, – сразу показал налево Петрович, сверившись со своими записями, – в Акустический институт Академии наук СССР. Сокращённо АКИН.
Ладно, что не АКУИН, подумал я, заходя на территорию института. В бюро пропусков тщательно изучили наши командировки и выписали всем по пропуску на территорию. Зашли внутрь… ну институт как институт, с нашим не сравнить, ясное дело, у нас семь этажей и три корпуса, а тут одноэтажный барак какой-то… но делом нужным занимается, та самая воинская часть с гидролокаторами в их ведении находится. Пока мы у стеночки стояли, да разглядывали разную наглядную агитацию у них на стенке, Петрович быстро порешал все вопросы и вернулся, крутя на указательном пальце какой-то ключик.
– Ну чего стоим, орлы, пошли обустраиваться, – гордо сказал он.
– Я правильно понимаю, что вот это вот ключ от квартиры, где деньги лежат? – спросил я.
– Насчёт денег не скажу, может и есть там чего от предыдущих постояльцев, но вот кровати, ванная комната и кухня с газовой плитой там точно должны быть. Нас туда проводят, сейчас специальный сотрудник выйдет.
Я сделал восхищённое лицо, вслед за мной и остальные высказали своё одобрение, после ночи на деревянных скамейках морвокзала любая кровать райским облаком покажется. А тут и специальный сотрудник вышел, но если уж быть точным, их двое оказалось – сотрудник и сотрудница. Мужик представился Лёликом, а на лице у него отчетливо было нарисовано, что он прямиком с земли обетованной, пробу некуда ставить. А вот женщина, сказавшая, что она Оксана, поразила моё воображение до самых до глубин – саксапильность из неё просто фонтаном била… видели наверно Самсона, разрывающего пасть льву, вот примерно таким фонтаном она из неё и изливалась, сексапильность. Мельком глянул на прочих членов нашей делегации – у всех примерно то же самое на рожах отображалось. А Оксана, похоже, давно привыкла к впечатлению, которое она на мужской пол производит, так что у неё эмоций никаких проявилось, открыла дверь на улицу, пропустила всех нас, включая Лёлика, указала, куда идти, вот и все дела…
– Слушай, – сказал я на улице Лёлику, оказавшись рядом с ним и но достаточном удалении от Оксаны, – у вас чего, все девушки такие или это исключение?
– Исключение, – хмуро отвечал он, – тут в основном жёны моряков живут. Да, а на Оксаночку вы конечно можете рты разевать, только бесполезняк это.
– Почему? – тупо уточнил я.
– Поживёте тут с недельку, сами всё поймёте, – пояснил непонятливому мне Лёлик.
– Ладно, поживём… – только и смог ответить я, – а чего это у вас тут берёзы такие странные? – сменил тему я.
– Потому что это не простые берёзы, а каменные – их хрен распилишь, только алмазные диски берут. Вот кстати о берёзах, одолжи червонец до завтра?
Я немного смешался, как-то до этого времени мне не встречались люди, просящие взаймы через полчаса знакомства.
– Ну держи, конечно, – я достал из кармана отложенную мелочь, – а что, тут вам зарплаты маленькие платят что ли?
– Спасибо, – ответил Лёлик, убирая оранжевую купюру в карман, – зарплаты тут хорошие, просто и расходы тоже нехилые, вот и приходится иногда думать, как до получки дотянуть. А мы уже пришли.
Остановились мы перед последним подъездом самой стандартной советской хрущобы на окраине посёлка, о чём и сказал Андрюха Лёлику – может у вас тут и край земли, но хрущобы такие же, как и у нас, не отличишь.
– Хрущоба-то она конечно стандартная, – вдруг открыла рот красавица Оксана, – да только по особой технологии построена. У нас же здесь сейсмоопасная зона, поэтому фундаменты очень хитрые.
– А насколько она у вас сеймоопасная, эта зона? – решил вступить в диалог с ней я, – часто трясёт-то?
– Бывает, – скупо обронила она. – На моей памяти два раза за два года.
– И что там за фундаменты такие? – это уже Андрей решил выставиться умным перед Оксаной.
– Слоёные. Слой бетона, слой резины, и так метр почти. До семи баллов, говорят, держат удар.
– А ты это откуда знаешь? – спросил турист Серёжа.
– Так я же два года в строяке отучилась, – просто ответила она, – на промгражданстроительстве, так что кое-что запомнила.
– А здесь ты как оказалась? – продолжил Серёжа.
– Так, – сказал вдруг Лёлик, – давайте с этими умными разговорами завязывать, вот хата, ключ у вас есть, заселяйтесь, а у нас с Оксаной ещё другие дела имеются. Вечерком загляну, проверю, как у вас тут и что, а разбираться со всем остальным завтра уже будем.
– А до вечера нам что делать? – поинтересовался Петрович.
– Вы когда там из своего Приволжска вылетели? Позавчера днём, верно? Сейчас по местному времени одиннадцать утра, значит по вашему внутреннему два часа ночи. А это значит что? Правильно, это значит, что вас должно вырубить как раз до вечера. Акклиматизация эта такая штука, – и он неопределённо покрутил руками в разные стороны, – бывает, что и неделю плющит, но в среднем за 2-3 дня должно пройти. Ну мы пошли.
И он взял Оксану за локоть, и они быстро удалились в сторону, противоположную той, откуда мы появились – куда-то по направлению к чахлой роще каменных берёз. Ну а мы, чего, повздыхали, глядя вслед соблазнительным формам Оксаны, и отправились на второй этаж – домофонов в этом времени ещё не изобрели.
– Смотри-ка ты, – сказал начальник, осмотрев наши владения, – не обманули ведь, всё на месте, и койки, и ванна, и плита на месте. И даже бельё застелено.
– А здесь что? – спросил Андрей, показав на дверь второй комнаты, она была не смежной с нашей, не совсем, выходит, эта хрущоба стандартной оказалась.
– Там, мне сказали, возможно ещё одна бригада жить будет, из Киева. Но это неточно, может и не будет, а пока пусто там.
– Отлично, – резюмировал я, – мне всё нравится. Кто первым мыться идёт? Значит я первый.
Отрубились мы, как правильно предсказал Лёлик, очень быстро и безболезненно. А когда проснулись, уже и сумерки вроде бы на улице намечались.
– Жалко, телефона здесь нет, – сказал Петрович со своей койки, – домой бы позвонить не мешало.
– Ты хоть представляешь, почём тут звонок на Большую Землю и какая слышимость будет? Да и город этот режимный, наверняка восьмёрка только с особого разрешения работает, – сказал я.
– Представляю, – вяло ответил он, – но всё равно хотелось бы.
– В Питер поедем, там с переговорного пункта может и дозвонимся, а сейчас пожрать чего-нибудь не помешало бы.
Мы с Петровичем вышли на кухню, из окна которой открывался вид на окрестные сопки, вершина каждой второй была в снегу. В конце июня месяца – необычно, ничего не скажешь.
– Так, – сказал Петрович, что у нас тут есть в холодильнике?
Да, тут и холодильничек небольшой имелся, системы «Морозко», но внутри него нашлись только пара вялых картофелин и такая же вялая луковица.
– Да, из этого каши не сваришь, – логично заключил я, – надо бы в магазин что ли сбегать, время начало седьмого, они тут должны до семи открыты быть.
Но никуда сбегать мы не успели, потому что раздался звонок в дверь. Я открыл – на пороге стоял всё тот же Лёлик Рабинович, а в руках у него был здоровенный пакет, оттягивавший ему руку.
– Здорово, парни, – весело поприветствовал он нас, – сейчас уху сделаем, вот из этого хвоста.
И он достал из пакета немалых размеров рыбину, килограмма на четыре точно.
– Откуда это? – спросил я и одновременно задал свой вопрос и Петрович – Не жалко такую красоту командировочным скармливать?
– Откуда-откуда, – ответил Лёлик сначала мне, – из моря. А скармливать не жалко ни разу, у нас такого добра много плавает.
– У нас только две картошки и луковица, – перешёл я сразу в практическую плоскость, – маловато наверно для ухи.
– В самый раз, главное, в ухе главное рыба. Ну и чтоб горючее было, это другой основной компонент.
– С горючим у нас как раз хорошо, спирта две канистры имеются, – сказал Петрович, – только разбавить бы его надо, там процесс перемешивания пару часов идёт.
– Спирт-то какой, гидрашка? – деловито поинтересовался Лёлик.
– Обижаешь, начальник, – ответил я, – в экспедицию да чтоб технический спирт выдали – медицинский ректификат, чистый и прозрачный как слеза ребёнка.
– Ну тогда ты, Антоша, иди спирт разбавляй, а мы тут готовкой займёмся, – скомандовал Петрович.
– Мы его вообще-то и без разбавления пьём, – заметил Лёлик, – лучше всасывается.
Но видя наши вытянувшиеся лица, он тут же добавил:
– Но вы конечно разбавляйте, мешать не буду.
Через два часа все уселись за стол на кухне, нас пятеро, Лёлик, плюс к этому подошёл Максим и (сюрприз-сюрприз) красавица Оксана тоже на огонёк заглянула, я, сказала, недалеко тут живу, мимо шла, решила проведать. Пару табуреток пришлось у соседей попросить.
Уха оказалась выше всяких ожиданий, ну ещё бы, горбуша-то только что выловлена была, а не тряслась по кочкам и ухабам до магазинов центральной России месяц-два. Ладно, что мы её наварили огромную кастрюлю, так что хватило на каждого по две тарелки. Оксана не чинилась и не строила из себя недотрогу, а активно поддерживала беседу, вставляя понемногу острые шпильки для особо разговорчивых. Разговор же крутился вокруг самого злободневного, вокруг Камчатки и ее обитателей.
– Я и говорю, – вещал Лёлик, подливая себе и соседям из трёхлитровой банки, где турист Серёжа развёл наш драгоценный спирт, – чего-чего, а медведей здесь, как деревьев в лесу.
– А ты видел хоть одного-то? – спросил недоверчивый Андрей.
– Вот как тебя, – быстро отвечал тот, – вышел как-то погулять за околицу нашего Приморска, вон туда примерно (и он показал в окно примерное направление), в августе прошлого года дело было, гляжу, что-то большое и тяжёлое впереди возится. Ну я сразу просёк момент и назад попытался ноги сделать, он за мной. Медведи, они суки быстро бегают, особенно если в гору, у них же задние лапы длиннее передних, вот он и припустил за мной. Вижу, что не успеваю я до домов добежать, решил на ёлку залезть.
– Так они же по деревьям лазить умеют? – продолжил сомневаться Андрей.
– Камчатские не умеют, когти у них слабые для этого дела – так вот, залез метра на четыре вверх, а он внизу прыгает, хочет меня зацепить, но не выходит. Так и просидел я на дереве битых два часа, пока ему не надоело. Вообще-то в конце лета еды в лесу много, на людей они не кидаются, но мне видно попался какой-то неправильный медведь.
– Ну за чудесное спасение, – выдал тост Петрович.
Выпили, заели ухой, далее продолжил геноссе Мыльников.
– А что, у вас тут только медведи водятся? Или ещё кто есть?
– Из крупных зверей только они, – это Максим подключился, – а если в целом брать, то рыси ещё ходят, росомахи разные, выдры, лисы, волков немного есть… Ну и птицы конечно, от орлов до топориков.
– А тигры?
– Да ты чего, какие тигры, тигры это Владик, а у нас для них слишком холодно. И змей с лягушками здесь нет, совсем нету.
– А чего так?
– Особенности эндемики, – гордо сказал умное слово Лёлик, доедая второй кусок горбуши.
– Про рыбу забыл, – это я подал реплику, – они у вас тут очень вкусные.
– Самим нравятся, – ответила Оксана, – знаете, кстати, что лосось это не вид рыбы, а семейство, а так-то их целая куча, видов лососей. Ну из тех, что здесь водятся.
– Какие например? – это я поддержал разговор.
– Горбуша, самая распространённая, то, что мы сейчас едим – мясо бледно красное, икра примерно такого же цвета, весит от 1 до 4 кило. Потом есть ещё нерка, поменьше и покраснее, у неё икра очень вкусная. И кижуч… про него почти ничего не знаю.
– Кету с чавычей забыла, – поправил её Максим, – чавыча здоровенная бывает, 10 кило и выше, а кета промежуточный вариант. И в реках у нас тут гольцы такие водятся, речной лосось, маленькие и вёрткие, их мало кто ловит.
– И они вроде бы должны на нерест где-то в это время идти? – спросил Петрович.
– Да, но чуть позже, – сказал Лёлик, – в июле-августе, тогда их можно просто сачком зачерпывать из небольших рек, куда они нереститься лезут. Горбуши, кстати, страшные становятся в это время, горб вырастает, из-за него наверно её и назвали горбушей. И мясо становится невкусным… не то, чтобы совсем в рот не возьмёшь, но невкусное, из них у нас только икру берут, остальное выбрасывают.
– Дааа, – протянул Петрович, – интересная у вас тут жизнь.
– Это мы еще про вулканы, гейзеры и землетрясения не начинали, – бодро отвечал ему Лёлик, – а как начнём, вдвойне весело станет.
– Ты вот чего лучше расскажи, – перебил я Лёлика, – про зарплаты у вас тут, а то утром начинал сам эту тему, так уж доведи до конца, всем интересно.
Народ мигом навострил уши – рыба конечно рыбой, а вулканы вулканами, но своя рубашка, она гораздо ближе к телу.
– У нас тут секретов нет, – ответил Лёлик, закуривая беломорину, – в АКИНе минималка 400 рублей, мнс-ы и младшим инженерным персоналом получают.
Оооо, раздался дружный выдох нашей приволжской команды, у нас 130 давали по приходу, а проработавшим пять лет и более можно было рассчитывать на 200, а тут сразу все 400.
– Завлабы где-то по 600 имеют, – продолжил Лёлик, – но это всё ерунда, если честно-то?
– А не ерунда тогда что?
– Завод в Сельдевой, вот что – там в районе тыщи на нос выходит, но сами понимаете, с чем это связано – радиация-шмадиация и всё такое. Но желающих там поработать хватает, очередь как на Красной площади стоит.
– Да и это ерунда по большому счёту, – это уже Максим влез, – ты лучше расскажи им, сколько тут рыбаки заколачивают.
– А что, и про рыбаков могу… если официально на сейнер устроился, то от полутора до двух тысяч, но работа только в сезон, с мая по сентябрь.
– А если неофициально? – решил уточнить я.
– Это в бригаду, которые нерестовую рыбу берут, там ещё короче сроки, с июля по начало сентября, но уж получают они там по четыре-пять тыщ чистыми, налогов-то всё равно никто не платит.
– Если разложить это на весь год, то завод-то походу выгоднее получается, – сказал Петрович.
– Да, наверно, – согласился Лёлик, – но на рыбаках у нас тут тоже эта лестница не заканчивается.
– Какая лестница? – не понял Андрей.
– Ведущая в небо, – пояснил Лёлик, – золотодобытчики и по десять-пятнадцать штук в месяц могут заколачивать.
– А у вас тут и золото есть?
– Ну как не быть, оно во всей Сибири есть. Но там свои нюансы имеются…
– Какие?
– Бандитский это промысел, многие с него не возвращаются… опять же соблазны большие, закрысить там пару-тройку самородков или кулёк золотого песка, если поймают, это срок от пятерика до червонца. Да и может не повезти, пустая порода попадётся, тогда за весь сезон шиш с маслом привезёшь, а не тыщи, но так конечно редко бывает.
– Откуда ты это всё знаешь? – подозрительно посмотрел на Лёлика на старший, но тот не стушевался:
– Оттуда, от верблюда – у нас тут городок маленький, тут все и всё знают.
– Давайте я про отпуск байку расскажу, – разрядила обстановку Оксана.
– Давай, – поддакнул ей я, смотреть на неё было одно удовольствие, а когда она начинала говорить, так вдвойне.
– У нас тут отпуска немаленькие, два месяца каждому полагается по умолчанию, да многие не ходят каждый год, копят их. Так вот в прошлом году один наш сотрудник скопил отпусков за шесть лет, получился у него целый календарный год, ну и уехал на Большую, как у нас тут говорят, Землю отдыхать и веселиться – у него дом где-то на югах вроде имелся. Проходит год, и за пару дней до того срока, как ему надо бы на работу выходить, вместо него прилетает телеграмма начальнику, «прошу неделю за свой счёт». Недогулял парень…
Собравшиеся развеселились.
– А теперь про вулканы рассказали бы, – попросил турист, – это ж такая экзотика, какой нигде больше не найдёшь.
– Ну почему нигде, – отвечал ему Максим, – в Новой Зеландии например такого добра хоть отбавляй. Или в Исландии тоже.
– А ты был там или собираешься? – подколол его я.
– Пока не был, но зарекаться не буду, – не стал вестись на развод Макс, а просто продолжил, – вулканы чего, вон они, смотри в окно.
Все дружно повернулись к окну и увидели по крайней мере одну высокую вершину со снегом на верхушке.
– Это Авачинская сопка, у нас все вулканы сопками зовут…
– Слово какое-то дурацкое, – подумав, сказал начальник.
– Слово как слово, – не стал особо спорить Макс, – от древнеславянского «соп», говорят, что означало вал, холм, насыпь… оттуда же слово «сыпать». Так вот, Авачинская сопка тихая и мирная, последний раз извергалась где-то до войны ещё. Около трёх километров в высоту, на вершину тропа ведёт, без всякого снаряжения можно подняться примерно за пять-шесть часов, если есть желающие, могу сопроводить.
– Есть желающие, есть! – немедленно выскочил турист Серёжа.
– Ну и славно, на выходных сходим. А чуть подальше к северу Корякская сопка, повыше и поактивнее. А если на юг смотреть, там Мутновка, это вулкан посерьёзнее, постоянно дымится и рядом с ним есть такие горячие источники, у нас их Дачными называют. Почти что гейзеры, но попроще.
– Насколько попроще?
– Ну фонтанчики есть конечно, но невысокие. И нерегулярные – настоящие-то гейзеры, которые возле Ключей, они строго по расписанию извергаются, а тут как придётся. И речка там еще есть, которая от этих гейзеров вытекает, Паратунька называется.
– Интересное название…
– Да, что-то местное, ительменское – так вот, в этой Паратуньке купаться можно, типа лечебные ванны, как в санатории практически.
– Вот бы попробовать…
– Какие вопросы, туда дорога есть, вообще у нас тут с дорогами плохо, горы сплошные, а до Паратуньки проложена и даже автобус пару раз в день ходит, можно смотаться.
А тем временем уху мы всю съели, да и спирт почти что к концу подошёл, я даже удивился – три литра на восьмерых и ни в одном глазу, вот что здоровая натуральная природа Камчатки делает. Напоследок поговорили о том месте, куда нам предстояло добраться, бухта Ольховая называется.
– Понимаешь, – рассказывал Лёлик, взяв меня за пуговицу, мы на улице стояли и перекуривали, – туда дорог никаких нету, слишком неровно и слишком мало народу там живёт-работает, невыгодно. Так что добираться туда будете либо морем, либо воздухом, одно из двух.
– А как лучше? – спросил я.
– И так, и этак хреново, – рассудительно отвечал он, – на вертушке быстро, конечно, и весело, но там одна загвоздка есть, «лётная погода» называется. Плюс наши запросы местный лётный отряд в последнюю очередь исполняет, поэтому ждать попутки можно очень долго.
– Очень это сколько в днях? – решил уточнить я.
– В неделях лучше измерять – можно три, можно и все пять недель.
– Долго, согласился я.
– Добавь к этому, что вылетать надо не из Елизова, для таких нужд есть специальный местный аэропорт, Халактырка называется, а расположен он у чёрта на куличках, от нашего Приморска два часа добираться, если не больше.
– А если морем?
– Морем проще и быстрее в итоге получается, но и тут свои подводные камни есть.
– Какие?
– Опять-таки у института нашего своего транспорта нет, надо заказывать, а это как получится. Это раз. И два – в Ольховой этой нет никакого причала, так что высадка и выгрузка груза превращается там каждый раз в цирковое представление. Я пару раз участвовал в таких, больше что-то не хочется..
– Мда, – подытожил я, – куда ни кинь, везде клин получается. А ты сколько раз в этой Ольховой-то бывал, как там вообще?
– Три раза, – подумав, ответил он, – одна радость, что за поездку туда нам удвоенные командировочные выплачивают, а так одни проблемы. Что там на месте? Три кирпичных барака, научный корпус, казарма для матросов, совмещённая со столовкой и общагой для командировочных, и офицерский корпус. Ну и хозяйственные постройки, бак для горючки, дизель-станция. Всё вроде. Ближайшее жильё километрах в 50-ти, через перевал если переберёшься, там будет рыбачий посёлок в Мутновской бухте.
– Мне нравится. Робинзонить практически будем.
Потом я ещё и Оксану до дома провожал, почему-то она меня выделила из остальных и попросила, во дела… попробовал, конечно, поцеловать её, раз уж такое дело, но она была строга и неприступна – сказала «спасибки» и скрылась в подъезде такой же хрущобы, что и наша. А ещё потом все вместе искали геноссе Мыльникова – пошёл он погулять по местным красотам и не вернулся. Нашли через полчасика, он прилёг отдохнуть на пригорок и заснул. Потом спать надо бы было по всем понятиям, но в связи с разницей во времени в девять часов спать абсолютно не хотелось – лично я пролежал всю ночь, не сомкнув глаз, ну да подумать было о чём, информации к размышлению наши сегодняшние гости выдали предостаточно. Да, и ещё мне предъяву Андрюша выкатил, он, оказывается, тоже на Оксану глаз положил, а я по его мнению отбиваю у него девку. Разрулил конфликт без мордобития, но, чувствую, это не последний наш разговор на эту тему.
Халактырка
С утра, отойдя немного от вчерашней пьянки (не так уж и сильно мы напились-то, я, например, к девяти часам по местному времени как стекло был), мы гурьбой отправились во всё тот же АКИН, где нам и выкатили распорядок дня на ближайшую неделю, а там, как уж пойдёт, добавили – может и не месяц. Утром, значит, сказали нам в административно-хозяйственной службе, после завтрака садитесь на паром на Питера, там пересаживаетесь на семёрку… ну автобус, он недалеко от морвокзала останавливается, километр может, и на ней, на этой семёрке двигаетесь до кольца, на северную окраину города, где находится аэродром местных линий под названием Халактырка.
– А почему он так называется, аэродром этот? – тупо спросил я.
– Ительменское слово Кылыты, означает «река», потом трансформировалось в такое название, – пояснили мне нравоучительным тоном, дескать, как можно такого не знать. – Ящики ваши уже доставлены туда из Елизова, будет, значит, ждать борта в Ольховую. В первый день вы, конечно, никуда не улетите, да и во второй-третий тоже, но в течение недели очень может быть… а может и не быть, тут как фишка ляжет…
– А что за борт-то? – это Петрович спросил.
– Обычно МИ-8 туда летают, но случаются и КА-26 с МИ-6, маловероятно, но случаются.