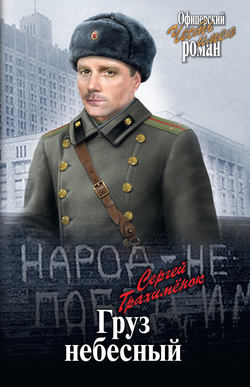Читать книгу Груз небесный - Сергей Трахимёнок - Страница 5
Глава третья
ОглавлениеЯ соврал ротному – «проверку на вшивость», в отряде ее называли более пристойно, почти по-научному – «анализом на заячью кровь», я тоже прошел.
Случилось это месяц назад, когда я еще был в отряде. В части работать легче. Личный состав там, по стройбатовским меркам, более цивилизованный – штатники, люди при должностях, не какие-то там отделочники. Они хорошо усвоили форму принятых в армии взаимоотношений: не бузили в открытую, «ели начальство глазами» – говорили «есть», но ничего из этого «есть» не делали.
Штатники получают твердый оклад. На их лицевой счет ежемесячно откладывается, за вычетом питания и «вещевки», рублей тридцать-сорок. Отделочники таких заработков не имеют, живут в долг, а перед увольнением в запас берут аккордный наряд, чтобы с долгами рассчитаться и денег на дорогу подзаработать. Правда, на таких «аккордах» день и ночь работают не сами «дембеля», а первогодки, но это уже другая сторона дела, она мало интересует командование: была бы выработка, был бы план. В общем, забот с личным составом в части поменьше, стационар – не командировка.
Я быстро входил в курс дел, потому что, в отличие от моих двухгодичных коллег, служил срочную. Я видел то, чего они, получившие лейтенантские погоны после вузовских сборов, не могли разглядеть. Видел и пытался пресечь все, что не подпадало под уставные рамки. Ротная «отрицаловка» чувствовала, что я могу влезть туда, куда другие не заглядывают, и оказывала мне сопротивление, чаще тайное, иногда – явное.
Один из моих штатников был отрядным электриком и, по совместительству, ротным придурком. Такой сорт людей часто встречается в коллективах, сведенных вместе вопреки желанию его членов. Называются они по-разному: юмористы, хохмачи, клоуны, придурки, последнее более точно. Придуривание – призвание и средство защиты одновременно. Придурку легче живется. Что с него взять? Ничего: что с придурка возьмешь? Все ставят на нем крест, а он существует себе помаленьку и дураками считает всех, кроме себя.
Именно таким был Белокопытов – двадцатидвухлетний переросток с большим ртом и лицом глухонемого. Слух у него был прекрасный, но он для хохмы «косил» под глухого: команды выполнял с третьего раза, причем на второй раз прикладывал ладонь за ухо и, кривляясь, говорил: «Ась?» Он мог сунуть руку в тарелку соседа, и тот рядом с ним больше не садился. Мог, изображая припадочного, упасть с верхнего яруса на нижний, укусить сослуживца и не мог показать на карте город, в котором родился. При этом отсутствие умственных способностей компенсировалось у него громадной физической силой, и в роте Белокопытова побаивались все, независимо от срока службы.
Отрядный врач – старший лейтенант медслужбы Ким – дважды возил его в госпиталь к психиатрам. Однако те ничего, кроме психопатии, не находили.
– А психопатия, – пояснял Ким, – не болезнь, а черта характера и, следовательно, не основание для комиссования из армии: кто из нас не психопат в наш насыщенный стрессами век.
Итак, в конце сентября на одной из вечерних поверок, которые дежурные по роте проводили в моем присутствии, Белокопытов гримасничал больше обычного, показывал соседям язык, толкал их, замахивался. На мои замечания не обращал внимания и даже кивал в мою сторону головой, мол, разбазарился замполит-салага.
После поверки я пригласил его в канцелярию роты. Он явился без ремня, оставив за дверью в коридоре трех человек из числа любителей спектаклей. Я понял это и, сдерживаясь, сказал, чтобы он вышел и привел себя в порядок. Белокопытов пожал плечами, «чё прискребся», и вышел. Вернулся он вообще до пупа расстегнутый и под хохот «зрителей». Сделав ко мне огромный шаг-прыжок, он громко, чтобы слышали в коридоре, доложил:
– Таш начальник, ваше приказание выполнено.
– Приведите себя в порядок, – сказал я ему снова, чувствуя, что попал в сквернейшую ситуацию: сейчас он опять выйдет и вернется, доложив, что «приказание выполнил», и так может продолжаться до бесконечности.
Однако у Белокопытова не хватило терпения «заводить» меня медленно.
– Щас я тебя задавлю, – прохрипел он, сделал сумасшедшие глаза и ухмыльнулся так, что его огромный рот раздвинулся от уха до уха, – щас. – И он, растопырив пальцы, двинулся ко мне: «Утю-тю…»
И тут я сорвался. Белокопытов поначалу ничего не понял. Он постоял немного на четвереньках, посмотрел в пол, словно ища в его щелях что-то мелкое, затем вскочил и, взревев медведем, бросился на меня вторично.
Встречный правой был излишне закрепощенным, но достаточно жестким. Белокопытов взвыл, ногой отворил дверь канцелярии и выскочил в коридор. По пути в умывальник он пнул двух, не успевших увернуться, любителей спектаклей, умылся и ушел из роты. Ночевал в «бендюге» – деревянной будке, где хранились его инструменты.
Утром он явился и без кривляний попросил забыть вчерашнее. Я не возражал, хотя знал, что, отправляясь ко мне, он объявил в роте, что идет ко мне разбираться.
«Анализ» дорого мне обошелся. Я провел бессонную ночь и на подъем пришел с болью в желудке и дичайшими головными спазмами. Казалось, что кто-то всадил мне в череп топор и давил на топорище.
– Все болезни от нервов, – сказал мне Ким, когда я обратился к нему за помощью, – все… и гастрит, и гипертония… Нервы надо беречь, они – основа здоровья…
Сам Ким свои нервы берег: все, что происходило в отряде и санчасти, было ему до лампочки. Но начальство ценило его, потому что хлебнуло горя с его предшественником, бравшим взятки за освобождения от службы и допившимся до белой горячки.
Старший лейтенант дал мне раунатин, затем подумал и прибавил настойку полыни. «Для аппетита», – сказал.
Future
Это была смежная комната в доме на двух хозяев с земляным полом, сырыми углами, с дырочками от мышиных норок в местах, где пол соединялся со стенами, с большой электрической лампой в бумажном абажуре. Маленький мальчик в этой комнате стоял у колен бабушки, сидящей на диване, обтянутом по второму разу тканью абстрактной расцветки.
Где-то за некапитальной перегородкой, со стороны соседей, слышался голос матери: она всегда уходила из дому, когда отец приводил «товарищев по работе» отметить очередной «калым».
Комната с диваном называлась залом, другая комната квартиры, в которой стоял большой стол и бабушкина кровать, в зависимости от сиюминутного назначения – была кухней, столовой, прихожей. Там – дым коромыслом: гости и отец нещадно курят папиросы, бросая окурки в старую черную пепельницу с ручкой в форме собаки с длинными ушами, пьют водку из граненых стаканов, закусывая квашеной капустой, хлебом и мороженым соленым салом.
– Дима, – раздается из кухни голос отца, – иди сюда…
Дима – мальчик послушный, он отходит от бабушкиных колен и идет к гостям в другую комнату. Там его появление встречают бурно, начинают тискать, шлепать по плечам и спине, говорить одно и то же:
– О, какой большой…
Потом ему дают со стола или из чьего-то кармана конфету и отправляют обратно.
Дима возвращается в зал, садится на диван. Он знает, что скоро разговоры на кухне станут громче, начнутся споры, стучание кулаком по столу, и тогда уже бабушка сама скажет ему идти на кухню и передать отцу, чтобы он больше не пил.
Второй его приход встречается менее шумно, но его снова начинают тискать, а он, сопя, пробивается к отцу и тихо шепчет ему на ухо:
– Не пей больше…
Потный, красный от водки и спора отец не слышит его. Тогда мальчик говорит громче, реакции по-прежнему никакой… После этого Дима кричит так, чтобы отец услышал его… Шум за столом стихает, гости ждут ответа отца, чтобы в зависимости от него смеяться или не смеяться над просьбой малыша.
Отец грозно хмурит брови, медленно поднимается с табуретки, рывком поднимает Диму с пола и ставит на освободившееся место.
– Никогда не говори так, никогда, – произносит он, грозя сыну пальцем.
Все пьяно хохочут, а отец снимает его с табуретки и, шлепнув пониже спины, подталкивает к дверям зала. Вслед мальчику раздается еще один взрыв смеха. Слезы обиды наворачиваются у него на глаза, когда он подходит к бабушке, та гладит его по голове и говорит:
– Непчем, непчем, ну…
А на кухне продолжаются споры о политике, часто слышатся фамилии Брежнев, Хрущев. Кто такие Брежнев и Хрущев, мальчик еще не знает и относится к ним так, как относятся его сверстники к фамилиям школьных учителей, у которых им когда-то придется учиться.
Так продолжается до тех пор, пока друг отца дядя Вася не принимается петь. Сначала он поет один, затем к песне подключается нестройный хор мужских голосов. Дима знает многие из этих песен наизусть, хотя не учил их специально, как учат дети под патронажем родителей стихи или песенку о маленькой елочке. Слова тех песен сами западали в душу и память мальчика, потому что сильно волновали его.
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море,
И ранней порой
Мелькнет за кормой
Знакомый платок голубой…
Но особенно трогала мальчика песня, в которой говорилось о том, как на фронте встречаются несколько старых друзей.
И новые слезы, уже не слезы обиды на взрослых, наполняли его глаза, это были слезы другого чувства, и тогда он прощал невнимание к нему отца, смех гостей. Ему казалось, что через все, о чем пелось в этой песне, прошли и дядя Вася, и отец, и все поющие. Это его отец командовал какой-то ротой, это он замерзал на снегу. Мальчишка не понимал, что отец слишком молод, чтобы воевать в то время, но вряд ли кто-либо мог разубедить его в этом.
На следующий день отец приходит домой трезвый, но мать устраивает ему скандал за вчерашнее. Она говорит, что у нее нет сил все это выносить, что отец должен подумать о ребенке, который растет как трава – сам по себе; что мальчишки во дворе смеются над ним, потому что его отец приходит домой пьяный, что отец не занимается воспитанием сына, а должен этим заниматься, потому что это – мальчишка, а не дочь, которой бы всецело занималась она – мать, а так… у ребенка нет игрушек, и он вынужден играть основами от катушек с нитками…
Отец хлопает дверью и уходит. Возвращается он поздно вечером пьяный в стельку и с блаженной улыбкой на лице. Двери квартиры отец открывает ногой, но не потому что ему так хотется. Иначе он не мог сделать – руки были заняты, ими он прижимал к груди немыслимое, по представлению Димы, количество игрушек из пластмассы, папье-маше и плюша. Сзади отца стояли два второклассника, Колька и Славка – верховоды малышни их улицы. Один из них держал в руках длинноухого зайца, другой – бабочку на колесиках с длинной палкой.
Колька и Славка были детьми разных родителей, но у тех, кто этого не знал, создавалось впечатление, что они братья: у обоих было плутоватое выражение лица, оба были до безобразия драчливы, оба имели на голове вихор, что подтверждало мнение – все вихрастые прирожденные задиры и заводилы.
Славка, он держал зайца, которого, видимо, потерял по дороге отец, молча поставил игрушку на пол у порога. Колька же не хотел так сразу расставаться с игрушкой. Он забежал вперед отца и стал показывать присутствующим, как бабочка хлопает крыльями, если ее покатать по полу.
– Она упала на землю, – пояснял он, катая бабочку взад и вперед по полу и получая неописуемое удовольствие, – и не сломалась, она не сломалась даже, когда дядя наступил на нее…
Дима растерянно смотрел то на мать, то на отца, но больше на мать, потому что не мог понять, чем же на этот раз она недовольна – отец принес игрушки, которые, по ее словами, так нужны ребенку.
У матери было правило не ругаться с отцом, когда он пьян, но на этот раз она не сдержалась… Бабушка в воспитательных целях одела Диму и вытолкнула на улицу, несмотря на то что был поздний вечер.
На улице, возле осевшей и начинающей чернеть под мартовским солнцем снежной бабы бесновались сверстники Димы и мальчишки постарше, под предводительством Кольки и Славки. В поселке не было принято «загонять» детей домой с наступлением темноты.
Увидев Диму, верховоды чуть ли не одновременно сказали:
– Ша…
И начали разыгрывать в лицах приход Веригина-старшего домой. Колька, несколько минут назад демонстрировавший работу бабочки, стал изображать отца. Он качался, мычал что-то, прижимал к груди воображаемые игрушки, ронял их, поднимал и снова ронял. Славка «играл» Диму, который стоял перед «отцом», кланялся, как китайский болванчик и повторял одну фразу:
– Папочка, спасибочки, папочка, спасибочки…
Нравы поселковых мальчишек не отличались деликатностью, но с таким проявлением несправедливости Дима столкнулся впервые. Он бросился на обидчиков. Однако обидчики ждали этого, они ловко сбили его на снег и принялись колотить руками и ногами. Диме быстро разбили нос, поставили синяк под глазом. Но это были пустяковые последствия ребячьей драки, физический результат. А вот последствия моральные были большими: сверстники Димы были отнюдь не на его стороне. Иначе не могло и быть, ведь колотили его не за то, что отец принес ему игрушки, а за то, что он «лез драться»…
Когда Дима вернулся – домой с улицы, скандал, чуть было затихший, вспыхнул с новой силой. Мать опять связала разбитый нос с пьянством отца и потребовала, чтобы он завтра же разобрался со шпаной.
Мать еще что-то кричала, отец говорил ей, что ребятишки сами разберутся. Бабушка мыла внуку лицо и шептала, заговаривая кровь… В тот вечер Дима услышал странное слово – развод.
Два дня Дима не выходил на улицу: рухнул мир, в котором он жил. Не было ему поддержки и внимания ни дома, ни на улице, куда мальчишки обычно убегают от домашних неурядиц. Отец допоздна задерживался на работе, мать нервничала и обсуждала с бабушкой возможность уехать в Новосибирск, устроиться там на работу, снять квартиру…
Но наступил третий день, и все изменилось, потому что на третий, после случившегося, день приехал брат отца дядя Гоша. Он служил на Дальнем Востоке, ехал в отпуск на Урал и заглянул по пути к родственнику.
Вечером третьего дня все проблемы семьи Веригиных отодвинулись на третий план. И причиной этого был дядя Гоша. Впервые за последние месяцы за столом в зале, а не на кухне, собрались все Веригины.
Дима сидел на коленях у дяди Гоши… Разговоры велись степенные, отец говорил без надрыва, хотя и выпил с дядей Гошей, не пытался перекричать собеседника, о политике вообще не говорил и даже песен не пел.
На следующий день дядя Гоша поехал в Новосибирск и взял с собой Диму. До электрички они шли в сопровождении сверстников Димы, высказывавших удивление, «почему Дима не выходит на улицу играть» и бесцеремонно рассматривавших дядю Гошу, который, несмотря на март был не в шапке, а в фуражке с черным бархатным околышем, в парадной шинели мышиного цвета, черных ботинках, до того начищенных, что в них отражалось весеннее солнце.
Поездка и сам Новосибирск произвели на мальчика разное впечатление. Ему было тоскливо на огромном железнодорожном вокзале, где над всеми людьми висело чувство временности… Он не мог понять, почему крыша цирка сделана наклонной. Удивил Диму и клоун, который все время плакал, но слезы лились у него не так, как у людей, а выбрасывались, как выбрасывается вода из спринцовок, из которых мальчишки обливают друг друга летом.
Но больше всего поразило Диму то, что дядю Гошу знают все военные. Увидев дядю Гошу, они приветствовали его, а он отвечал им, прикладывая открытую ладонь к козырьку фуражки.
– Дядя Гоша, – восторгался этому Дима, – вы только приехали в Новосибирск, а уже все вас знают…
И дяде Гоше пришлось объяснять Диме, почему военные знают друг друга. Из того объяснения мальчик понял, что люди в форме есть особое братство, и если бы они не знали друг друга и не приветствовали при встрече, то ничего бы не могли сделать.
– А что должны делать военные? – спросил тогда он.
– Защищать людей, – ответил ему капитан Веригин.
Наверное, с тех пор в подсознание Веригина-младшего запало: военные существуют для того, чтобы защищать людей… И подтверждало это то, что приезд дяди Гоши примирил отца и мать, помирил Диму и его поселковых сверстников. И может именно тогда начала зреть у него мысль стать военным, когда вырастет.
* * *
Шли дни, разделенные на четные и нечетные.
По вечерам я обычно вспоминал все, что сделал за день, и оценивал свои поступки. Если день проходил удачно, в маленьком госстраховском календарике ставил плюс, если нет – минус. За неделю моего командирства в календарике не появилось ни одного плюса – я проигрывал начисто.
В конце недели поймал наконец прораба и попросил поставить бригаду Гусейнова на отделку.
– Неразумно использовать отделочников на рытье траншеи, – сказал я ему.
Задерганный текучкой, выбиванием материалов и начальством, ежедневно бывающим на объекте, майор долго смотрел на меня своими выпученными глазами и прохрипел:
– Лейтенант, в рот те компот… Какие отделочники?! А… те, ну ты даешь. Ну да, у них всех бумаги, они все мастера. А ты знаешь, что эти мастера месяц назад под побелку масляную шпатлевку засобачили, а? А ты знаешь, что ее потом тонной извести не забелишь? Только стену вырубить, и все… специалисты… мне такие на отделке не нужны. И ты, лейтенант, не имей моды за мной с ходатайствами ходить. Ты делом занимайся, людей гоняй, чтоб не спали, из графика не выбивайся, а кого куда поставить, я буду решать. Понял?
За командирскими хлопотами я пропустил свое единственное командировочное развлечение – баню. В Моховом при комхозовской бане была отличная сауна-люкс с баснословной по тем временам ценой – три шестьдесят за час, и поэтому люкс не пользовался популярностью у местных жителей и его можно было запросто заказать по телефону из части.
Первый раз я заказал люкс на восемь вечера и вышел на дорогу за полчаса в надежде поймать попутку: в рабочее время доехать до поселка не составляло труда – водители государственного транспорта охотно брали голосующих на дороге военных, и путь до Мохового занимал от силы десять минут. Вечером же все оказалось иначе. По асфальтовому шоссе шуршащими снарядами проносились «Волги», «Нивы», «Жигули», «Запорожцы», и их водителям дела не было до одинокой фигуры в шинели и со спортивной сумкой под мышкой. Паскудное чувство собственной ущербности испытываешь, когда мимо твоей руки проносится очередной обладатель «счастья на колесах».
Понадеявшись на попутный транспорт, я опоздал на полчаса. Потом, наученный горьким опытом, стал выходить на час раньше, не теряя, однако, надежды, что меня все-таки подберет какой-нибудь добропорядочный частник. Но этого не случалось.
В поселке не видели разницы между сауной и русской баней и сами предлагали купить веник. Обитые сосновыми рейками стены люкса пахли смолой, вовремя срезанный веник отдавал березой, температуру в парилке можно было довести до ста десяти, и после интенсивной работы веником наступал момент, когда казалось, что сейчас ты вспыхнешь малиновым огнем и навсегда останешься на полке… Тут надо было останавливаться, выходить в состоянии, близком к обмороку, в мойку и падать в ванну с холодной водой, а затем отдыхать на обтянутой клеенкой кушетке в предбаннике, где, в отличие от подобных люксов, был свежий воздух, потому что умная голова неизвестного жестянщика догадалась сделать мощную вентиляцию.
В поселке жили друзья моих родителей. После бани я ночевал у них, а утром успевал на попутке в часть к разводу. «Жаль, что я пропустил баню… может, потому и простуда свалила меня», – думал я, разглядывая Силина, который по-прежнему мусолил книгу без корок, время от времени прерывая чтение отрывками песен из эстрадного репертуара:
Арлекино, арлекино,
нужно быть смешным для всех…
Книгу эту из Мохового привез ему я. Это была не Библия, не Коран и не Талмуд, хотя называлась она так же коротко, как и эти источники мудрости человеческого общества, – диамат. Я обнаружил ее на книжной полке в доме знакомых, когда отдыхал после очередной помывки. «Вот что мне нужно, – подумалось мне, – чтобы Силин не приставал с идиотскими вопросами».
Диамат поверг прапорщика в изумление: оказалось, что в нем «отражены все его мысли и теории». Но, подсунув Силину учебник, я отнюдь не избавился от вопросов. Наоборот, они посыпались на меня с новой силой уже в научной обертке философских терминов. Однако я теперь не отвечал ему с той добросовестностью, что месяц назад, потому что заметил – ответы его мало интересуют. Он спрашивал и слушал ответ, любуясь собой. Он, как рыбак из анекдота, не любил рыбу, но обожал процесс ее ловли. В нем крепко сидела несвойственная людям, физически крепким, страсть к демагогии.
Он мог долго рассуждать о своем согласии с тем, что все развивается по спирали (как будто без его согласия все было бы иначе), но затем подводил под это абстрактное правило конкретную ситуацию. Говорил, например, что раз в год он оступается и растягивает голеностоп, а так как по законам философии каждый разрыв происходит на более высоком уровне, он вынужден раз от раза лечиться все дольше…
Он и ко мне прилепил действие этого закона, безапелляционно заявив, что раз в десять лет я буду призываться в армию. Первый раз в шестьдесят девятом. Второй – сейчас, в семьдесят девятом, а третий – через десять лет, в восемьдесят девятом. «Как? – спрашивал он, и на его лице появлялось выражение восхищения собственной ученостью. – Десять лет – роковой круг, ничего не поделаешь…»
Своими вопросами и рассуждениями, после которых так и хотелось послать его к психиатрам, Силин мне надоел. И я понял, наконец, за что его так любит Шабанов и почему на итоговые занятия по марксистско-ленинской подготовке поручает ему готовить доклады и сообщения: проверяющим нравится его многословие.
Покровительство Шабанова выделяло Силина среди других прапорщиков и позволяло совершать поступки, за которые другие бы давно поплатились. Однако этой осенью Силин зарвался: разоткровенничался с проверяющим из политотдела. Проверяющий что-то не так отразил в справке, и Шабанов, рассвирепев, сослал Силина в командировку не со своим взводом.
Но опала мало тронула взводного. У него свой взгляд на трудности, он никогда не отчаивается и не унывает. Единственное, чего он не любит, это намеки на его физический недостаток – заикание. Ко всему остальному он относится стоически.
– Ерунда, – говорит он, – сейчас хреново, зато потом будет хорошо. – Или: «Чем хуже сейчас, тем лучше – завтра…»
У него на этот счет своя теория разработана. Называется она громко – теория полосатой жизни. Согласно ей жизнь состоит из черных и белых полос… Многие из ныне здравствующих и почивших уже отмечали эту закономерность, сравнивая жизнь то с тельняшкой, то со стиральной доской, то с зеброй. Но Силин пошел дальше, он не просто отметил такое чередование, а создал «учение», в соответствии с которым после неудачной, черной, полосы всегда наступает светлая…
Однако создателю теории никогда не увидеть своего имени в каталогах и энциклопедиях, так как практическая ценность «учения» сводилась к нулю невозможностью определить продолжительность полос во времени: они были то длинны, как марафонская дистанция, то коротки, как удар боксера. И даже Силин понимал это.
И все же, несмотря на страсть к дурацким рассуждениям и теориям, начетничеству, Силин – человек, с которым можно работать. Он служил срочную в погранвойсках и дослужился до старшины заставы. Уволившись в запас, учился в самолетостроительном техникуме, но что-то не заладилось у него на гражданке, и он написал рапорт в военкомат. Взводный он неплохой, но в душе он – старшина и с тряпками, нарядами, бельем и обмундированием возится с большим удовольствием, чем с бойцами на производстве…
Так же, как все,
Как все… –
заводит свою волынку Силин и вдруг, словно вспомнив о невыключенном утюге, срывается с места и мчится на улицу. Это называется у него «слетать за бугор»: квартира у нас без удобств, а голубое сантехническое устройство до подключения воды используется не по назначению – в него сливают изъятое спиртное.
– Комиссар, – прерывает мои воспоминания старшина, – Гребешок возвращается, я его с «бугра» видел, с электрички топает.
Озноб все еще беспокоит меня, но я чувствую – болезнь пошла на убыль. Я уже отвык от мысли, что Гребешков вернется. И вот он возвращается, а я не знаю, что с ним делать. Лучше бы он сразу ехал в часть, покаялся или представил справку, что в доме, где он жил, заклинило двери, и он не смог явиться в часть, либо случился такой-то локальный катаклизм, следствием которого и была его задержка.
– Шо буэм робыть, – неизвестно кого передразнивая, спрашивает Силин и плотоядно улыбается.
Я не знаю, что «робыть» с Гребешковым, и отвечаю шуткой:
– Дай ему месяц неувольнения и не трогай меня, мне через полчаса на производство…
– Е-е-сть, – радостно, как садист, увидевший жертву, говорит Силин, заикаясь от прилива одному ему понятных чувств.
В коридоре слышатся робкие шаги, и в комнату нашкодившим щенком входит Гребешков.
Увидев, что все командование роты на месте, он опускает на пол сумку, в которой находится что-то твердое и, щелкнув каблуками, орет:
– Товарищ лейтенант…
– Тихо, – говорит ему Силин, – видишь, лейтенанту плохо…
– Заболел? – переходит на уважительный шепот Гребешков.
– Так точно, – отвечает Силин, – болезнь века оэр… тьфу… нервное истощение по причине большого объема работы… Ты ко мне обращайся, я сейчас за него. Почему задержались, товарищ прапорщик?
– Понимаешь, Юра…
– Я вам не Юра, а исполняющий обязанности командира роты, усек?
– Усек, – скисает Гребешков.
– Ну, ну, – торопит его «исполняющий обязанности», – я слушаю.
– Ну приехал я в Н-ск, а там жена…
– При смерти лежит, – перебивает «исполняющий».
– Ну зачем ты так, Юра, – говорит Гребешков, – не при смерти, а при болезни…
– Все ясно, – прерывает его Силин, которому, во-первых, действительно все ясно, и, во-вторых, не терпится покуражиться: наказать Гребешкова «правами командира роты», – все ясно, месяц неувольнения вам, прапорщик Гребешков.
У Гребешкова чувство юмора отсутствует напрочь. Он щелкает каблуками, вытягивается в струнку и громче прежнего орет: «Есть месяц неувольнения». А потом вновь начинает оправдываться. С его слов, он четыре дня был у постели больной жены, а два дня искал для нас «Спидолу», чтобы мы в праздники не скучали.
Гребешков бросается к оставленной на полу сумке, вынимает из нее и с грохотом ставит на стол огромную, как чемодан, «Спидолу» первых выпусков.
– Подлизаться хочешь? – грозно спрашивает Силин. – П-п-подлизаться?
Но тут его притворно-грозное лицо принимает притворно-ласковое выражение.
– Слушай, Гребешок, – говорит он, – а не продать ли нам твою бандуру за литр спирта технарям? А? Комиссара спасать надо, комиссар загибается…
– Ты чо, Юра, – отвечает ошарашенный Гребешков, – ты чо? Она же сто семьдесят два рубля стоила.
– Эх ты, жадюга, – говорит Силин, – забыл суворовское правило… для комиссара пожалел… да комиссаров раньше грудью закрывали, понимаешь ты, потомок Чингизхана, г-г-грудью, а ты «га-а-а-армозу» пожалел… жмот… не ожидал от тебя, Гребешок, не ожидал…
– Да не жмот я, Юра, не жмот, – чуть не плачет Гребешков – он уже жалеет, что привез приемник, – я не потому… вещь дорогая… давай хоть за два литра продадим…
Гребешков вот-вот расплачется, и я прекращаю балаган:
– Хватит придуриваться, старшина в роту – готовить подразделение к празднику. Командир второго взвода Гребешков – со мной на производство.
– А чо это к празднику за три дня готовиться, – сопротивляется Силин.
– К большому празднику за неделю готовятся, – жестко отвечаю я, с радостью чувствуя кураж и желание отстоять свое распоряжение, – значит, болезнь проходит.
Надев шинель, я выхожу на улицу. Гребешков меньшим братом семенит за мной. Он рад, что я избавил его от насмешек Силина и необходимости продавать технарям приемник. То и дело забегая вперед, он слово в слово повторяет историю о том, как неделю сидел у постели больной жены и искал «Спидолу», чтобы нам в праздники не было скучно.
Мне хочется одернуть его, сказать: «Какая скука: праздник на носу, дел море, дохнуть некогда…» Но я молчу, ибо что Гребешкову мои заботы.
В первом подъезде мое появление с командиром второго взвода вызывает улыбки: от личного состава трудно что-либо спрятать.
– Что это вас не видно было, товарищ прапорщик? – говорит Кошкин, вбивая клин в промежуток между косяком и стеной.
– Приболел малость, – отвечает Гребешков, краснея…
– Святое дело, – усмехается ехида Кошкин, – я на гражданке по утрам тоже часто болел, а здесь, спасибо командирам, реже.
Гребешков понимает подкол, краснеет еще больше и начинает метаться по коридору будущей квартиры. Надо его уводить, иначе Кошкин еще что-нибудь придумает и лишит прапорщика последних крох командирского авторитета. Но просто так уходить нельзя – это будет похоже на бегство. Я трогаю косяк, говорю Кошкину: «Вбей еще один клин», – и иду к выходу, чувствуя, как Гребешков торопится вслед за мной, тыкаясь носом в разрез шинели на спине.
Future
В «задержке» Веригин пробыл до глубокого вечера. К тому времени он уже насиделся на лавке, находился по диагонали помещения и даже провел «бой с тенью». Тенью, разумеется, был старлей, который раз за разом получал короткую серию боковых ударов в голову, а затем сильный крюк снизу в печень.
Наконец за дверью комнаты раздались шаги, в скважине повернулся ключ и другой десантник кивнул ему головой:
– Выходи…
У окошка дежпома его ждал сопровождающий. Он повел себя как строгий и заботливый командир, пекущийся о подчиненном больше, чем о себе. Старлей осмотрел его с ног до головы и коротко произнес:
– Просьбы?
– Добраться до туалета, – так же коротко ответил Веригин.
Старлей сделал сочувственное лицо, вот, дескать, сволочи, не могли сводить человека, и повел Веригина в туалет.
На перрон они вышли, когда было уже достаточно темно. Электричка, на которой им надо было ехать, уже была готова отправиться. Они вошли в последний вагон. Людей в вагоне было немного, но поначалу им пришлось стоять, так как все сиденья были заняты.
Через несколько остановок рядом с ними освободилось одно место и сопровождающий потребовал, чтобы его занял Веригин. Дима не стал кочевряжиться, уселся и, помня старый принцип караульщиков, – минута сна – мешок здоровья, попытался уснуть. Но рядом освободилось еще одно место, на которое пристроился старлей. Он стал разговаривать с попутчиками, сидящими напротив, все время обращаясь к Веригину за подтверждением своих суждений. Веригину это мешало, но он все же отвечал на вопросы и, таким образом, давал понять окружающим, что он и старлей – люди одного братства. Делать это было необходимо, потому что разговорчивость старлея объяснялась просто – он боялся едущих в электричке пассажиров. Весна тысяча девятьсот девяносто второго года – не лучшее время для людей в офицерских шинелях. Пропаганда последних лет сделала свое дело, и старлей не чувствовал былого «единства армии и народа».
Сам же народ, в лице сорокалетнего мужика в болоньевой куртке и старой меховой шапке, с пристрастием допрашивал старлея:
– Вот ты, лейтенант, будешь в меня стрелять?
– Почему я должен в вас стрелять, – уходил от прямого ответа старлей.
– Ну, а вдруг тебе прикажут.
– Ну кто может приказать стрелять в мирных людей, – говорит сопровождающий и обращается к Веригину за очередным подтверждением.
– Э, не скажи-и, – произносит мужик и обводит взглядом вагон, в котором в одном конце какая-то полубандитская группа играла в карты, впрочем, к их игре лучше подошло бы слово «резалась», поскольку действие это сопровождалось возгласами, криками, матами; на крайних сиденьях во всю длину расположились два бомжа, вокруг которых было достаточно большое пустое пространство, никто не хотел сидеть рядом с ними, чтобы не вдыхать запахи свалки; несколько человек, среди которых выделялась женщина с красным испитым лицом, разливали в стакан остатки какой-то мутной жидкости. Молодой парень целовался с такой же молодой девицей в тамбуре, видимо, полагая, что их не видно сквозь стеклянные двери, а может быть и ничего не полагая, а просто плюя на все правила приличия. Разумеется, чистенький, надменный и холеный старлей не мог чувствовать себя своим в такой обстановке, а Веригин в своей солдатской шинели был ближе ко всей этой полунищей, полукриминальной массе.
Однако ночь сделала свое дело, Веригин уснул, прислонившись к оконному стеклу и проспал до конца поездки, до тех пор, пока старлей не стал будить его. Дима прошел хорошую школу караулов и умел просыпаться. Он открыл глаза, сообразил, где находится, нашарил вещмешок, поднялся с сиденья и пошел вслед за сопровождающим к выходу.
На платформе, куда они вышли из электрички, никого не было. Старлей, оставшись с Веригиным один на один, изрядно трусил, и Веригин, компенсируя свое недавнее унижение на вокзале, не удержался и посмотрел на сопровождающего взглядом, не сулящим ему ничего хорошего.
– Нам по этой дороге, – заискивающе сказал старлей, и Веригину расхотелось напрягать[7] его. Он поправил на плече вещмешок и двинулся по асфальтовой дороге, вдоль которой торчали столбы, с темневшими негорящими фонарями.
По дороге они шли долго, во всяком случае, так показалось Веригину, и за это время старлей ни разу не подошел к нему близко, держал дистанцию. Так они добрались до поселка, на окраине которого в темноте виднелись освещенные прожекторами несколько пятиэтажных зданий. Это была войсковая часть. О том, что это именно она, свидетельствовал еще один признак: здания были окружены забором, а забор имел железные ворота с огромными пятиконечными звездами. Рядом с воротами находился домик КПП.
Это была цель их путешествия. Веригин догадался об этом еще и по поведению старлея. Тот, наконец, обогнал его и стал стучать в запертую дверь КПП.
Дверь долго не открывали и Веригин мысленно обозвал всех, кто нес службу за нею, представителями военизированного колхоза. Не добившись результата, старлей дал Веригину команду продолжать стучать, а сам направился к окну. Но тут за дверью раздались шаги и звук отодвигаемого засова.
Веригин мгновенно сообразил, что сейчас может произойти, и позвал старлея. Старлей, чертыхаясь, пошел обратно, и вовремя, потому что дверь открыл заспанный солдат с черными погонами и эмблемами связи на петлицах. Увидев перед собой рядового, он счел, что тот темперамент, с которым стучали в дверь не соотносится со званием краснопогонника, и открыл было рот, чтобы сказать Веригину все, что он о нем думает, но тут же закрыл его, поскольку за спиной Веригина появился старлей, на лице которого было зверское выражение, не сулившее службе КПП ничего хорошего.
«Ага, – подумал Веригин, – здесь все же существует субординация, и это вселяет надежду…»
Он посторонился, давая старлею пройти, и двинулся вслед за сопровождающим, понимая, что в части они опять поменялись местами и впереди теперь будет старлей.
В комнате дежурного по части сидел капитан-танкист. Старлей доложил ему, что прибыл, вытащил из дипломата пакет, в котором, как догадался Веригин, были его документы, и бросил на стол.
– Все, – сказал старлей капитану, – я привез его, теперь ваши проблемы… Доложишь энша[8], что я на службе буду после обеда…
Потом старлей вышел из дежурки. Причем он даже не взглянул в последний раз на Веригина, прошел мимо, так же, как несколько минут назад прошел мимо него на КПП. Но Веригина это не обидело. Впрочем, о чем говорить и о чем сожалеть. Хорошо еще, что не пожаловался капитану на «недостойное» поведение рядового Веригина по дороге и не порекомендовал закрыть его до утра в какую-нибудь «кандейку»[9] или на гауптвахту, с него могло статься.
Когда старлей ушел, капитан кивнул Диме на стул и принялся звонить куда-то по телефону. Закончив разговор, он спросил Веригина о его гражданской специальности. Дима не успел таковой обзавестись и честно сказал капитану об этом, не стал врать, чтобы подороже себя продать. Капитан, выслушав его ответ, потерял к нему интерес и занялся разборкой каких-то бумаг.
В дежурке было тихо и тепло. Веригина стало клонить ко сну. Он клюнул носом. Капитан, увидев это, снял трубку телефона и грозно рявкнул:
– Третья… я долго буду ждать или вас потренировать надо?
Накачка капитана возымела действие. Уже через несколько минут в дежурку влетел рядовой с повязкой дневального на рукаве.
– Пристроишь в роте, – сказал ему капитан, – доложишь командиру. Документы до утра побудут у меня.
– Понял, – не по-военному заявил дневальный и, обращаясь к Веригину, сказал: – Пойдем.
– Погоди, – вдруг произнес капитан, как будто что-то вспомнив, – дай свой мешок.
Веригин поставил мешок на стол и хотел развязать его, но дежурный остановил его жестом. Затем он потряс мешок, прощупал его, «на предмет наличия бутылок» и отпустил Диму с миром.
– А если водка в грелке? – сказал дневальный, когда они вышли из дежурки. – А?
– Тогда ее не нащупаешь, – подыграл дневальному Веригин.
– Правильно, ты откуда?
– Из Новосибирска.
– Есть у нас твои земляки, – сказал дневальный.
Они зашли в расположение роты, где сопело и похрапывало добрых сто носов, дневальный ткнул пальцем в свободную койку, сказал:
– Поспишь пока без простыни, – и ушел туда, где горела сигнальная лампочка, стояла тумбочка, на которой сидел второй дневальный и клевал носом.
* * *
Вообще-то, комвзвода-два – неплохой парень, но, как говорит Шнурков, в роте должности хорошего парня нет, a есть должность командира взвода, а комвзвода он плохой, хуже некуда.
Срочную службу Гребешков служил в нашей части и, говорят, был примерным военным строителем: работал хорошо, не хулиганил, не ходил в самоволки, не пил водку. Мой друг и коллега замполит второй роты Горбиков назвал бы его со своей ученой колокольни хорошим функционером. И надо же было кому-то из командиров уговорить этого функционера пойти в школу прапорщиков. Впрочем, картина здесь ясная: в часть пришла разнарядка – «подобрать из числа дисциплинированных» – и его подобрали. Благо, тем, кто попадал в школу со срочной, давали возможность не дослуживать три месяца. На них, видимо, и клюнул будущий комвзвода-два, плохо представляя себе будущую свою жизнь. Из школы он прибыл с отличной характеристикой примерного курсанта, но… учеба в нашей жизни одно, а реальная армия и жизнь – другое. У Гребешкова нет внутреннего мужского стержня, он мягок, как каракатица, а мягкий командир в армии – абсурд. К тому же он побаивается подчиненных, а те это чувствуют и, если бы не положение командира, давно бы свернули ему шею. Изолированные мужские коллективы не любят слабых, говорит тот же Горбиков.
В общем, ждет Гребешкова до конца контракта незавидная, а может быть, завидная судьба человека, занимающего чье-то место, получающего чью-то зарплату и ничегошеньки не делающего. И уволить его не уволят – нет основания: он не расхититель, не пьяница, не дебошир, а за то, что он ничего не делает, не увольняют. Да и как бы выглядели показатели стройуправления, если бы оно представляло к увольнению командиров еще и за то, что они ничего не делают и не могут делать.
Опять показатели, все в них упирается. Не ради дела живем – ради показателей: ради них служим, на них равняемся, по ним судим, оцениваем. И стоит эта система оценок прочно, как старая кирпичная кладка на яичном белке, стоит и не собирается уступать какому-то делу ни сантиметра.
Мы вышли из первого подъезда и направились к ободранной и еще не крашенной двери второго. Поднимаясь по лестнице, я вдруг пожалел, что Гребешков вернулся: еще за ним придется присматривать, чтобы его, как Козлова, кто-нибудь не обидел. Но во втором подъезде на Гребешкова обращали внимания меньше, не пытались дразнить, и я подумал, что дела не так уж плохи и ему можно будет найти применение – в Моховое сходить за посылками, например, Силина разгрузить.
«И то польза», – успокаивал я себя, и хвостом тащившийся за мной Гребешков перестал меня раздражать.
* * *
На следующий день на вечерней поверке рядовой Литвяков сказал «я» голосом Кошкина.
– Где Литвяков? – спросил я у бригадира.
– Кто его знает, – ответил тот, – его уже с обеда нет. Но, я думаю, появится… к утру…
К утру Литвяков не появился, и я доложил в часть о случившемся. Там это никого не удивило: каждый отряд ежедневно докладывал в УНР о десятках «оставленцев». «Ищите», – только мне и сказали.
В строительных частях Сибво много лет живет легенда о том, как войска и милиция где-то под Красноярском искали вооруженного преступника: район блокировали, поиск начали, но пока до бандита добрались, в лесных избушках не одного военного строителя задержали. Жили они в лесу не тужили, а об их отсутствии в частях никто не знал, потому что друзья вовремя «я» на поверках говорили и порцию в столовой съедали, чтобы на глаза командирам не попадалась.
Может быть, и Литвяков пристроился где-нибудь в избушке? Нет, сомнительно: на улице холод собачий, да и характер у него не тот, чтобы по избушкам прятаться. Он либо домой на Алтай рванул, либо, что более вероятно, нашел женщину. Итак, «шерше ля фам», а искать надо или в Выселках, или в Н-ске, или в Моховом.
Перед обедом я с дежурным по роте осмотрел тумбочку и кровать Литвякова. В тумбочке ничего не оказалось, а под матрасом мы нашли три письма и записную книжку. Письма были от подруг, сведений о пребывании Литвякова они не дали, а только подтвердили мое предположение – нужно искать женщину.
– Литвяков первый бабник в бригаде, – сказал мне по дороге к ДОСу Тумашевский. Он чувствовал себя виноватым и замаливал свой грех:
– На его масляные глаза все бабы клюют.
В «штаб-квартире» я стал тщательно изучать книжку Литвякова. Это была обычная записная книжка солдата, у которой на корочке нарисованы каска и автомат, а под ними расположена надпись, больше характерная для колонии, чем для армии:
Кто не был, тот будет.
Кто будет, тот не забудет
Семьсот тридцать дней в сапогах.
Первые страницы занимали выписанные каллиграфическим почерком афоризмы, вроде: солдат – цветок в пыли; служба в армии – два года над пропастью; уход с поста – семь шагов к горизонту…
Ниже афоризмов шли стихи, чисто стройбатовские, в записных книжках бойцов строевых частей не встречающиеся:
Я бросал кирпичи, как гранаты,
Рвал ВСО у себя на груди…
Потом чуть ли не всю книжку занимала матерная переделка ершовского «Конька-горбунка», где сквозь цензуру к читателю могло пройти единственное:
Ну а младший сын-дурак
Сука умный был чувак.
Далее мое сердце порадовалось посвящению, в котором угадывались я и Силин:
Замполит мне мать родная!
Старшина – отец родной!
На хрена родня такая?
Лучше буду сиротой!
На предпоследней странице красовалась виньетка с надписью: «Люби меня, не забывай и не гуляй с другими!», а под ней переводная картинка – целующиеся голуби.
И только на последней странице были адреса и какие-то зашифрованные пометки. Одна из них гласила: «М. Кротенко Маша».
Если предположить, что «М.» – Моховое… Эту версию следовало проверить. Не зря же государство пять лет учило меня строить и проверять версии. Правда, то же государство использует меня не по назначению, но это уже другая сторона дела.
Оставив роту на Силина, я поехал в поселок: мне помнилось, что в нашем институтском потоке был кто-то из Мохового.
По дороге опять открыл книжку Литвякова. Эх, какой интересный материал для моего друга Сугробова. Сюда бы его, а меня на его место, подальше отсюда. Но у нас все не так, как надо: специалиста по разведению оленей направляют в Гагры, а виноградарей на Чукотку…
В коридоре райотдела милиции я нос к носу столкнулся с лейтенантом, у которого на петлицах были эмблемы следователя.
– О, – сказала лейтенант приятным тоненьким голосом, – впервые вижу тебя в форме. Где ты сейчас?
– Долго рассказывать, – ответил я, – мне помощь нужна…
– Прошу в мой кабинет, – сказала лейтенант гордо и широко открыла двери каморки, чуть большей, чем была у папы Карло под лестницей.
Пять лет мы регулярно виделись в коридорах и аудиториях юрфака, а познакомились только теперь. Лейтенанта звали Лена. Для приличия мы поговорили об альма-матер, вспомнили декана, преподавателей, курьезные случаи на экзаменах и перешли к делу.
Я попросил Лену установить по адресному всех Кротенко Маш в возрасте от шестнадцати до пятидесяти. На мое счастье, таких оказалось только две: одна была замужем и работала в фотоателье, другая значилась строителем, в графе семейное положение у нее стоял прочерк, и это вселяло надежду.
Лена отпросилась у начальника, надела шинель, водрузила на голову шапку, именно водрузила, потому что надеть ее обычным образом было невозможно, мешала пышная копна каштановых волос – ею она и запомнилась мне с институтских времен, и мы пошли по второму адресу.
На наш звонок открыла пожилая женщина в выцветшем халате. Она сказала, что Мария квартирует у нее, но сейчас перебралась ночевать к подруге Любке, живущей в шестнадцатиквартирном доме в конце улицы.
– Любка с мужем уехали в отпуск, а Мария сторожит от воров квартиру, – тараторила женщина, с любопытством рассматривая Лену.
Еще не зная, как найти квартиру Любки, мы пошли к указанному дому. На наше счастье, во дворе его было много малышни. Самые маленькие, похожие на колобков, лепили снежную бабу «до неба», постарше, разделившись на две «армии», играли «в войну», стреляя друг в друга из всех видов деревянного оружия.
– Та-та-та… бух… кх, кх, – слышалось со всех сторон. Решение созрело на ходу.
– Бойцы, – сказал я тем, кто держал в руках оружие, – где тут у вас дядя солдат живет? Кто покажет – тому эмблемка.
Самый бойкий из мальчишек сунул деревянный пистолет за ремень, подскочил ко мне и, выпятив живот, сказал: «Я».
Уже на лестнице он поинтересовался, есть ли у меня патрон (он имел в виду гильзу), узнав, что патрона нет, потерял ко мне всяческий интерес, ткнул пальцем в дверь однокомнатной квартиры и убежал обратно во двор, не вспомнив про эмблемку…
Я позвонил. В квартире никто не отозвался, но, как мне показалось, за дверью кто-то дышал. Я кивнул Лене, та поняла меня.
– Откройте, – сказала она своим приятным голосом, на который не мог не клюнуть бабник Литвяков, – за телеграмму распишитесь…
Загремела цепочка, щелкнул замок, и перед нами предстал военный строитель рядовой Литвяков в форме, но без ремня и в домашних тапочках.
– Товарищ лейтенант, – выдохнул он, и его масляные глаза заметались по сторонам.
– Так точно, – жестко сказал я, – собирайтесь.
Я не дал Литвякову опомниться: знал, дай ему такую возможность – начнет канючить, просить разрешения дождаться с работы хозяйки, самому приехать в часть и так далее. Не знаю, какие мысли были у него в голове, но всю дорогу до райотдела он молчал, и только когда я простился с Леной, приободрился: понял, что я не в тюрьму его повезу.
Ширококабинный ЗИЛ принял нас и довез до части. Здесь Литвяков окончательно пришел в себя и начал меня уговаривать: догадался, что его ждет.
Не заходя в роту, я привел его в «штаб-квартиру».
– Товарищ прапорщик, – сказал я валяющемуся на кровати Силину голосом, которым председатели нарсудов зачитывают приговоры, – вам придется съездить в отряд с самовольщиком Литвяковым: я не хочу искать его в Моховом в праздники…
Силин нехотя поднялся и стал одеваться. Не будь в комнате Литвякова, он бы, конечно, поспорил со мной, сказал бы: «Зачем его отправлять, или пусть его лучше Гребешков отвезет, все равно от него тут толку мало…»
– Если припозднитесь, можете не возвращаться, а переночевать дома, – добавил я и передал конверт, в котором был план проведения праздничных мероприятий, – пусть Шабанов утвердит.
Силин наконец собрался. Перед уходом он сказал Литвякову: «Без глупостей по дороге… я те не замполит», – и ушел, хлопнув дверью.
Спустя минуту они прошли под окнами, и до меня донеслись приглушенные стеклами слова Литвякова: «Я Копачу балду в узел завяжу: кроме него, никто не знал, где я должен быть…»
К вечеру Силин не вернулся, и я пошел на поверку вместо него. После отбоя возле тумбочки дневального провел стоячее совещание с бригадирами и активом.
– Как будем проводить праздники? – спросил я их. Посыпалась масса предложений. Спорили долго, пока я не взял власть в свои руки и не оставил два из них: провести викторину на знание истории и уставов армии и соревнования по поднятию тяжестей. В конце концов, все согласились, не догадываясь, что таким образом я «подбил» их предложения под свой план.
– А побэдител что? – спросил меня Мамедов-второй. Об этом я не подумал, но мгновенно нашелся:
– Командование выделило средства для поощрения победителей. Еще вопросы?
Вопросов не было. Я отпустил актив отдыхать и пошел к себе. В комнате было тихо. Желтоватая луна заглядывала к нам сквозь грязное стекло: все было как прежде, но я почему-то впервые почувствовал удовлетворение сделанным за сегодняшний день и, вытащив из записной книжки календарик, поставил в нем жирный плюс.
Future
Военный следователь капитан Бугай был человеком щуплым и невысоким. Глядя на него, казалось, что кто-то, раздававший людям фамилии, жестоко пошутил над ним, выдав ему ярлык, который не соответствовал содержанию.
– Фамилия, имя, отчество, – начал он разговор с Веригиным, демонстративно положив перед собой чистый бланк протокола допроса свидетеля.
– Веригин Никодим Антонович, – несколько растерявшись от такого официального начала, произнес Дима.
– Веригин, – тоном недоверия проговорил капитан, будто видел Диму насквозь и знал, что названная фамилия не является настоящей.
На гражданке Дима никогда не встречался со следователями, да и в армии тоже. Но он много читал о следователях, об их такте, уме, проницательности. Однако все это развеялось после первых фраз Бугая, поскольку манера поведения его, да и манера говорить сами по себе намекали на то, что сидящие перед следователем – ничто, и что бы они ни говорили, все это – лажа, и следователь говорит с ними только потому, что необходимо соблюсти некую формальность.
– Так вы утверждаете, что Ващанов избил Гуляева? Так написано в вашем рапорте.
– Да.
– Не да, а утверждаю, – тоном учителя начальных классов заметил следователь. – Вы видели, как Ващанов избивал Гуляева?
– Нет.
– Почему же вы это утверждаете?
– Я знаю, что они ссорились… Потом Ващанов ушел куда-то и вернулся пьяным.
– Почему вы считаете, что Ващанов был пьяным? Вы ведь не видели, как он употреблял спиртное.
– От него пахло водкой, и он был возбужден.
– Этого мало, чтобы обвинить человека в пьянстве.
«Что за дебил, – подумал Веригин, – я не обвиняю Ващанова в пьянстве».
– Мало, – повторил следователь, видя, что Веригин не отреагировал на его убийственную логику.
– Я думаю, достаточно.
– Он думает, – передразнил следователь, – он думает, он выдумывает… Все, что вы говорите, – предположение. Так?
– Наверное, если говорить о том, что я непосредственно не видел.
– А что же вы непосредственно видели?
– Я видел окровавленного Гуляева.
– Так уже и окровавленного. У Гуляева были разбиты губы.
– Раз вы все это знаете лучше меня, – сказал Веригин, – зачем меня сюда пригласили?
– Вас пригласили, – произнес следователь с упором на «вас», чтобы подчеркнуть официальность беседы, да и некоторую дистанцию между собой и Веригиным, – чтобы разобраться с происшествием, отделить факты от фантазий, курсантских фантазий. – Итак, что вы видели?
– Я видел Гуляева, у которого лицо было в крови.
– Хорошо, лицо у него было в крови, но почему вы решили, что Гуляева избил Ващанов? Ведь Гуляев мог упасть с лестницы и разбить себе лицо, у него в лаборатории могло что-нибудь взорваться. Могло?
– Могло. Но вряд ли это случилось в тот день.
– А что же случилось в тот день?
– В тот день я слышал, как Ващанов ругал Гуляева, слышал крики.
– Крики о помощи?
– Нет, крики избиваемого Гуляева.
– Ну, кто вам сказал, что избиваемого?
– Но это и так понятно…
– Кому понятно?
– Козе понятно, – не выдержал Веригин.
– Козе говоришь, – произнес следователь, – ну, ну… Грамотные все пошли… Подожди в коридоре…
Дима вышел в коридор и сел на скамью, длинную скамью, стоящую ву стены.
«Наверное так выглядят скамьи подсудимых, – подумал он, – ведь по делу могут проходить сразу несколько обвиняемых, и все они должны уместиться на одной скамье…»
Через некоторое время вышел Бугай, он закрыл дверь кабинета на ключ и пошел в сторону приемной.
«К начальству, на инструктаж», – точно определил Веригин – и оказался прав, потому что спустя четверть часа следователь вернулся окрыленный ценными указаниями и пригласил Диму в кабинет.
– Продолжим, – сказал он.
– Продолжим, – согласился Веригин и добавил: – Я хочу написать свои показания собственноручно… Закон предоставляет мне такое право.
– Собственноручно, говоришь, – следователь внимательно посмотрел на Веригина, – ну что ж, пиши.
Бугай дал ему чистый лист бумаги, из чего Веригин еще раз понял, что все, что происходит, – игра, поскольку показания писались или должны были писаться не в протоколе, а на чистом листе бумаги.
Веригин заполнял лист долго, хотя и написал немного. Следователь, получив лист из его рук, внимательно прочел, сказал:
– Ну, ну…
И отправил Веригина обратно в училище…
В училище Веригин поступил в 1991 году. Последний коммунистический набор, говорили о первом курсе того, года, последние советские курсанты.
Июль девятьсот девяносто первого, жара, скученность – пять человек на одно место. Правда, отбор начался еще до экзаменов, потому что жизнь абитуре в лагере сделали настолько жесткой и тяжелой, что те, кто пришел в училище, чтобы красоваться в военной форме, поняли – это слишком большая плата за возможность носить фуражку с кокардой и брюки с кантом.
Дима выдержал все: и скверную кормежку в столовой, и насмешки старшекурсников, гонявших их по утрам и все время напоминавших о том, что жизнь в училище еще ничего, а вот потом…
– Пять лет – один просвет, и двадцать лет беспросветной жизни, – капал им на мозги носатый четверокурсник Валек, выполнявший обязанности замкомвзвода.
Но Веригин интуитивно понимал, что это тоже элемент некоей игры. Училище не хотело брать случайных людей и устраивало отбор типично военными способами.
Последний экзамен он сдал семнадцатого августа. Восемнадцатого было воскресенье – день отдыха, а девятнадцатого радио сообщило о введении в Москве чрезвычайного положения. Военные – народ законопослушный и привыкли выполнять приказы, но приказы исходящие из единого центра. Если же таких центров будет два или больше, у военных может поехать крыша. Полигон, на котором жила бывшая абитура, а теперь первый курс примолк. Не спешили разъяснить обстановку строевые командиры, и только замполит роты лейтенант Мурханов знал все и обо всем и мог объяснить все и вся. Он тут же поведал, что начальник училища уже получил указание сформировать из курсантов последнего курса батальон и направить его в Москву…
Прошло два дня и все изменилось, изменился и замполит. Уже двадцать первого он провел очередную политинформацию, на которой проанализировал ситуацию, рассказал о том, что начальник училища, получив указание о сформировании батальона для использования его в столице, не выполнил его и тем самым спас училище от расформирования.
– А почему училище должно быть расформировано? – спросил замполита Веригин, – ведь училище готовит кадры для государства и расформировывается оно тогда, когда в кадрах нет потребности, а не тогда, когда его начальник не смог сориентироваться в политической обстановке.
– Ну вы демагог, Веригин, – только и сказал на это замполит.
Мурханов был выпускником военно-политического училища и отличался от выпускников училищ командных. Он не обладал громким командирским голосом, выправкой, командирской категоричностью, зато умел, как никто другой, держать нос по ветру, что было не менее ценно и создавало для него лучшие возможности для выживания и карьеры в армии образца начала девяностых годов двадцатого столетия.
Вскоре переворот забылся и начались курсантские будни: учеба, служба, такая же, как и у других курсов, за тем исключением, что первокурсников больше других посылали на хозяйственные работы, и не всегда в училище.
– Все это в порядке вещей, – говорили старшекурсники, – сначала тебя гоняют, потом ты будешь других гонять, сейчас ты на других пашешь, потом…
Идеалист Веригин в штыки воспринимал эту философию, но особо не возникал – вел себя как все.
В первый свой караул он попал в ноябре. Курсанты обычно заступали на службу в военные учреждения гарнизона. Первый свой караул он нес в здании прокуратуры гарнизона. За сутки пребывания там он узнал, что днем в прокуратуре находятся ее работники, а ночами в нарушение всех уставных правил – два лаборанта криминалистической лаборатории. Впрочем, лаборант по штату должен быть один, а два лаборанта находились в прокуратуре потому, что один из них – Ващанов готовился увольняться в запас и натаскивал» себе смену, только что призвавшегося Гуляева. Передача «участка» немного затягивалась, потому что Гуляев обещал сделать Ващанову дембельский альбом, «какого не было ни у кого…»
Второй раз в караул Веригин заступил через неделю. Был выходной день, сотрудников в здании не было. Стояла тишина, и только со второго этажа слышались приглушенные голоса лаборантов. Потом Ващанов вышел из здания и вернулся через час, как показалось Веригину, который был в это время на посту, пьяным.
Ващанов поднялся наверх и… Не надо было быть следователем, чтобы понять: что один собрат по оружию «учит службе» другого. Дело обычное, но в тот раз произошло то, чего, видимо, не ожидал ни Ващанов, ни караул. Гуляев дико закричал и бросился вниз под защиту часового. Веригин действовал строго по инструкции. Он вызвал на пост начкара. Тот отвел Гуляева в караульное помещение, заставил вымыться под краном и отправил его из здания прокуратуры в часть, где он был приписан, а само происшествие отразил в караульной ведомости.
По возвращении из караула и Веригину, и начкару пришлось давать объяснения командиру роты и замполиту. Правда должность последнего уже так не называлась, он был помощником командира роты по воспитательной работе.
И первый, и второй действия Веригина и начкара одобрили. Иначе не могло и быть: неделю назад замполит проводил с ними занятия, на которых говорил о том, что в армии США пышным цветом расцветает казарменное хулиганство, и что эта зараза добралась и до Российской армии, но у нас командование объявило ей решительную борьбу, и она, в скором времени, будет окончательно искоренена…
– Одним из факторов такого искоренения, – говорил бывший замполит, – есть «выявление всех случаев казарменного хулиганства и своевременное реагирование на него командования. Хулиганство нельзя скрывать, ибо скрывающий свою хворь – обречен».
Наверное, исходя из его последних слов будущие офицеры не стали прятать факт хулиганства и поступили так, как и должны были поступить…
Прошло три дня, и все опять изменилось, и тот же замполит заговорил с Веригиным и бывшим начкаром так, как говорят взрослые с неразумными детьми… Начкар – он же комод[10] Веригина, до училища уже отслужил срочную и кое в чем разбирался. Фамилия его была Щеглов, а поскольку он был родом из Черниговской области, имел кличку Щеглов-из-хохлов. Щеглов «мгновенно врубился» и согласился с тем, что «во время несения службы ничего не произошло». Ну, прибежал к нему в караул солдат, ну, отправил он его в роту, чтобы не болтался в служебном помещении в выходной день, но предполагать, что произошло у этого солдата с другим он не может, не присутствовал…
С Веригиным было сложнее: он называл вещи собственными именами.
На пятый день его и Щеглова пригласили в прокуратуру, именно пригласили, так сказал им замполит, а не вызвали. Командир роты выписал им увольнительные, и они поехали на автобусе тем же маршрутом, что ехали в караул на машине… Щеглов попал к одному из помощников прокурора гарнизона, Веригин – к следователю Бугаю…
В училище Диму ждал Щеглов, он приехал на полчаса раньше.
– Ну что? – спросил он.
– Подтвердил факт избиения, – ответил Веригин.
– А ты видел этот факт? – спросил комод.
– Нет, – ответил Веригин, – но ты же не дурак, чтобы отрицать, что Ващанов исколотил Гуляева.
– Не дурак, – сказал бывший начкар.
– Ну вот…
– А-а, – махнул рукой комод, – ты хоть знаешь, что Гуляев написал объяснение, что «употреблял спиртное и что-то там, в лаборатории разбил, а, разбив, испугался, что придется отвечать, заорал и побежал к часовому…» Тебе показывали его объяснительную?
– Нет.
– Конечно, зачем тебе ее показывать, ты же ничего видеть и слышать не хочешь.
– Но его на что-то купили.
– Возможно, но тебе какое до этого дело.
– Ну да, купили, – продолжал Веригин, не слушая Щеглова, – ему наверное, сказали, что Ващанова вот-вот уволят, а его все же возьмут лаборантом несмотря ни на что… Я не пойму только, зачем это им?
– Хм, – усмехнулся бывший начкар, – ты многое не сможешь понять, если не хочешь этого понимать… Прокуратура организация военная, она сама дрючит всех за неуставку, понял? А тут такое случилось в собственных стенах…
– И они стараются не выносить сор из избы, а наши командиры ей помогают?
– Да, но здесь есть еще что-то.
– Что именно?
– Кто-то решил прокуратуру этим случаем подставить и раздувает этот пожар… Ну, а ты оказался между молотом и наковальней со своей честностью и твердолобостью… Зря ты стал бодаться… Вот повесят на тебя ярлык правдолюбца – век не отмоешься.
– А что, правдолюбцем быть плохо?
– Не знаю, – сказал бывший начкар, – попробуй, расскажешь…
– А что же делать?
– Не вмешиваться в эти дрязги, они нас с тобой не касаются, это большие паны дерутся, а чубы будут трещать у холопов, если они, конечно, не сообразят, что их позиция нужна одной из воюющих сторон. Да, впрочем, ты ничего не сможешь доказать.
– Почему?
– Потому что ты в армии.
– Ну и что?
– А в армии иногда, в интересах службы, приходится называть черное – белым, а белое – черным. Это парадокс армии, но без него она не сможет выполнять свою задачу. Военнослужащий должен выполнять задачу, которая для гражданских может показаться абсурдной. Понял?
– Понял, и в чем-то даже согласен. Единственное, чего я не могу принять, так это то, что меня можно кормить дерьмом, и я его съем из корпоративных соображений, но требовать, чтобы я говорил, что мне вкусно…
– Да кому ты нужен, – сказал комод, – кто тебя будет спрашивать об этом, съел и достаточно… Ты слишком себя любишь.
– И все же я остаюсь при своем мнении.
– Как знаешь…
На следующий день у него состоялся такой же разговор с замполитом. Но начкар недаром назвал его упертым и твердолобым.
– Я пришел в училище, в армию, чтобы защищать других, а в этой армии не могут защитить человека от казарменного хулигана…
Замполит после этих слов прервал беседу и сказал Веригину, что тот свободен…
Возможно, на этом конфликт был бы исчерпан, но на следующий день его направили в санчасть, где с ним беседовал нервный, с клочковатой бородой врач, судя по идиотским вопросам, которые он задавал, – психиатр…
После разговора с психиатром Веригин понял: его поведение для всех является отклонением от нормы, а если так, то он не согласен с нормой и…
Веригин написал рапорт с просьбой отчислить его из училища.
Как ни странно, рапорт был подписан почти мгновенно. Никто не поговорил с ним, не поинтересовался мотивами: рушилась огромная страна, разваливалась армия, и каждая ее клеточка в этот момент думала о том, как выжить ей. Хотя давно известно, что клеточки выживают только тогда, когда думают и работают на весь организм, будь то организм человека или государства.
Равнодушно отнеслись к поступку Димы и его однокурсники. И только курсанты третьего и четвертого курсов прямо называли его дураком, но не за то, что он написал рапорт, а за то, что написал его слишком рано.
– Идиот, – говорили они Веригину, – рапорт надо писать, прокантовавшись в училище минимум два года, а так в армию загремишь и будешь в войсках за танками бегать…
* * *
Следующий день принес мне еще две радости: вернулся Силин и я нашел ключ к Ганиеву-второму, чего я вообще-то не ожидал.
День начался плохо: куда-то пропал Володин. Потом он появился взвинченный и дерганный. Я зачастил в подъезд, где работали плотники. Володин почувствовал контроль, но ничего не сказал, зато его шестерка Кошкин при моем появлении пел себе под нос: «Собака лаила, меня кусаила, за что кусаила, сама не знаила…»
В одиннадцать пошел на траншею. Там все было по-прежнему: работал один Гуссейнов, а бригада собралась вокруг Ганиева-второго. Тот сидел на корточках и выставлял на еще не сожженном поддоне кирпичи: два на ребро, один – плашмя на них. Ганиев намеревался показать свою силу, и показ этот был приурочен к моему приходу.
Стоящие вокруг Ганиева делали вид, что увлечены приготовлениями своего земляка и не замечают меня. Раздвинув их, я присел перед поддоном напротив Ганиева и резко ударил кулаком по кирпичу. Я давно не занимался подобными штуками, но сомнений у меня не было: во-первых, красный кирпич не такой прочный, как, скажем, силикатный; во-вторых, я знал секрет расколки – нужно не бояться боли и фокусировать удар в нижней части кирпича, а не на его поверхности; в-третьих, я был страшно зол и мог переломить без всяких восточных премудростей два таких кирпича.
– А теперь, – сказал я, отбросив половинки в разные стороны, – одно из двух: либо вы работаете, либо отдельных из вас я отправлю в часть. – И, чтобы это было наглядней, добавил: – Как Литвякова.
Бригада стала разбирать инструменты, однако Ганиев-второй так и остался у поддона.
Перед обедом я опять заглянул в пятую. К моему приходу все были в траншее, а Ганиев-второй сидел на корточках возле знакомой конструкции. Это было вызовом: я подошел к поддону и с коротким выдохом ударил. Дикая боль пронзила кисть, казалось, кости руки лопнули одновременно. Еле сдерживаясь, чтобы не въехать Ганиеву в ухо, я перевернул кирпич: мое предположение подтвердилось – это был спекшийся, пережженый кирпич, который и трактором не раздавишь.
– Такие не ломаются, – сказал я Ганиеву, медленно сказал, чтобы хватило сил и говорить, и не заорать от боли. Так же медленно и спокойно, будто ничего не случилось, посмотрел, как идет работа в траншее, произнес: «Наверстывать надо» – и пошел прочь.
Скрывшись с глаз пятой бригады, я посмотрел руку. Черная гематома начинала разливаться на ребре правой ладони. Подержав кисть в снегу, я пошел в ДОС.
После обеда я, не сдержавшись, пригласил к себе Ганиева. В стане земляков это вызвало настоящий переполох, потому что Силин сказал, чтобы он собирался «с вещами».
Ганиев-второй явился без обычной ухмылки: ему было не до шуток.
– Нэ нада в часть, нэ нада в часть, – начал он с порога, и я понял, что он – мой, но я не остановился на этом. Я показал ему почерневшую кисть и сказал:
– Это твоя последняя шутка в Моховом. Ясно?
– Ясна, ясна, – ответил он на «чистейшем» русском языке и закивал, как японский болванчик.
Вечером под сап и храп Силина и Гребешкова я прокрутил в обратном порядке весь день и нашел, что я заслужил еще один плюс. Но того, что называется удовлетворением от сделанного, не было, мешало неясное предчувствие беды, которая вот-вот должна была произойти согласно силинской теории полосатой жизни.
Засыпая, я вспомнил Шнуркова.
– За пятнадцать лет службы, – говорил он, – я не видел ни одного благородного сна. Нормальным людям снятся кони и лужайки, пляжи и женщины, я же и во сне продолжаю работать с личным составом…
«Наверное, и мне будет сниться личный состав», – подумал я, прежде чем перестал слышать Силина и Гребешкова.
7
Напрягать (сленг) – нервировать, причинять беспокойство.
8
Энша (нш) – начальник штаба.
9
Кандейка – «задержка».
10
Комод (сленг) – командир отделения.