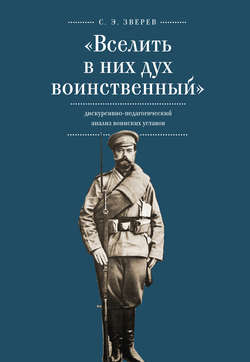Читать книгу «Вселить в них дух воинственный»: дискурсивно-педагогический анализ воинских уставов - Сергей Зверев, С. Э. Зверев - Страница 3
Глава 1. Воинские уставы Московского царства и Российской Империи
Воинские уставы Московского государства
ОглавлениеПервыми уставами, посвященными организации если не регулярного, то правильно устроенного войска, были, как известно, «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки» (1607) и «Ученье и хитрость ратного строения пехотных людей» (1647)[1]. Несмотря на то, что в целом они представляли собой переводные сочинения, в них уже содержатся указания переводчиков и составителей на цель и смысл воинской службы, опосредованно предъявляющие требования к морально-боевым качествам воинских людей.
Первые же статьи «Устава ратных, пушечных и других дел» посвящены описанию качеств командующих войсками. Обратим внимание, какое значение устав придавал личностным качествам. Так, о большом воеводе устав пишет, что на высшую должность подобает назначать «много испытнаго и в воинстве искуснаго мужа, который бы был ни стар, ни млад, ни злосерд; но тих, кроток, смирен, податлив и всегда во всех мерах остерегателен; вовремя добрым и разумным промыслом, и вовремя домыслом и лукавством, а показатися б ему ко всяким людем доброхотанием, желанием и хвалою другу и недругу» [167, с. 58]. Сегодня покажется удивительным, что полководцу требовалось быть приятным, скромным и сговорчивым, но нельзя забывать, что это было самое начало XVII столетия – века, когда центральная власть в Европе слишком сильно зависела от своих могущественных вассалов, чтобы разговаривать с ними повелительно. Главнокомандующему необходимо было уметь убеждать и располагать подчиненных к исполнению его приказов.
Надо сказать, что указанные качества привлекательны и в современном главнокомандующем, особенно организующем совместные или коалиционные операции. Для него умение добиваться взаимного согласия от представителей разных ведомств или государств неизмеримо важнее собственно полководческих достоинств. Блестящим примером таких дарований может служить А. В. Суворов, всячески смирявший в общении с австрийцами свой неистовый темперамент при организации операций антифранцузской коалиции во время Итальянского и Швейцарского походов. Из более близкого нам времени можно отметить Д. Эйзенхауэра и Н. Шварцкопфа.
От представителей высшей аристократии, вроде Великого Конде, Евгения Савойского или Мальборо, можно было требовать истинно воинских качеств. Фельдмаршалом, по уставу, следовало назначать «мужа храбра, сердцем смелаго, достаточнаго и избыточнаго, дальнаго разума и правдиваго, и в воинстве искуснаго» [167, с. 59]. И это понятно и обосновано: фельдмаршалу предстояло водить войска на полях сражений, под ядрами и пулями.
На должность большого окольничего, ведавшего снабжением, обеспечением войска и квартирмейстерской частью, устав рекомендовал подыскивать «многоразумнаго, испытаннаго и доброискуснаго мужа, который был бы честен и рассуден» [167, с. 61]. Чего же еще требовать от штабного работника и сегодня!
Можно заметить, что от людей, занимавших высшие командные должности, требовались, помимо воинской опытности, высокоразвитый интеллект, честность и умение вызывать к себе доверие подчиненных. Этим качествам командиров и начальников, к сожалению, не находится места на страницах современных отечественных уставов.
В «Уставе ратных, пушечных и других дел», предваряя изложение «указов», касающихся собственно организации службы, составитель, пространно рассуждая о том, что все люди от рождения различаются по степени призвания к воинским трудам, что допускает и оправдывает применение начальниками мер принуждения, тем не менее, определенно указывает, что и начальники и подчиненные объединяются в общей работе «не ради иннаго, точию да потщаться победити врагов и супостатов своих, и в том полагают свою славу» [167, с. 5]. Здесь звучат системообразующие для воинского институционального дискурса концепты героического пафоса «победа» и «слава», которые все реже можно встретить в практическом дискурсе современных военнослужащих. Например, автору этих строк за пять лет преподавания в Военно-морской академии ни разу не довелось услышать в офицерской среде разговоров, в которых фигурировали бы указанные понятия. Это конечно никоим образом не бросает тень на качество исполнения морскими офицерами своего воинского долга, но заставляет задуматься о направленности их личности, которая выступает осязаемым фактором в деятельности по обучению и воспитанию подчиненных. К великому сожалению, понятие «военная косточка» сегодня почти не употребляется; в армию и на флот, как показывают опросы, молодежь больше влекут практические соображения о приличном образовании, хорошем достатке и стабильности положения военнослужащего, чем такие идеальные понятия как честь, слава и служение. Хуже всего, что отсутствие осознанного стремления к победе и славе, а слава по самой своей этимологии предполагает деяния, о которых не стыдно поведать потомству, приучает к мысли, что война ведется не ради конечного преодоления зла, которое ее вызвало, и тем выхолащивает нравственное содержание вооруженной борьбы. Отсюда такую популярность даже и в массах населения приобрела идея гибридной войны, отрицающая ради достижения ограниченной, сиюминутной и весьма умозрительной цели вырабатывавшиеся тысячелетиями кодексы чести воина – единственного, что в какой-то степени возвышало дух человека, занимающегося таким суровым ремеслом как военное, и ограничивало проявление жестокости и насилия.
Конечно, победа и слава добываются только в бою, а бой в свою очередь предполагает поражение и уничтожение неприятеля, о чем прагматично замечает «указ» 45-й, трактуя, что лучшее испытание артиллериста есть война, «где против недругов встречно стреляют, и опознается вскоре мастер, потому что тут все увидят мертвые телеса[2]… а которой к такому делу не извык, и такой в пушкари не пригодится, хотя будет в нем всего света мудрость…» [167, с. 105]. С завидной прагматичностью устав учит, что от военного, несмотря на все сказанное выше, требуется в первую очередь результат, о котором нынешние боевые документы предпочитают выражаться эвфемизмами, за что после каждого вооруженного конфликта войска расплачиваются печальной статистикой психических травм и посттравматического стрессового расстройства.
Мудрости артиллерийского начальника устав предпочитал ответственность, исполнительность и смелость: «…подобает пушкарскому голове прилежну быти к делу, всякого приказу и смелу во всем»[3], т. е. те качества, которыми и сегодня делается всякая настоящая строевая карьера.
Во втором уставе чувствуется дыхание Тридцатилетней войны (1618–1648), на сто лет вперед опустошившей не имевшими морали бандами ландскнехтов Германию. Именно поэтому его текст начинается с отсылок к Священному Писанию, убеждающих на примере Иисуса Навина, Самуила, Давида и прочих персонажей ветхозаветной истории в том, что воинская служба есть дело божье, а «ратной чин есть Богу приятен, и им самим установлен и добром познан» [171, с. 18]. Историческая действительность, однако, сильно противоречила идеалу, недаром автор оговаривается пословицей, гласящей, кто не слушает отца и матери, тот послушает телячьей кожи (барабана), и замечанием, что богобоязненного ратного человека можно встретить не чаще, чем черного лебедя. Оттого воспитательная функция в «Ученье» выражена несравненно сильнее, чем в предыдущем уставе, более озабоченном профессионализмом воинов, нежели их нравственностью. «Ученье» же рекомендует государям и начальствующим над войском во избежание всеобщей пагубы и разорения «прежде искать божьей чести и искреннему своему прибыль» [171, с. 20]. В этом случае войны признавались справедливыми, особенно если они велись против иноверцев, язычников «и иных врагов христианского имене».
Новый для воинского институционального дискурса концепт «честь», отражающий требования к моральному облику воина, получит в России широкое распространение чуть позже, начиная с XVIII века, выражаясь в понятии «воинская честь». Пока же он свидетельствует о необходимости для каждого чина снискать добрым поведением милость, благословение и помощь Божию и «счастье», т. е. удачливость в трудах и бранях. Обращение к ценностям религиозной морали вполне объяснимо, если вспомнить, что в отсутствие только формировавшихся национальных ценностей Нового времени Тридцатилетняя война формально велась под знаменем ценностей религиозных, доступных обыденному сознанию и практической морали воинов, как о том свидетельствует следующий пассаж из обязанностей полководца: «Надлежит ему ведати как ему бога прямо почитати и служити, и салдатов, которые под ним есть прилежно и с радением в страсе божии держати, и чтобы они богу честь воздавали» [171, с. 21].
Мало того, добрая нравственность полагалась залогом профессионализма и высоких боевых качеств, поскольку воинский, рыцарский дух возгорается только в тех, кому подобает «быти зерцалу учтивости, чести и чювству». Об этом не мешало бы почаще вспоминать современным военнослужащим, особенно некоторым командирам, ошибочно полагающим, что грубость и брутальность есть непременная спутница мужественности и воинственности. Пример предков свидетельствует об обратном: «А как ныне меж иными нашими ратными людьми делается, не так как предки наши чинили, которые на недругов своих смелым и неробливым сердцем оружьем своим дерзали, руками своими смели прииматся и побеждати. А нынешние проклинанием и божбою себя хотят обороняти, мыслят и чают, как у них у всякого слова не по сту клятвенных бесчинных слов, что они тогда не ратные люди» [171, с. 286].
Реформы царя Алексея Михайловича внесли немало нового в русские воинские обычаи. Знакомство с европейскими методами ведения войн не всегда обогащало русскую традицию ратного служения. Хлынувшие в Москву после окончания Тридцатилетней войны оставшиеся без работы многочисленные наемники учили русских не только нужному и полезному, о чем свидетельствует приведенное выше язвительное замечание.
Падение незыблемого прежде русского благочестия и воинской нравственности, привычка полагаться на многочисленность и строевую выучку войска, воспитанного на усвоении иноземной механики войны в ущерб ее духу, выразилось в запальчивой фразе воеводы Василия Борисовича Шереметева: «При моих силах можно с неприятелем управиться и без помощи Божией!» Судьба судила ему убедиться в своей опрометчивости: после разгрома и капитуляции в сражении с поляками под Чудновым (1660) он 22 года провел в плену. Достаточно закономерно, на наш взгляд, что многолетняя борьба русских с Речью Посполитой при Алексее Михайловиче не достигла решительных результатов, сведясь только к взаимному истощению сторон.
Добрая нравственность, согласно уставу, выступала и основой войскового товарищества, боевой сплоченности подразделения и части, в которой «салдатом подобает, как братиям, жити, и друг при друге в войне стояти, и тела и живота своего не щадити» [171, с. 29].
Не лишено интереса в наш век всеобщей коммерциализации и замечание о том, что воинским людям подобает размышлять о том, как бы им «рыцарственно учинити и честь и славу себе получити»[4], а не уподобляться купечеству и торгашам, чая получить от службы материальные выгоды. Это, конечно, не означает, что армию можно содержать впроголодь, но чрезмерные заботы о хлебе насущном неизбежно ведут к умалению воинского духа; еще Иван Пересветов в своем послании Иоанну Грозному отмечал: «Пусть даже богатырь разбогатеет, и тот обленится. Воина содержать, что сокола кормить: всегда ему сердце веселить, никакой печали к нему не подпускать» [65, с. 609].
Очень важно, что «Ученье» не ограничивалось перечислением обязанностей воинских чинов, что стало уделом не столь уж далекого будущего и по наследству перешло в современные российские уставы – оно устанавливало, какими качествами должен был соответствовать тот или иной чин, например: «…та рота гораздо устроена, когда капитан печется о своих салдатах. А поручик мудр и разумен. А прапорщик весел и смел» [171, с. 64–65]. Это урок для нас: все многотрудные обязанности по занимаемой должности запомнить нелегко, да и очень уж это неприятное слово – «обязанности», очень уж отдающее принуждением, которому всегда противится человеческая природа, но вот соответствовать простым и привлекательным качествам, каждый может почитать за честь. А значит, в исполнении воинского долга рождается та почти немыслимая для нас сегодня приятность[5], с которой когда-то было сопряжено понятие о благородстве военной службы. И тогда не возникнет необходимость в ст. 2 современного устава внутренней службы, требующей от военнослужащих организованных действий, независимо от их желаний. Если нет желания – нет и надлежащего исполнения – это аксиома. В критической же ситуации, в бою, когда «и командиры все охрипли», по выражению Б. Окуджавы, именно сформированные воспитанием воинские и человеческие качества остаются тем поплавком, который препятствует психике низринуться в темные глубины страха и хаоса и позволяет сознательно исполнять служебные обязанности.
1
«Боярский приговор о сторожевой, станичной и полевой службе» (1571) относится все же к организации пограничной службы и здесь не рассматривается.
2
Трупы неприятелей, пораженных огнем артиллерии.
3
Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки. СПб., 1777–1781. С. 120.
4
Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. СПб., 1904. С. 29.
5
Например, мягкость в обращении была свойственна почти всем корпусным и дивизионным начальникам Отечественной войны 1812 года. По воспоминаниям Н.Е Митаревского, в отношении к войскам чувствовалось «душевное спокойствие и какая-то особенная снисходительность высшего начальства… что переходило и на низших начальников – все это располагало нас к приятному настроению» [116, с. 243]. Приподнятое же настроение есть основа боевого настроя, для формирования которого, по заповеди А. В. Суворова, следовало «забавлять и веселить солдата всячески».