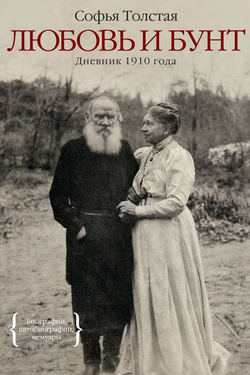Читать книгу Любовь и бунт. Дневник 1910 года - Софья Толстая - Страница 8
Бесконечно близкие и бесконечно далекие
Стеклянный дом
ОглавлениеТатьяна Львовна Сухотина вспоминала: «Наш дом был стеклянным, открытым для всех проходящих. Каждый мог все видеть, проникать в интимные подробности нашей семейной жизни и выносить на публичный суд более или менее правдивые результаты своих наблюдений. Нам оставалось рассчитывать лишь на скромность наших посетителей»[36].
Свидетелей и хроникеров событий 1910 года в семье Толстых было предостаточно. 14 июня Булгаков отметил: «Беседа шла в столовой при всех. Тут же записывали за Львом Николаевичем четверо и даже больше людей: Владимир Григорьевич, Алеша Сергеенко и другие. Этакое старание было даже неприятно, и я нарочно ничего не записывал»[37].
Окружающие великого Толстого уже давно начали фиксировать каждое его слово, богаты фактами были ежедневные яснополянские записки деликатного человека доктора Д. П. Маковицкого, вместе с тем в 1910 году не только расширился круг записывающих, но и, в отдельных случаях, появилась заданность в наблюдениях. Она была определена Чертковым. Если первые месяцы Булгаков отправлял ему копии своего дневника, то затем прекратил это делать, усомнившись в чертковском бескорыстии. В яснополянской истории лета и осени 1910 года этот молодой человек, иногда попадая в сложные ситуации, придерживался нейтралитета.
Александра Толстая и ее подруга и одновременно секретарь С. А. Толстой – Феокритова начали вести дневниковые записи по возвращении Толстого из Крёкшина в Ясную Поляну от Черткова, и, по-видимому, по настоянию последнего. Их внимание было сосредоточено по преимуществу на отношениях Льва Толстого с женой. С этими записями, доставлявшимися в Телятинки, знакомились супруги Чертковы и А. Б. Гольденвейзер, так они ежедневно были в курсе всех подробностей яснополянских баталий.
Сам угол зрения в воссоздании картины внутрисемейных отношений у Александры и у Варвары Михайловны был разным. Александра Толстая решительно не принимала в адрес своего отца осуждения тех современников, которые полагали, что Толстой, живущий в роскоши, первым же не придерживался собственного учения. Дочь признавала существование этого противоречия, однако, обращаясь к семейной драме, была уверена: отцу гораздо легче было бы уйти из дома, чем остаться. Лев Толстой, как виделось ей, приносил себя в жертву.
Положение Александры Толстой было весьма сложным: в центре внимания многих людей оказались отношения между ее матерью и отцом. Александра была поздним ребенком в семье Толстых, она, в отличие от старшей сестры Татьяны, уже не застала счастливую пору в отношениях родителей, на долю младшей дочери выпала заключительная и самая сложная часть их совместной жизни, и ее рано постигло чувство разочарования в матери. С юных лет и до конца своих дней Александра Львовна была верна делу отца, однако и мать – при всей сложности их взаимных отношений – оставалась матерью. В беседе со своим племянником Сергеем она вспоминала: «Мне было только двадцать лет… когда я осталась одна с родителями во время самого тяжелого периода их жизни. <…> Я была слишком молода и глупа, чтобы объективно оценить ситуацию»[38].
Положение Феокритовой было иным. Она не любила Софью Андреевну, не доверяла и не сочувствовала ей. Не случайно именно Феокритовой принадлежат записи тех эпизодов яснополянской жизни, о которых другие, если и оказывались их свидетелями, из деликатности все-таки не писали. Существуют факты, фиксация которых отнюдь не способствует углублению понимания происходящего. Напротив, их введение в круг осмысляемого не столько приближает к существу, сколько отдаляет от него, искажая и нарушая некую общую иерархию в соположении фактического материала, неизбежным следствием чего становится опасность перенести акцент с трагических сторон конфликта на сниженно-бытовые, что и произошло в дневнике Феокритовой.
Вокруг супругов Толстых было много молодых людей: Александра Толстая, Булгаков, Гольденвейзер. Они (правда, в меньшей степени это относится к Булгакову), в силу максимализма, присущего молодости, ждали от своего Учителя решительности в отношении жены, твердости и последовательности. Они готовы были видеть в его поступках терпеливость и кротость, но задуматься над драматической сложностью взаимоотношений двух любящих друг друга людей – вряд ли.
Александра Львовна и Феокритова, как, впрочем, и Чертков, чаще всего усматривали в поведении Софьи Андреевны корысть и притворство. Чертков, писавший в 1922 году об уходе Толстого, отстаивал важнейшую, с его точки зрения, мысль: при осмыслении отношения Толстого к жене нужно исходить из идеи непротивления злу насилием. Чертков, обратившийся к яснополянской трагедии, твердо настаивал на самоотверженности и жертвенности Льва Толстого.
Сергей Львович Толстой думал иначе: «Не знаю, ушел ли бы отец из Ясной Поляны, если бы не было завещания. В своем дневнике он писал, что его роль „юродство“; под этим словом он понимал осуждение людской молвой человека за видимое, но не действительное противоречие между верой и образом жизни; а перед своим уходом из Ясной Поляны он сознавался Марье Александровне Шмидт в своем желании уйти из дома как в слабости. И может быть, он бы не ушел, если бы не создалось в Ясной Поляне интриги вокруг завещания»[39].
У каждого из участников тех событий было свое понимание семейной трагедии Толстых. Тот же Лев Львович Толстой позднее, в своих парижских публикациях, указывал на другие ее стороны. Иначе и быть не могло: масштаб яснополянской истории лета и осени 1910 года – масштаб трагедии, когда в неразрешимом противоречии сошлись земная истина и истина духовного идеала.
В той необыкновенно сложной яснополянской ситуации, в центре которой стоял спор о смысле жизни между Толстым и женой, особую важность обретала способность каждого из его многочисленных свидетелей к сердечному участию и милосердию к ним, ибо сам Лев Толстой был уже стар, а С. А. Толстая, не выдерживающая напряжения борьбы с Чертковым, душевно не вполне здорова.
36
Сухотина Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода // Сухотина Т. Л. Воспоминания. М., 1976. С. 369.
37
Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. С. 246.
38
Толстой С. М. Дети Толстого. Тула, 1994. С. 223.
39
Толстой С. Л. Очерки былого. С. 249.