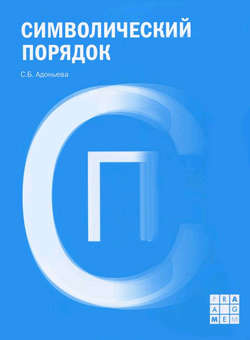Читать книгу Символический порядок - Светлана Адоньева - Страница 3
1. Политика и риторика мусора
ОглавлениеПовседневная практика выстроена на определенных, повторяющихся из раза в раз последовательностях действий, обычно воспроизводимых без какой-либо рефлексии. После работ Мишеля де Серто[11], Альфреда Шютца[12], Ирвина Гофмана[13], Гарольда Гарфинкеля[14] в науках о человеке и обществе достаточно прочно укоренилось понимание того, что повседневность с ее рутинными практиками прямо связана со структурой сообщества, с системой ролей и статусов, с формами ментальности и поведенческими тактиками[15]. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что именно латентность, неосознанность производимых ею смыслов делает рутинную практику механизмом социального форматирования: «Смысл, – писал Альфред Шютц, – это не качество, присущее определенному опыту, возникающему в нашем потоке сознания, а результат интерпретации прошлого опыта, увиденного из настоящего сейчас при рефлексивной установке. <…> Только тот опыт, который можно вспомнить вне зависимости от его наличия в настоящем и который можно изучить на предмет его строения, является поэтому субъективно осмысленным. Но если согласиться с этой характеристикой смысла, то существует ли вообще такой опыт моей спонтанной жизни, который субъективно не осмыслен? Мы думаем, что ответ утвердительный. Это простые физиологические рефлексы, например, коленный рефлекс, хватательный рефлекс у детей, моргание, покраснение; более того – определенные пассивные реакции, вызванные тем, что Лейбниц называет проскальзыванием неразличимых и смешанных малых восприятий; далее – моя походка, выражения моего лица, мое настроение, те проявления моей спонтанной жизни, из которых следуют некоторые характеристики моего почерка, доступные графологическому толкованию, и т. д. Все эти формы непроизвольной спонтанности переживаются в процессе своего появления, но не оставляют никакого следа в памяти; как опыт, они, если снова воспользоваться термином Лейбница, лучше всего подходящим в данном случае, воспринимаемы, но не апперцептивны. Будучи неустойчивыми и неотделимыми от окружающих переживаний, они не поддаются ни очерчиванию, ни вспоминанию. Они принадлежат к категории сущностно актуального опыта, то есть они существуют исключительно в актуальности их переживания и не могут быть схвачены при помощи рефлексивной установки»[16].
Есть все основания полагать, что за счет таких нерефлексируемых повторяющихся действий и удерживается во времени реальность[17]. До тех пор пока привычные действия воспроизводятся автоматически, они являются мощнейшей силой воспроизводства ценностей и правил, дискурса и практики.
Обычно взрывы в культуре и социуме, оборачивающиеся преобразованием реальности, происходят тогда, когда вдруг возникают затруднения именно в такой, обыденной сфере. Затруднения, возникающие на малых социальных пространствах, могут иметь следствием изменения революционного порядка, поскольку затруднения обнаруживают смыслы, стоящие за стереотипными действиями, открывают их для осознания, а следовательно, делают возможным их изменение. Как показал Гарольд Гарфинкель на своих социальных экспериментах, мельчайшие нарушения обыденного порядка с огромной скоростью выводят отношения в зону конфликта[18].
Объясню этот механизм на примере истории падения сегрегации в США. Сегрегация действовала в южных штатах на законодательном уровне. По этому закону в общественных местах были отдельные ряды для белых и для цветных. Началом изменения этой ситуации были не речи Мартина Лютера Кинга. Началом были усталые ноги Розы Паркс, пожилой афроамериканки, которая не смогла в какой-то момент устоять и села в автобусе на место для белых, поскольку все места для черных были заняты. Это случилось в декабре 1955 года (Монтгомери, штат Алабама). За отказ встать с места для белых пассажиров она была арестована. Ее арест привел к бойкоту, который объявило черное население города автобусам: они стали перемещаться к месту работы только пешком и, следовательно, опаздывали. Именно этот инцидент спровоцировал движение за расовое равноправие в США. Через год Верховный суд США признал сегрегацию в рейсовых автобусах антиконституционной. Знаменитая речь “I have a dream” Мартина Лютера Кинга (в 1955 году служившего священником в церкви в Монтгомери), произнесенная им у подножия монумента Линкольну и обращенная к 300 тысячам слушателей, прозвучала через восемь лет после этих событий.
Очень маленькие, почти физиологические, события, нарушающие привычный порядок, способны запускать изменения огромного масштаба, поскольку бессознательно автоматически воспроизводимые обыденные действия людей и групп и обеспечивают незыблемость социальных институтов.
«Нет ни одного предмета одежды, никакой еды, ничего, что используется в любых практических целях, – отмечала Мэри Дуглас, – что мы немедленно не постарались бы превратить в театральный реквизит, желая как можно лучше представить свои роли и сцену, на которой мы играем»[19]. Но еда, одежда, как и любая иная обыденная практика, могут обнаружить свою театральность, условность только тогда, когда происходит сбой в системе: только резкое изменение в стиле одежды приводит к пониманию того, что одежда – не эстетическое предпочтение, а условие включения в сообщество, только отказ от общесемейных трапез обнаруживает, что эти трапезы были не только утолением голода, и т. д.
Именно поэтому малозначимые на первый взгляд но обладающие невероятной устойчивостью коллективные обыденные практики столь интересны: они дают возможность увидеть те смыслы, которые человек и сообщество не выговаривают никаким иным способом.
К одной из таких практик можно отнести практику избавления от мусора и отношений с мусором[20].
Эта тема привлекла мое внимание, когда Ли Чже Чжун, моя аспирантка, в своей диссертации, посвященной русской и корейской мифологиям, описала духа, которого корейцы называют Токкеби. В Токкеби превращаются хозяйственная утварь или орудия земледелия (молот, цеп, серп, веник, кочерга, пест, шумовка, гребень и пр.). Старые, слишком долго используемые вещи порождают независимо от действующих личностей духов Токкеби. Дух заводится в вещах, которые все еще находятся в употреблении, хотя их время уже вышло. Таким образом, в народных представлениях Кореи персонифицируется некое качество, связанное с мерой времени и представлениями о времени пребывания вещи в человеческом мире: граница между существованием предмета в человеческом мире и исторжением из него маркирована посредством мифологического персонажа. Старые вещи подлежат уничтожению, их нельзя просто выбросить, иначе в них заводятся духи[21].
Это мифологическое представление заставило меня вспомнить наш полевой опыт, связанный с мусором, он складывался в результате многих сезонов фольклорных экспедиций, проведенных в достаточно отдаленных селах и деревнях Русского Севера (Вологодская, Архангельская области).
Одно из драматических переживаний горожанина, перемещающегося на какое-то время в русскую деревню, состоит в понимании того, что он все время производит мусор. Драматизм, или, скажем мягче, затруднение связано с тем, что когда ты намереваешься совершить обыденное действие – отправить ненужные предметы и сор в мусорное ведро, ты этого ведра в крестьянском доме не находишь. На глазах у всей деревни мы искали место, где мы могли бы упокоить производимый нами мусор. Каждый раз наши поиски привлекали внимание: деревня мусор (нечистоту) не производила – мы же делали это постоянно.
Не находишь ты такого места (ведра – в доме, свалки или мусорной ямы – в деревне) потому, что его нет: в деревне нет идеи отходов. Все, что человек производит, не уничтожается. Все подлежит преобразованию в новое качество: навоз используется в качестве удобрения, остатки еды дают корм скоту, остатки одежды преобразуются в лоскутные одеяла, вязаные накидки и плетенные из лоскута коврики, сухой мусор сжигается и дает тепло:
«А бумагу или чего – колбасу чистишь, никогда не выкидываю, все в печурочку. На сошке, а потом все в пече сожгу, на улице моего ничего нету»
(ФА СПбГУ Сям24-351)[22]’
«Пол подметаешь, да и в печь.
Говори: сор в печь, а тоска с плеч»
(ФА СПбГУ Пин20-268)[23].
Различие в практиках обращения с мусором может быть проиллюстрировано следующими примерами. Когда мы вновь посетили сельских жителей, к которым приезжали несколько лет подряд, мы обнаружили, что оставленный нами мусор за это время был преобразован в полезные вещи[24]. Полиэтиленовые пакеты были разрезаны хозяйкой на лоскут, из него созданы плетеные коврики на стулья. В пластиковых банках жила рассада. Попадающая в деревню неэкологичная тара находила и находит себе применение. Из пластиковых бутылок сделаны водостоки, из консервных банок – игрушки, из стеклянной тары сложена теплица.
Рис 1. Фото Уорнер: самодельные коврики из обрезков тканей. (Вологодская область).
Рис. 2. Фото О.И. Гореловой: лоскутное одеяло (Вологодская область).
Рис. 3. Фото Д.К. Туминас: шкатулка из старых открыток (Вологодская область).
Рис. 4. Фото И.Ю. Борисовой: игрушечные столик и стулья из консервной банки (Вологодская область).
На фотографиях, которые были сделаны в деревнях Вологодской и Архангельской областей, шкатулка, сшитая из старых открыток, игрушечный столик и кресла – из консервной банки.
Другой пример, коммуникативный, из разговора, который состоялся в одном из магазинов Белозерска лет десять назад. В ответ на мои сетования по поводу отсутствия в городе канализации молодая женщина – продавец разговорилась со мной на тему различий между городом и деревней. Ее пафос состоял в следующем: то, что городские расточают, деревенские собирают. Речь шла о биологических отходах (фекалиях). Ватерклозет, по ее мнению, представляет собой совершенно неразумное устройство, поскольку вынуждает избавляться от того, что для любого крестьянина является ценностью: благодаря навозу тучнеют огород и поле. Отсутствие канализации, вызывающее недоумение приезжих, получило свое объяснение: жители Белозерска не стремились к устройству общегородской системы канализации. Каждый житель связан с деревней напрямую (там живут родители или часть семьи), и каждый второй имеет свой собственный огород на окраине города.
11
de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. Berkeley 1984.
12
Шютц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003.
13
Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961; Goffman E. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York, London, 1974.
14
Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных действий // Социологическое обозрение. М., 2002 № 1. С. 42–70.
15
Этот список может быть расширен за счет историков, занимающихся историей повседневности, за счет антропологов, занимающихся практиками сообществ.
16
Шютц А. О множественности реальностей // Социологическое обозрение. М., 2003. № 2. Т. 3. С. 4.
17
Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 201.; de Certeau M. The Practice of Everyday Life. University of California Press: Berkeley. 1984.
18
Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007.
19
Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., 2000. С. 102.
20
Ср.: Бердникова О., Ткач О. «Грязная деревня» и «замусоренный город» (обыденные практики обращения с мусором в разных сообществах) // Антропологический форум. СПб, 2008. № 8. С. 338–352.
21
Ли Чже Чжун. Былички о лесном духе в корейской и русской фольклорной традициях: опыт сравнительной типологии. Канд. дисс. СПбГУ, 2011.
22
ФА СПбГУ – фольклорный архив Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь и далее ссылки на архив приводятся в скобках после текста.
23
О ритуальных функциях сора см.: Кушкова А.Н. Сор в славянской традиции: на границе «своего» и «чужого» // Проблемы социального и гуманитарного знания. Сб. научн. работ. СПб,1999. Вып. 1. С. 240–272.
24
См. Веселова И.С. Тряпичная парадигма, или «В рипках родились, в рипках жили, в рипках и помрем // Антропологический форум. 2005. Вып. 2. С. 289–316.