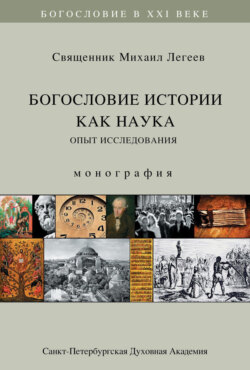Читать книгу Богословие истории как наука. Опыт исследования - Священник Михаил Легеев - Страница 16
Раздел I. Формирование богословия истории в церковной мысли: ключевые вехи
Глава 1. Историзм Библии как основание богословия истории
1.4. Традиции апостольского богословия истории и их преемство в Церкви
1.4.1. Послания апостола Павла
ОглавлениеЗнаменитая мысль ап. Павла об «оправдании верой» (Рим. 5:1) направлена к истории отдельного человека. Утверждаемая животворящей силой Божией (1 Кор. 2:5; ср. 2 Кор. 4:7; Гал. 3:11; 2 Фес. 1:11 и др.), открываемая Христом (Кол. 1:17,23; 2 Фес. 3:3 и др.) и вкореняемая Духом Святым (Гал. 3:14), вера изображается им как постоянное и перманентное («твёрдое», стойкое (2 Кор. 1:24)) начало духовного пути, этой малой священной истории, задающее её генеральный вектор движения к Богу (Рим. 4), «жизни для Бога» (Рим. 14:6–8), покоя всякой самости (Евр. 4:9) и духовной «простоты во Христе» (2 Кор. 11:3), «прямизны» (Евр. 12:13) и «совершенства» в значении точного направления этого движения (2 Тим. 3:17; Евр. 6:1). Этот вектор задан крещением (Рим. 6:2–11), но он призван и к сохранению в последующей жизни в уме (Рим. 12:2; Еф. 4:23; Тит. 1:15)[93] и сердце (Рим. 10:9–10) человека, к поддержанию его непрестанным водительством Божиим «к покаянию» (Рим. 2:4; 2 Кор. 7:10).
Утверждая путь веры, апостол Павел подчёркивает духовную динамику священной истории человека, её «преуспевания» (1 Фес. 4:10), изменения её «от веры в веру» (Рим. 1:17; ср. Кол. 2:7), «от славы в славу» (2 Кор. 3:18), от младенчества к созреванию «совершеннолетия» ума (1 Кор. 14:20; ср. 2 Кор. 13:9). В его посланиях присутствует мотив устремлённости, ожидания, но ещё не окончательного свершения в церковных членах со-бытия со Христом (Рим. 8:11,13,18 и др.). Священная история отношений человека и Бога простирается от пребывания во младенчестве (1 Кор. 3:1–2; 13:11 и др.), через обладание «начатком Духа» (Рим. 8:23), видения Бога «отчасти» и «как бы сквозь тусклое стекло» (1 Кор. 13:9,12), к «пути… превосходнейшему» (1 Кор. 12:31), а затем и к знанию и видению «совершенному», «лицом к лицу» (1 Кор. 13:10,13), «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13). Личная история изображается ап. Павлом как постепенный путь преодоления «колебательности» воли (Еф. 4:14), изменения колеблющегося в «непоколебимое» (Евр. 12:27–28; ср. 10:38–39). Этот путь не только линеен, но также и перманентен, призван к постоянному совершению (ср. Евр. 3:13). Кажущееся противоречие между «жизнью по духу» (Рим. 8:9–10) и противоборством духа и плоти в самом человеке (Рим. 7:25,15,19) лишь подтверждает векторность и незавершённость священной истории человека. Лишь второе пришествие Христово «утвердит… до конца» этот путь (1 Кор. 1:7–8).
Опорными точками этого процесса становятся меры веры (Рим. 12:3; ср. 2 Кор. 10:13), которые человек оказывается способен исполнять собственным «испытанием» (2 Кор. 13:5), «совершением своего спасения» (Фил. 2:12), «подвигом» (1 Тим. 6:12), неослабевающим усердием, терпением и постоянством в обращении к Богу («пребыванием в благости Божией») и добрых делах (Рим. 12:11–12; 2:7; 11:22; 2 Кор. 6:1; 1 Фес. 3:5), стремлением к достижению и приобретению Христа (Фил. 3:8,11–16), непрестанным «преуспеванием», преодолением самого себя в собственной истории (1 Кор. 15:58). Образы бега (1 Кор. 9:24), трудов сеятеля (2 Кор. 9:6; Гал. 6:7), украшения (1 Тим. 2:9–10) обращены к синергийному усилию человека на пути его истории. Плоды духовной истории человека соответствуют мере его трудов ((«Каждый получит свою награду по своему труду» (1 Кор. 3:8), «по мере добра, которое оно сделал» (Еф. 6:8; ср. Тит. 3:14); однако, для ап. Павла принципиально важно утверждение взаимной свободы Бога и человека, недопустимость юридизма, на синергийном пути истории их взаимоотношений (Рим. 11:6; Тит. 3:5 и др.), – эта богословская антиномия будет бережно сохраняться и осмысляться православной мыслью Церкви в последующие века.
Этот путь человека есть и путь пребывания и вызревания в человеке «веры, надежды и любви» (1 Кор. 13:13; 2 Фес. 1:3): через «обновление в познании» (Кол. 3:10), «сохранение» и «обогащение надежды» (Рим. 15:4,13), к любви, которая больше всего (1 Кор. 13:13). Любовь жертвенна; поэтому, приближаясь к концу своей земной истории, всякий церковный член призван «стать жертвою» (2 Тим. 4:6; ср. 3:12; 4:8) по образу Самого Христа. В совершении этого пути участвуют дух и тело человека (Рим. 15:27).
Оборачивание вспять истории отношений Бога и человека изображается ап. Павлом как искажение, «искривление» (ср. Евр. 12:13) истории внутренних процессов, постоянно и перманентно совершающихся в человеке, – и оно катастрофично. Поиск Бога «в вере», внутренняя устремлённость сил человека вперёд и ввысь, к Богу, резко противополагается ап. Павлом бесплодному поиску Бога «в делах закона» – внутренней устремлённости, внутреннему вектору, направленному на плоть (Рим. 9:32 и др.). Такой направленный вспять вектор, то есть всякое движение «не по вере», есть грех (Рим. 14:23), «незнание Бога» (1 Кор. 15:34). «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12), – эта мысль предостерегает не только от обращения вспять, но даже и от остановки на духовном пути истории. Остановка на духовном пути может обратиться «опозданием» к его концу (Евр. 4:1). Поступающие неправо получают «плоды» своей неправды (Кол. 3:25), их пути представляют собой исторические тупики.
Универсализм Церкви и её истории подчёркнут, прежде всего, в посланиях ап. Павла к ефесянам и, более сжато, к колоссянам. Он простирается через всю историю мира – от предвечности избрания Церкви (Еф. 1:4) к исполнению «полноты времён» (Еф. 1:10), «дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 1:10). Эта полнота времён (прообразуемая «полнотою» Христа, Его Божества (Кол. 2:9) и Его человечества (ср. Евр. 13:8)) совершается и призвана к исполнению через «полноту» Церкви (Еф. 1:22–23), сообщаемую и её членам (Кол. 2:10). Именно в этих, самых экклезиологичных (или даже самых «кафоличных») из посланий ап. Павла, особенно подчёркнуто совершенное присутствие вечности во всецелой истории (Еф. 2:5,8). История Церкви изображается апостолом антиномично: как её вечное соприсутствие со Христом, жизнь во Христе (Еф. 5:27; 2 Кор. 2:14–15) и, с другой стороны, как совершающаяся, становящаяся история самой Церкви (Еф. 2:21–22), «растущей возрастом Христовым» (Кол. 2:19), как движение к постижению того, «что широта и долгота, и глубина и высота» (Еф. 3:18), «домостроительство тайны» (Еф. 3:9), совершаемое «многоразличной премудностью Божией» собирание мира в Церковь, простирающееся в эсхатологическую перспективу «всего во всём» (ср. 1 Кор. 15:28; Еф. 1:23). Единство Божие (Еф. 4:5–6) служит основанием и единства творения в метаисторической перспективе (ср. Рим. 11:32), и реального единства Церкви уже в настоящем (Еф. 4:5–6), несмотря на её внутреннюю историческую и, вместе с тем, перманентную перспективу движения ко Христу её несовершенных членов.
Рост Церкви изображается ап. Павлом как взаимное возрастание Христова слова в человеке (в церковных членах и в мире), – и человека в познании Бога (Кол. 1:5–6,9–10). Путь Церкви синергиен и предполагает всеобщее участие в его совершении (1 Кор. 3:7–10). Также исторический путь Церкви органичен и предполагает прямую передачу опыта жизни во Христе (1 Кор. 4:11; 1 Тим. 4:12; Тит. 2:7), предания (2 Фес. 2:5; ср. 3:6; 1 Тим. 6:20). Церковные члены призваны подражать Христу через подражание своим духовным отцам (1 Кор. 11:1–2; Фил. 3:17; 1 Фес. 1:6; 2 Фес. 3:7–9; 1 Тим. 1:18; Евр. 13:7), Церквам и всем церковным членам (1 Фес. 2:14), осуществляя на этом пути «подражание (Самому) Богу» (Еф. 5:1).
Жертва Церкви и её членов по образу Жертвы Христовой созидает историю (ср. 1 Кор. 15:36; 2 Кор. 4:10–12; Евр. 12:4), а Христос «пишет» историю в человеках (2 Кор. 3:2–3).
Перспективы всеобщей и личной истории сопрягаются и отчасти взаимопроникают друг в друга у ап. Павла, как и во всех других новозаветных текстах; особенно это взаимопроникновение ощущается в послании к евреям.
Метод противопоставлений, вообще широко применяемый ап. Павлом, выражает здесь принципиальную эпохальность всякой истории, – как человечества, так и человека. Эта эпохальность множественна и поступенна (Евр. 1:1), однако более всего ап. Павел использует типологический метод простых сопоставлений, выступающих у него, одновременно, и противопоставлениями:
– образа – и реальности (Евр. 9:1–3),
– плоти – и духа (Евр. 8:5),
– немощи – и силы (Евр. 7:16),
– смерти – и жизни (Евр. 7:23–25),
– недостаточного – и совершенного (8:7),
– ветхого – и нового (8:8,13),
– освящения тела – и духа (9:13–14),
– многих жертв – и одной Жертвы (Евр. 10:11–14 и др.).
Эти образы, относимые здесь ко всеобщей истории (и конкретно – к отношению прошлого и настоящего), через посредующего Христа могут иметь и другой исторический масштаб – масштаб личной истории перехода от ветхого к новому. В этом личном масштабе другое типологическое противопоставление – «страдание – радость» (см. Евр. 12:11 и др.), «тление – обновление» (см. 2 Кор. 4:16) – выражает уже отношения настоящего и будущего века. Оно имеет и экклезиологическое измерение: «смерть действует в нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 4:12). Так, совершаемый в Церкви и Церковью путь нисхождения, выхода к миру, и восхождения к торжеству и славе в Боге отображает в себе историю Христа, имеющую те же векторы присутствия в мире (Еф. 4:8–10).
Если отношения прошлого и настоящего даны у ап. Павла как отношения ветхого прообраза и новой реальности, выступающей одновременно образом и парадигмой (отношения «тени» – и «Тела» Христова (Кол. 2:17), но и «тени» – и «Образа» (Евр. 10:1)), то отношения настоящего и будущего выступают уже отношением человека, возрастающего во Христе, и тайны будущего века (ср. Еф. 3:3–4; Кол. 2:2 и др.)[94]; впрочем, историческое их соотношение оказывается не только линейным, но и перманентным (2 Кор. 1:5). Оба измерения оказываются относимы к Церкви. Слова «древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17) становятся вневременным внутренним принципом становления вообще всякой истории, как и Личность Христа – её универсальной мерой[95].
Присутствует у ап. Павла и обратная историческая перспектива. Она имеет как всеобщее измерение (1 Кор. 10:4), так и личное, присущее каждому человеку, церковному члену (2 Кор. 4:16); в частности, она выражена в следующем историческом парадоксе, основанном на нарушении логики времён: «мы сделались… если сохраним» (Евр. 3:14), «ныне… когда услышите» (Евр. 3:15; 4:7), «вы умерли… Итак, умертвите» (Кол. 3:3,5).
История мира в изображении ап. Павла оказывается подобна росту человека (Гал. 4:1–7), но и наоборот, – история человека оказывается подобна истории и росту мира (Гал. 4:19).
Два образа истории – время дорого, а дни лукавы (Еф. 5:16) – представляют два пути истории человечества: со Христом и с миром. Эти пути антагонистичны (2 Кор. 6:14–16) и представляют в макроперспективе историческое движение и развитие двух «градов»: укоренённого в настоящем земного, и будущего, небесного (Евр. 13:14). Внутренний закон, движущий историю каждого из градов, как и конечная перспектива этих историй, представляет тайну – «тайну беззакония» (2 Фес. 2:7) и «тайну Христову» (Еф. 3:4; Кол. 4:3); их противоборство простирается сквозь историю человечества.
Умножение опыта мира, идущего окольными путями истории (2 Тим. 3:1–9) – а этот христобежный процесс затронет и Церковь (1 Тим. 4:1;2 Тим. 4:3–4), – представляет будущую историю мира. Служение Церкви состоит в том, чтобы христоподобно перебороть и победить мир в эсхатологической перспективе, хотя эта победа и не будет видимым торжеством в самой истории: задача Церкви – постоянно трудясь над преображением мира, «всё преодолев, устоять» (Еф. 6:13), «облекаясь во всеоружие Божие» (Еф. 6:11) в «день злой» (Еф. 6:13). Всецелая история человечества, как и отдельный человек, в своём священном измерении движима верой (Евр. 11 и др.), способной преодолевать «непреодолимое».
Ряд антиномий[96] выступают, согласно ап. Павлу, двигателями истории и заключённого в ней внутреннего противоборства Христа и мира:
– силы закона[97] и силы благодати: «утверждение» ветхого закона совершается через «преодоление» его историей – новой историей Христа (Рим. 3:31; 2 Кор. 5:17 и др.); закон бессилен (Рим. 8:3), но он становится сотрудником благодати («Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20));
– свободы человека и воли Божией: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11:32);
– сил человека и тайны Божией: спасение мира начинается со слабейших – с гонителей, язычников, грешников (1 Тим. 1:15–16; Рим. 11:11–12,31; ср. Мф. 9:13 и др.; Мф. 18:12 и др.; ср. 1 Кор. 12:24); Христос как бы разворачивает мир, привносит в историю обратную перспективу τέλος’а, замысла Божия о конце.
Преодолевая эти антиномии через историю, Бог соединяет несоединимое.
Эсхатология, как и в Евангелиях[98], имеет у ап. Павла не одно, а три измерения: личное, всеобщее и уже совершившееся во Христе. «Теперь день спасения» (2 Кор. 6:2), «полнота времени» (Гал. 4:4), «последние века» (1 Кор. 10:11), «конец веков» (Евр. 9:26), «последние дни» (Евр. 1:2) – таково измерение вечности, пребывающее во времени, в каждый момент настоящего. Но и будущее – также «последние времена» (1 Тим. 4:1), «последние дни» (2 Тим. 3:1); и, наконец, в перспективе общего конца истории – «день Господа» (2 Кор. 1:14), «день Христов» (Фил. 2:16), просто «день» (Евр. 10:25). Приближение этого дня неотвратимо (Евр. 10:25), однако неопределённое «еще немного, очень немного» (Евр. 10:37) заключает в себе смыслы ожидания конца личной истории каждым человеком.
Всеобщее воскресение совершится в некотором отображении ретроспективы прошедшей истории (ср.: «мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых» (1 Фес. 4:16–17).
Образ Откровения Лиц Святой Троицы (Рим. 11:36) также предполагает у ап. Павла исторический контекст, хотя он и намечен у него прикровенно.
93
Ср.: «Закон ума моего» (Рим. 7:23).
94
Ср. сведение этих пар в один троичный ряд: Евреи возвещали тень образа, третью от истины; мы же светло величаем образ… А сама истина в точности откроется по воскресении (См.: Мефодий Патарский, свщмч. Пир десяти дев // Отцы и учители Церкви III века. Антология. В 2-х тт. М., 1996. Т. 2. С. 419. 5:7).
95
«(Отец) тайну Своей воли по Своему благоволению… прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками» (Еф. 1:9–11).
96
То есть богословских противоречий, неразрешимых принципиально ограниченной логикой человеческого языка, помогающих прикоснуться к Божественной тайне, превышающей способности природного человеческого познания.
97
Который производит в человеке способность видеть грех (Рим. 7:5–10 и др.).
98
Особенно в Евангелии от Луки, см. выше: п. 3.3. настоящей главы.