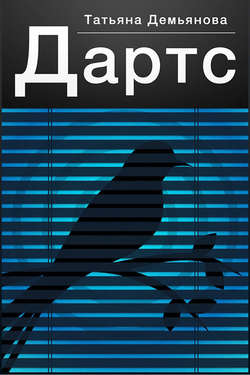Читать книгу Дартс - Татьяна Демьянова - Страница 3
Часть первая
2
ОглавлениеПосле расставания с Лерой я потерялся для социальной жизни в лаборатории и учебниках по микробиологии – мама заглядывает ко мне в комнату и уговаривает лечь в постель. Часто вижу ее такую: растрепанную, просыпающуюся в два часа ночи от беспокойства, что взрослый сын еще не спит… Но за два года я изменился, меня больше не удручают утренние оладьи, театрально-наигранные отношения, загадочное распределение физических благ… Все лишнее отошло на второй план, наступило время для тихого счастья: многочасовая работа освобождает и от кошмаров, и от привычных терзаний. Не это ли называется примирением с судьбой? В любом случае, более умиротворенное и покойное состояние мне незнакомо.
Мои первые научные публикации, посвященные действию Т-хелперов, вызвали интерес со стороны профессионального сообщества, и передо мной, наконец, открылись заслуженные перспективы. Когда жизнь идет в правильном направлении, можно ли выдохнуть? Увы, нет, ведь Мойры[6] любят вплести новую нить: лечащий врач настоял на смене клапана. Мне предстоит операция, и в случае отсутствия осложнений – неделя больницы и месяцы терапии. Отложенная на полгода жизнь, отсроченный выпуск из ВУЗа, ехидное «в случае…» – после посещения врача прилепляюсь носом к окну в ожидании, пока вестибулярный аппарат отмерит верный угол. Одиссей в преддверии заточения у Калипсо[7].
Мое сердце отключат, оно не будет перемещать кровь – на несколько часов я превращусь в безвольную куклу. В лучшем случае, впоследствии – пара дней интенсивного загара в реанимации. Единственное, что помогает справиться со страхом – сказки Валерии. Она приходит с ними вечером, накануне отъезда в больницу, забирается ко мне в постель и хрустит зелеными яблоками и страницами пухлой книги. Мелкие вдавленные буквы не разобрать на темно-коричневой обложке – не узнать, что она мне читает; сквозь дрему до меня доносится рассказ о снежных заносах и упрямых героях, которые, преодолевая стихию, выбираются со станции. Куда они направляются? Вместо того чтобы пережидать в тепле, им непременно нужно сражаться с непогодой. «Существует птица Нулла – редкий вид, которая поет за закрытым окном, – прислушиваюсь я то ли к Лере, то ли к голосу из сна. – Ее пение можно расслышать в зимнее время, если направить внимание за узорчато-непроглядное стекло, на улицу, где ярко светит солнце. Но едва ли можно надеяться узнать, кто же она на самом деле – та, которая поет прекрасную и тоскливую песню. Немногие путники решались посмотреть на нее, да и то – те, кто осмеливались, делали это по принуждению, ведь никто, у кого есть теплый дом, не впустит холод с улицы. Но ходят слухи, что путник, который вылезает в окно и вопреки сильнейшему желанию уснуть на морозе ловит перо, слетевшее с ее хвоста, узнает ее имя; однако случаи те редки, да и рассказы о них неправдоподобны»…
Хрустящие сахарные сугробы и солнце, неразличимое за горячей дымкой – прогулка по зимней пустыне продлилась бы до самого утра, но мой сон разрезает хлопок. Заспанный, я решаю, что это Валерия, но в пустой комнате только тьма, живот крутит едким воздухом – светом, превращенным в отравленный запах. Еще хлопок – это форточка, сквозняк толкает дверь, треплет листы в открытый книге. В комнате под потолком начинает кружить снег. Схватить бы одеяло и вымести его на лицу, но руки вязнут в липкой темноте, в чужих бархатных волосах – вдох – в окно льется утро. Пятнадцать минут до звонка будильника.
Новые джинсы, белая футболка – долго выбираю, что надеть; мама удивленно наблюдает за сборами. Одно небо все принимает, бесконечно расцветая над головой, чтобы после заползти за облупленный угол серого потолка и оставить наедине с анестезиологом, убеждающим, что маска пахнет шоколадом. Не знаю, лгал ли он – сознание покидает меня сразу, мой счет не успевает дойти и до двух. После возвращается темнота. Но иная, очищенная от власти Морфея: темнота – возможность, темнота – глубина, темнота, в которой можно размышлять и плавать. Если бы время в обыденной жизни развивалось также, то каким количеством возможностей мы бы обладали! Ведь времени в темноте нет, оно лишь ось координат, и ты – точка на XYZ и t – паришь в четырех измерениях, немного скованно, потому что без привычных осей воля проявляется иначе. Если бы во тьме были дневные оценки и эмоции, можно было бы сойти с ума, однако их нет, оттого ты, беспечный ребенок, подвисаешь в черном материнском молоке.
Свет зовет меня через пару дней врачебным фонариком, бьющим в глаза. Собственное сердце уверенно перекачивает меня в скучную палату: несколько дней длится сопротивление тому, что я есть снова.
Выбираясь из дремы к полудню, шаркая на кухню и глотая варфарин, отшатываясь от зеркала как от чумы… не перестаю удивляться тому, что организм стремительно привыкает к новому клапану, заставляющему быть и биться не только за себя, но и за других: Валерия ждет ребенка (наверное, младенца с каштановыми волосами и голосом, исцеляющим поколения… Как я желаю, чтобы он повторил мою судьбу наоборот!). Свадьба Леры для меня – смещенный центр Вселенной, мне неуютно от одного упоминания о ней. Увильнуть бы по причине физической слабости, стать тенью на дальних рядах!.. Но все прозаичнее: всего лишь теряюсь в собственных брюках (минус восемь килограммов со дня операции). Отсутствие подходящего костюма обнаруживается, когда я оказываюсь в полотенце перед шкафом, и до выхода мне остается полчаса. Большим фриком уже не стать – с этим лозунгом зацепляю за пояс красные подтяжки (всего-то выдержать церемонию и прогулку, а после меня отрапортуют домой по предписанию врача по причине болезненной восприимчивости).
– Дима, хорошо, что пришел, – Валерий Александрович, отец невесты (Валерия Валерьевна – имя для логопеда), задумчиво осматривает меня. – Я не заметил тебя в ЗАГСе. Иди, посиди где-нибудь, а то бледный, как смерть.
Смех удаляется с каждой секундой, расходится над водой – Лера уже не девушка-эльф, но женщина-лебедь. Достойное видение для паренька, чей тощий зад пребывает среди семейства металлических утят, когда над ним – маковки Новодевичьего монастыря. Отворачиваюсь от всех и, скрываясь за деревьями, пинаю камушки, пока не застываю над вороной, пригвожденной к земле. Черные, как смоль, крылья-лезвия замерли, устремившись вверх, будто она слишком долго представляла полет, а сил взлететь не хватило. Отшатываюсь назад и падаю на руки: она мертва. Какая неестественная напряженность, словно смерть не способна ослабить жизненной хватки! Отряхиваю руки и снова склоняюсь над вороной. Угольный клюв повернут влево, тельце сведено судорогой. Каталептическое окоченение.
– Какая неестественная поза, – раздается за спиной.
Разгибаюсь и краснею, в первые секунды мне кажется, что говорят не о трупе, а обо мне.
– Верно, столбняк.
– Или стрихнин. Птичка неудачно покутила.
Поднимаю глаза, складывая губы в поисках колкости, но замираю перед невысоким мужчиной лет тридцати с ямочкой на подбородке. Я запомнил его по широким скулам и взгляду, от которого в груди восставала зима, и по тому, что в его присутствии Лерин отец сглаживал командорские черты и вступал в диалог. И вдруг этот незнакомец («Никогда не разговаривайте с незнакомцами» [8]), опускается на утку, спину которой только что согревали мои ляжки.
– Тогда ее полет был долгим, – мой голос непривычно тих.
– Долгим?
– Не знаю поблизости ни одного птичьего притона, где бы приторговывали пестицидами.
Он беззастенчиво сверлит меня взглядом несколько секунд, после чего протягивает руку.
– Герман.
– Дима, – от волнения моя ладонь скользкая, как чешуя карася, быстро отнимаю ее и слежу за реакцией собеседника. Он не выдает, заметил ли мое стеснение.
– Двоюродный брат Леры?
– Друг.
– Для друга вы слишком близки. Ее муж не ревнует?
Прячу взгляд под крыло утки – внимательно рассматриваю, как на скульптуре очерчены перышки.
– Странно, когда символ смерти – ворона – умирает, – мой ответ для этого, лучшего из миров.
Но это мне приходится задрожать от загадочного спокойствия, которым Герман обходит неуместное замечание. Среднестатистический взрослый выдерживает со мной не более двух минут, после чего сбегает под халтурным предлогом.
– В преданиях чукчей ворона – шаман, поэтому ее смерть – возрождение.
– Противоположности не могут сосуществовать друг с другом.
– Отчего это?
(Например, эта пара. То, что важный знакомый Валерия Александровича и дощатый паренек в красных подтяжках сидят рядом на утке и утенке, вызывает угрожающие колебания во Вселенной.)
– Потому что они приводят к химическому взаимодействию. Противоположностей не бывает – бывают элементы, не вступившие в реакцию. Если взять биосинтез того же стрихнина из триптофана и германниола…
Мой увлеченный монолог прерывает отец Леры, который отводит Германа в сторону и протягивает ему конверт.
– Все, как договорились?
– Как договорились, – мой недавний собеседник скалится, обнажая идеальные зубы.
– Познакомился со светилом науки?
– Да, Дима успел произвести на меня впечатление.
– Что же, замечательно. Подбросишь его? Тебе, должно быть, по пути.
– Как скажете, Валерий.
В неловкости мы остаемся одни. Точнее, в неловкости остаюсь я, Герман остается в самоуверенности.
– Спровадили все-таки. Я знал. Пошли, нежеланный гость в красном.
(Он имеет в виду мои подтяжки или щеки?)
Окна его автомобиля продолжают комедию: элегантно одетый и стройный мужчина, рядом неуклюжий и дощатый я; даже ребенок на парковке кидает мне презрительный взгляд. Все вокруг намекает на то, что нет мне места рядом с подобным человеком, а ограда оставляет на ноге синяк с указанием на выход.
– Дима, значит. Однокурсник. Не раз слышал о тебе от Валерия.
– Вы работаете с ним?
– Работаю.
Наблюдаю за Германом, уверенно держащим руль – убежден, он знает себе цену, рядом с ним каждый признает свою ограниченность.
– Спроси меня.
– Что?
– Неужели тебе неинтересно, что о тебе говорил Валерий?
– Очевидно, вам очень хочется рассказать.
– Ретивый, – в очередной раз мерит меня оценивающим взглядом. – Он неоднократно называл тебя гением. И что он ждет не дождется, когда ты устроишься на работу в его компанию.
– Неинтересно.
– Почему?
– Хочу заниматься наукой.
– Дима в красных подтяжках хочет заниматься наукой, – водитель барабанит пальцами по рулю, словно что-то обдумывая. – И на разработку какого препарата ты планируешь потратить лучшие годы жизни?
– Меня интересует иммунология.
– Самозащита организма?
– Наоборот, поражение органов собственными антителами. Саморазрушение.
– Системная красная волчанка? – Герман демонстрирует собственную подкованность и выпрямляется в кресле.
– Например.
– Заканчиваешь аспирантуру?
– Еще нет. Я отстал на год.
– Черт, ты же гений, ты должен перескакивать курсы, – его оскал окрашивает мои щеки румяным заревом.
– Вы меня нервируете.
– Я знаю. Ты меня тоже. Рушишь все стереотипы об ученых: страшненькие ботаники без личной жизни. Чем же ты занимался целый год?
– Что за допрос? – во мне соперничают бешенство и страх перед осанкой этого человека.
– Неудивительно, что тебя выгнали, – замечает Герман.
– Что?
– Из института. За неуместные интонации перед взрослыми.
– Календарный возраст предоставляет людям шанс повзрослеть, но не все им пользуются, – выставляю иголки и опоминаюсь.
Вот, полилось мое неуместное мнение, из-за которого в школе меня называли тупым недомерком ученики и за глаза учителя. Страшненький ботаник без личной жизни.
– Ты всегда такой? – его интонации что белый свет, никак не разложить их на спектр.
– Честный?
– Бестактный.
– Если дать мне возможность раскрыть рот. Поэтому предпочитаю молчать.
– И отсиживаться на утке?
Я был готов к злости, к раздражению, к гневу. К отвержению. Но вместо этого новый знакомый заставляет меня рассмеяться.
– Ты прав, тебе не стоит работать на отца Леры, с таким норовом ты с ним долго не проработаешь. Тем более над дженериками[9]. Знаешь, в своих желтых штанах ты тянешь на хипстера.
(Это и есть светский разговор, который поддерживают экстраверты для создания дружелюбной атмосферы?)
– Ты не слышал про хипстеров, неужели нет? Это современная субкультура, – не унимается Герман, пока я гадаю, заметил ли он, что я нервно общипал себе запястье.
– Интереснее изучать то, что вечно.
– Пласты мезозойской эры?
– Тоже преходящи.
– Ага, романтик. Любовь?
– Смерть.
– Какая сторона тебя интересует? Кладбище? Разложение? Готика?
– Взаимодействие, – отвечаю сквозь смех.
– С чем?
– С жизнью. Когда они встречаются, происходит реакция.
– И что же дальше?
– Пока известны только слагаемые и их валентности.
– Ищешь во всем формулу?
– Чем еще заниматься страшненькому ботанику без личной жизни?
Останавливаемся на светофоре. Герман снимает солнечные очки и просит убрать их в бардачок, когда же мои пальцы касаются дужек, сжимает мое запястье и «гравирует» на ухо – если бы слова были материальны, то оставили бы на мне печатный оттиск.
– Нельзя бросать себе такие приговоры.
– Не твое дело.
– Не могу поверить, что в шестидесяти килограммах может уместиться столько дерзости.
Возвращает руку на руль, сигнал переключается на зеленый. На следующем повороте он останавливает машину.
– До моего дома отсюда пятнадцать минут пешком.
– Дойдешь.
– Я, было, решил, что ты – особенный. Всю жизнь меня никто… С мной никто так не разговаривал. Ты будто… принял мой способ… общения. А теперь… Неужели я тебя оскорбил?
– Дима, меня невозможно оскорбить. А тебе стоит расширить круг знакомых, тогда ты рано или поздно встретишь людей, которые будут тебя принимать. В этом нет ничего сверхъестественного. Теперь тебе пора.
– Один вопрос?
– Один.
– Почему ты ко мне подошел?
Герман бледнеет, отбивая неизвестный ритм по рулю.
– Неуместный вопрос… Для меня ты тоже особенный. Действительно хочешь это знать?
– Хочу.
– Ладно, Дима в красных подтяжках. Мне показалось, что ты из моей лиги.
– Из твоей лиги?
– Думай, ученый.
Голова делает круг вокруг своей оси, или ось поворачивается на триста шестьдесят градусов? Этот Герман – гей!
– Вот, запомни, как чувствуют себя люди, когда им говорят правду, к которой они не готовы. Тебе пора.
– Постой!
– Что?
– А мы можем просто общаться?
– Ты не представляешь, кто я такой. Просто не получится, Дима.
Где мой сарказм? Где мое острословие? Где я? Меня нет. Есть только солнце, подсвечивающее напористые облака. Все остальное размыто по лазурному небу. Рядом с Германом, в беспредельной тишине боюсь пошевелиться – с трудом смотрю на него – он бесшумно смеется.
– Я решил, что ты в меня влюблен. Ты так выразительно побледнел во время рукопожатия. Все, хватит – вдруг обрывает он сам себя.
Бросаю вызывающий взгляд, но Герман только смеется и закуривает сигарету.
6
Древнегреческие богини судьбы – три сестры: Клото (прядет нить жизни), Лахесис (определяет судьбу), Атропос (перерезает нить жизни).
7
В мифологии – прелестная нимфа, удерживавшая Одиссея на острове Огигия семь лет, пока боги не сжалились над героем и не приказали его отпустить.
8
М. Булгаков «Мастер и Маргарита».
9
Лицензированные копии дорогих фирменных лекарственных препаратов.