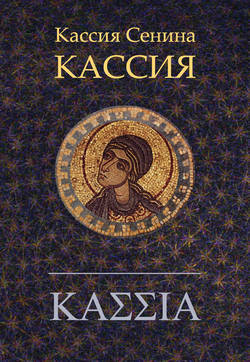Читать книгу Кассия - Татьяна Сенина (монахиня Кассия) - Страница 38
Часть II. Борьба за образ
12. «Старая кустодия»
ОглавлениеНастоящее поколение беспечно; оно отступило от строгой жизни и брать с него образец для жизни тщетно и бесполезно. …почти все, можно сказать, опираются на обычаи человеческие и на установления соседей, противные заповедям Божиим, и хотят лучше следовать образу жизни такого-то и такого-то игумена, нежели божественных отцов наших.
(Св. Феодор Студит)
Лето принесло неутешительные вести: мера, придуманная экономом Иосифом, оказалась столь успешной, что стали падать в ересь почти все те, кто раньше, казалось, твердо стоял в православии. Везде, но особенно в столице и ее окрестностях, процветало доносительство; доходило до того, что жившие в одном доме родственники боялись друг друга, а господа трепетали перед собственными слугами и рабами. Всего за одну найденную в доме икону или письмо с доводами в защиту иконопочитания хозяев могли бичевать. Иконы разрешалось оставлять у себя только тем, кто давал подписку не учить о вере и вступал в общение с патриархом Феодотом. Почти все константинопольские клирики и монахи дали подписку; многие миряне, в том числе из придворных, продолжали чтить иконы, но не смели говорить открыто в их защиту. Всё меньше исповедников оставалось на свободе, и тем приходилось скрываться. В середине лета стало слышно, что в июне умер папа Римский Лев, и император с патриархом хотят отправить внушительное посольство к новому папе с изложением иконоборческого исповедания веры и просьбой о поддержке нового церковного курса. Это намерение не только не скрывалось, но всячески провозглашалось, причем иконоборцы издевались над заключенными иконопочитателями, спрашивая, что будут они делать, если и «священная глава Римской Церкви, наследник великого Петра» одобрит иконоборческий догмат. Эконом Иосиф столь уверенно рассуждал об этом в беседах с узниками, будто точно знал, что папа будет на стороне Льва и Феодота. Всё это наводило уныние на православных, и некоторые дали подписку просто оттого, что им показалось, будто «всё равно уже всё кончено, сопротивляться бесполезно, лучше переждать». Студийский игумен, узнав о том, что иконоборцы готовят посольство в Рим, решился написать папе, чтобы, в свою очередь, рассказать ему о положении дел в Империи. К этому времени ему удалось наладить переписку с несколькими игуменами, заключенными в крепостях не слишком далеко от Вониты, так что с ними можно было быстро связаться; они договорились, что Феодор напишет письмо от лица их всех.
– Неужели ты думаешь, отче, что папа может поддержать еретиков? – спросил Николай.
– Да не будет этого! Но всякое может случиться. Вспомни о папе Гонории… К тому же, иконоборцы могут представить дело так, будто речь идет о чем-то несущественном. Например, просто о борьбе с народными суевериями, а не о полном отвержении икон. Не забывай, что у нашего фараона есть свой Ианний, который способен изложить всё так, что не сразу найдешь подвох. А папе издалека разобраться сложно, да и ссориться с императором ему нежелательно… Надо спешить!
«Конечно, уже известно верховному блаженству вашему, – писал Феодор, – случившееся с нашей Церковью по грехам нашим. Мы обратились “в притчу” и пословицу “у всех народов”, скажу словами Писания… Гоним Христос с Матерью и служителями, так как преследование образа есть гонение первообраза. Отсюда задержание патриаршей главы, изгнания и ссылки архиереев и иереев, монахов и монахинь, оковы и железные узы, мучения и, наконец, смерти. О, страшно слышать!..» Игумен просил папу «устрашить зверей-еретиков» и соборно анафематствовать иконоборчество.
Между тем в августе иконоборцы одержали очередную победу. На другой день после Преображения Господня, ближе к обеденному времени, двери темницы в подвале Сергие-Вакхова монастыря, где содержался игумен Мидикийский, отворились, и в нее вошли несколько человек. Это были игумены монастырей Ираклийского, Иполинихийского, Гулейского, Флювутского и еще пятеро монахов, за их спиной в дверях маячила стража. В помещении сразу стало чрезвычайно тесно и душно. Никита воззрился на посетителей с удивлением.
– Приветствую вас, отцы! – сказал он, вставая. – Чего ради вас привели к моему смирению?
– Отче, – сказал игумен Ираклийский, – мы пришли призвать тебя вместе с нами вступить в общение с патриархом Феодотом. Он уверяет, что больше ничего не потребует от нас и немедленно разрешит вернуться в наши монастыри и сохранять почитания икон, как прежде. Мы решили, что это будет совсем небольшая уступка, и никакого посягательства на веру здесь нет.
Пораженный Никита не сразу нашелся с ответом. Видя, что он молчит, Петр, предстоятель Гулейского монастыря, заговорил горячо и торопливо:
– Отче, не думай, что мы испугались мучений или не желаем дальше страдать за православие! Но мы рассудили, что теперь надо предпочесть пользу и спасение многих. Ведь каждый из нас сможет вернуться в свою обитель, собрать расточенных, снова наладить прежнюю жизнь…
– «Спасение многих»?! – воскликнул Никита. – О каком спасении вы говорите, если решили вступить в общение с еретиком, которое – погибель? Как может из тьмы выйти какой-либо свет? Что вы, отцы? Что случилось с вами? Как помрачился ваш разум? О, Господи!..
– Погоди, погоди сетовать, отче! – возразил Флювутский игумен. – Надеемся, что с разумом у нас пока что всё в порядке. Ты говоришь про общение, но ведь это только один раз, в виде снисхождения, а потом мы уже сможем больше не поминать Феодота! Разве это такая уж большая плата за возможность возобновить монастырскую жизнь?
– Твое рассуждение, – печально сказал Никита, – похоже на рассуждение какой-нибудь женщины, которая, устав жить в бедности и видеть, как ее муж работает с утра до ночи, а дети голодают, решилась «только один раз» совершить прелюбодейство с богачом, давно домогавшимся ее любви и сулившим большие деньги… Можно ли сказать, что это «не такая уж большая плата» за будущее благоденствие? Ведь это лукавство!
– Отче, – сказал игумен Иполинихийского монастыря, – твои возражения понятны, но подумай, как страдают наши братия, где они скитаются! Быть может, кто-нибудь из них уже не вынес такой жизни и пал в разные грехи, ведь некому ни наставить их, ни поддержать… Неужели тебе не жаль их? Да и что такого ужасного ты видишь в том, чтобы один раз сослужить с Феодотом? Ведь они даже уверяют, что это будет в храме, где сохраняются святые иконы!
– И что же? Разве не ясно, что они готовы пойти на всё, только бы заманить нас? Я не понимаю вас, отцы! Как могли вы поддаться на эту лесть после стольких перенесенных страданий? Как вы забыли про обещание, которое мы все дали святейшему Никифору, – не отделяться друг от друга и стоять за веру?
– Знаешь, отец Никита, – раздался вдруг спокойный и уверенный голос эконома Иосифа, который всё это время стоял за дверью и слушал, а теперь вошел в камеру; игумены потеснились и дали ему пройти, – святейший Никифор, безусловно, хорошо устроился: живет в собственном монастыре и служит там, когда и сколько хочет, а вас, овец своих, оставил гнить по тюрьмам!
– А, это ты, господин Иосиф, – проговорил Никита с неопределенным выражением.
– Да, я. Решил тоже сказать несколько слов, а то жаль мне, что ты так упорствуешь попусту. Ты говоришь: мы обещали святейшему не отделяться друг от друга. Но он первый отделился от нас! Мы томились по темницам, а он до сего дня живет вполне благоустроенно. А что до веры, так веру вас никто предавать и не заставляет. Еще раз приходится повторить: вы все сможете вернуться в свои обители и чтить иконы, как прежде и даже еще больше, если пожелаете!
– Послушай, отче, – заговорил опять игумен Петр, – мы никак не можем оставить тебя погибать здесь! Твое поражение тогда окажется хуже нашего, ведь ты и сам погибнешь, и обитель свою погубишь окончательно. Согласись же! То, чего эти люди требуют от нас, – ничто!
Остальные игумены кивали, а Ираклийский добавил:
– Снизойдем немного, отче, чтобы не погубить всего!
Никита смотрел на пришедших и всё больше колебался. Перед ним стояли почтенные отцы – все они были старше него, а Иполинихнийский игумен был и вовсе старцем. О Флювутском Никита знал, что он с самого начала гонения стоял твердо и не только не соглашался в чем-либо уступить иконоборцам и был готов к мученичеству, но увещевал к этому и других, в том числе епископов; он даже сумел убедить Никейского митрополита не общаться с еретиками, грозя в противном случае отделиться от него вместе с братией, – и вот, этот отец, казавшийся столпом веры, собирается вступить в общение с Феодотом, по примеру эконома! Так может, они и правы, и это действительно всего лишь допустимое снисхождение, всего лишь небольшая уступка, через которую можно приобрести души братий и спасти святые обители, сохранить и почитание икон? В самом деле, ведь если они действительно смогут вернуться и чтить иконы, то и свою братию сохранят в православии и приходящих мирян будут утверждать в вере… В конце концов, кто он такой, чтобы противиться общей воле этих почтенных мужей? Разве он опытнее их? Разве он разумнее? Не будет ли с его стороны гордыней отказ покориться их совету? Не покажет ли он этим, что считает себя умнее и духовно опытнее их?..
– Хорошо, – наконец, сказал Никита. – Я согласен выйти вместе с вами, отцы.
За два дня до праздника Успения Богоматери в храме во имя мученика Емилиана Доростольского в Равдосе патриарх Феодот торжественно совершил литургию, в сослужении многих клириков, в том числе Сергие-Вакхова игумена, и в присутствии некоторых синклитиков. Храм этот был, как и прежде, расписан священными изображениями – ни одно из них не было замазано. Выпущенные из темниц игумены, пришедшие на литургию с некоторым смущением, увидев иконы, воспрянули духом.
Перед началом службы, еще до того как игумены вошли в алтарь для сослужения патриарху, Грамматик сказал Мелиссину:
– Для пущей убедительности можно еще и анафематствовать тех, кто не кланяется иконе Христа.
– Как это? – удивился патриарх. – По-моему, это уже даже для снисхождения чересчур!
– Ты не понял, святейший, – улыбнулся Грамматик. – Я имею в виду истинную икону Христову, в понимании Иерийского собора – Евхаристию.
И вот, уже перед самым причащением сослужившего ему духовенства, патриарх провозгласил:
– Не поклоняющимся иконе Христовой – анафема!
Игумены переглянулись, и Ираклийский прошептал:
– Чего же ради мы так долго сидели в заточении?
Спустя несколько дней все бывшие заключенные – вымытые, накормленные, получившие от патриарха новые одежды и денег на дорогу – отправились по своим монастырям. Мидикийский игумен тоже пошел к пристаням узнать, на каком судне он мог бы добраться до Вифинии. Но когда он взглянул на стоявшие в гавани торговые суда – одни только что причалившие для разгрузки товара, другие нагружаемые тюками, пифосами и бочками, третьи уже почти готовые к отплытию, – и на пеструю толпу, сновавшую вокруг, его вдруг охватила невыносимая тоска. На самом деле она грызла его с того дня, когда он причастился из рук Феодота, но теперь полностью затопила душу. После той литургии на него навалилась давящая тяжесть и не давала покоя мысль, что он совершил предательство. Никита сначала попытался прогнать помысел как искусительный, но это ему не удалось. «Что же теперь? – думал он. – Что я скажу братиям, если вернусь в обитель и опять соберу их туда? Что я вступил в общение с иконоборцем ради того, чтобы спокойно жить в монастыре?.. Боже мой, что я сделал! Зачем, зачем я послушался их?!..» Оказавшись на пристани, он окончательно осознал, что не может вернуться в свою обитель. «Я пал! – думал он. – Это падение, что бы ни говорили эти отцы…»
Сначала Никита решил бежать куда-нибудь подальше от столицы и, найдя уединенное место, подвизаться там, чтобы исправить свое поражение. Он сел на одно грузовое судно, отправлявшееся на Проконнес за мрамором, рассчитывая или обустроиться где-нибудь на острове, или перебраться с него на соседнюю Афусию, куда и собирались его сослать в случае, если б он не повиновался иконоборцам. Тоска и мрак внутри как будто бы уменьшились, но когда Никита добрался до Проконнеса, он, проведя ночь в молитве, принял иное решение и с тем же судном вернулся в Константинополь, где поселился у одного знакомого мирянина, тайного иконопочитателя. По Городу он почти не ходил, молился дома, но иногда заходил в храмы для поклонения мощам святых. Вскоре после возвращения Никита был замечен и узнан одним из диаконов храма Апостолов, когда пришел туда поклониться гробницам святых благовестников. Диакон подошел к игумену и приветствовал его.
– А я думал, отче, ты уже у себя в Вифинии. Разве ты не поехал туда?
– Нет. И не поеду. Падение должно быть исправлено там, где совершилось.
– Что ты называешь падением? – удивился диакон.
– Сослужение и причащение с Феодотом, на которое я согласился по глупости… точнее, по неразумному почтению к мнениям старших отцов. Через это мы все изменили православию.
– Ах, вот что! – насмешливо сказал диакон. – Тебя, видно, охмурил этот несносный Студит… И как ему до сих пор разрешают рассылать свои писульки?! – злобно добавил он.
– Ошибаешься, отче. Отец Феодор ничего не писал мне. Но если он сочтет меня изменником, то будет прав. Феодот – иконоборец, и что бы он ни говорил нам об иконах и как бы ни разрешал верить, но сделанное сделано: мы вступили в общение с иконоборцем, а значит, и сами стали еретиками. Если тебе кажется иначе, это твое дело; а я думаю именно так и не успокоюсь, пока Господь не примет мое покаяние в содеянном.
Феодор узнал о падении заключенных игуменов в сентябре из письма от Навкратия и очень расстроился, особенно из-за Флювутского настоятеля, с которым имел возможность встретиться лично во время переезда из Метопы в Вониту: тогда тот еще не был заключен в тюрьму и был готов всё перенести ради православия, а теперь даже нисколько не сокрушался о том, что сделал. «Но об этом муже что сказать? Что думать? – писал Феодор игумену Пеликитскому Макарию, сосланному на Афусию. – “Как упал ты с неба, денница”? Как повержен столп, восходивший до небес?..» Что до остальных, то Студит не очень удивился их падению.
– Они ведь и раньше любили снисходить там, где не надо, – сказал он Николаю, – все признали прелюбодейный собор и осуждали нас за противление беззаконию. А об их покаянии в том заблуждении я не слыхал. Странно ли, что теперь их опять поманили тем же «снисхождением» и они попались? И вождем непотребства оказался всё тот же эконом!
«Построив дом свой на песке, – писал он Навкратию, – они при дуновении восставшей ереси, пали тягчайшим падением, снова называя искажение истины снисхождением. Они и прежде были соблазном для Церкви Божией, и теперь делами своими увлекают всех к погибели». Но, замечал Феодор, «это старая рана, внутреннее зло. Иосиф, справедливо названный раньше сочетателем прелюбодеев, а теперь хулителем Христа, он – вождь этой старой кустодии…»
Между тем императору и патриарху быстро стало известно, что Мидикийский игумен опять в столице, с иконоборцами не общается и при случае проповедует собеседникам иконопочитание. Никиту немедленно вызвали во дворец. Император встретил игумена довольно сурово.
– Почему в то время, как другие отцы ушли по своим обителям, ты один остался здесь, своевольничая и не повинуясь нашему приказу? – спросил Лев. – Мне сообщили, что ты еще и скрываться вздумал, надеясь нас провести. Оставь свои ухищрения, отче! Возвращайся в свой монастырь, а не то ты подвергнешься бедствиям еще худшим, чем раньше!
– Государь, – ответил игумен спокойно и кротко, – в монастырь я не вернусь и от веры своей не отступлю, а свое согласие вступить в общение с твоим патриархом считаю пагубным заблуждением. Теперь я хочу заявить снова, что почитаю святые иконы и в этом исповедании пребуду до конца. Я сотворил неподобное не по страху смерти или мучений и не из любви к этой жизни – Бог мне свидетель! – но ради послушания старцам сдела то, чего не должен был делать. Но я отрекаюсь от этого гибельного послушания, и знай, августейший, что никакого общения с вами я не приемлю и остаюсь в той вере, которую принял от начала. Делай со мной, что тебе угодно, и не думай услышать от меня что-нибудь еще.
Император передал игумена спафарокандидату Захарии, смотрителю Манганского дворца, повелев держать Никиту в подвале, пока не будет решено, что с ним делать. Захария, втайне чтивший иконы, принял узника с почтением и поселил его не в подземелье, а в одной из комнат верхнего этажа, всячески заботясь о нем. В Манганах Никита прожил около месяца, там он получил первое письмо от Студийского игумена: Феодор писал, что опечалился из-за падения Мидикийского игумена, но, узнав о его покаянии, снова воодушевился; он молил Никиту «довести до конца нынешнее божественное исповедание» и просил молитв за себя.
Вскоре Никита, в очередной раз ответив отказом на требование вступить в общение с иконоборцами, был увезен на островок Святой Гликерии на Пропонтиде, недалеко от мыса Акрит и заключен в монастыре под крепким надзором. Над тамошними обителями был назначен экзархом некий Анфим, евнух очень жестокого нрава, весьма немилостивый; местные жители за кичливость и коварство прозвали его Каиафой. Этому Анфиму патриарх Феодот написал письмо, где обещал особые почести от императора, если экзарх заставит Никиту всё-таки передумать. Анфим, получив в свою власть игумена, заключил его в тесную темницу с таким низким потолком, что Никита мог там ходить, только согнувшись. Ключ от темницы экзарх носил с собой и никогда не открывал ее, чрезвычайно скудную пищу узнику подавали через отверстие. Но на все предложения «облагоразумиться и вернуться к общению со святейшим Феодотом» игумен неизменно отвечал:
– Анафема вашему «благоразумию» и вашему Феодоту.
…Фаддей умирал: было ясно, что выходить его не удастся, он и сам понимал это. Когда Григора пришел переменить ему повязки, монах слабо улыбнулся и прошептал:
– Не трудись, господин! Я всё равно… не доживу до завтра…
Григора уронил на пол льняной плат, упал на колени перед постелью умиравшего и заплакал.
– Что ты плачешь, Григора? – так же тихо проговорил Фаддей. – Не плачь… Лучше молись за меня… чтобы предстать мне пред Господом неосужденно… Братия! – позвал он чуть громче.
– Что, душа моя? – отозвался с соседней постели Виссарион. – Тебе легче?
– Да… мне теперь… хорошо… Ухожу… Молитесь за меня… чтобы мне неосужденно… предстать на суд Божий…
– Верую, что предстанешь неосужденно! – горячо ответил Виссарион.
– Да, – раздался в комнате еще один голос, совсем тихий, но ясный, – сейчас впору нам просить твоих молитв за нас, Фаддей! Ты идешь ко Господу, а мы… нам еще подвизаться надо… Молись, чтобы мы претерпели до конца!
– Если… Господь сподобит… буду молиться…
Их бичевали накануне. До этого Фаддей несколько месяцев провел в одиночном заключении в Претории. Мирянин Григора передавал ему в тюрьму еду и одежду, а иногда тайком писчие принадлежности: монах и в тюрьме продолжал переписываться кое с кем, убеждая стоять в православии, и поддерживал связь с братиями из той группы, в которой находился после рассеяния студитов при начале гонения. Через некоторое время, однако, попался властям один из его адресатов – студит Виссарион; у него нашли два письма Фаддея и после этого за Григорой установили слежку. Постепенно выловили еще нескольких братий, скрывавшихся в окрестностях Никомидии, – Тита, Филона, Еводия, Епатия, а также двух монахов из подчиненного Студию монастыря Святого Христофора – Лукиана и его ученика Иакова. Вассиан, живший с Еводием в пещере, остался на свободе: когда нагрянули в их убежище, он отлучился в село купить хлеба. Вернувшись и увидев, что в пещере всё перевернуто вверх дном, а Еводий исчез, он побледнел и тихо проговорил:
– Держись, брат!
В конце декабря дело восьми студитов прибыл расследовать из столицы протоспафарий Варда, свояк императора – он был женат на Албенеке, сестре императрицы Феодосии. Девятым призванным к ответу оказался иеромонах Дорофей, схваченный немного раньше: он был уличен в том, что тайно причащал иконопочитателей и передавал Святые Дары столичным заключенным, а также ездил в Никомидию и Никею с теми же целями. Все решительно отказались от предложения присоединиться к иконоборцам. Тогда их стали бичевать. Первым растянули на скамьях Фаддея, за ним Виссариона и Дорофея; все трое получили по сто тридцать ударов, причем первых двух Варда бичевал собственноручно. Под конец истязания Фаддей потерял сознание и без чувств был унесен обратно в камеру, другие двое едва смогли встать на ноги. Затем бичеванию подвергся Лукиан и после первых же ударов не выдержал и закричал:
– Нет! Не надо! Я дам подписку, только не бейте!
Его тут же отвязали. Он встал, оделся, не глядя на остальных братий, и тут же подписался на листе с заготовленным текстом, пообещал завтра же причаститься на службе у патриарха Феодота, после чего был отпущен. Когда он уже направлялся к двери, Иаков воскликнул:
– Отче, как ты мог?!
Лукиан еще больше сгорбился, ничего не ответил и вышел. Варда усмехнулся и сказал Иакову:
– Ну, послушник, как видишь, наставник твой счел за лучшее избрать путь благоразумной мудрости. А ты что медлишь? Тебе уж и Сам Бог велел вступить в общение со святейшим Феодотом!
– Анафема вашему Феодоту! – вскричал Иаков. – И послушанию такому анафема! Я давал обет послушания Богу, а не человекам, отступившим от Него!
– Вот как? – угрожающе произнес протоспафарий. – Ты, значит, хочешь отведать воловьих жил?
– Хочу! – ответил Иаков, снимая хитон. – Бейте!
Его били долго и зло, по спине, по груди, по рукам, не только бичом, но и ногами, били, даже когда он уже лишился чувств, а потом, окровавленного, бросили тут же в углу на пол, сверху накрыв его же одеждой, словно мертвеца. Остальные братия были сильно напуганы, но всё-таки на вопрос, не хотят ли они дать подписку, ответили отрицательно. Тогда стали бичевать Тита; после двадцатого удара он не выдержал и сдался. Филон, глядя, как он ставит подпись на злосчастном пергаменте, заплакал и сказал, что тогда и он подписывается; оба они после подписки обещали вместе с Лукианом придти к патриарху и принять причастие. Тут Еводий и Епатий сказали почти в один голос:
– Я тоже подписываюсь!
На другой день все пятеро действительно пришли в Святую Софию, чтобы причаститься с Феодотом. Лукиан и Тит с Филоном молились, а Еводий стоял, как столб, не крестясь и вообще никак не сообразуясь с ходом богослужения. Епатий, стоявший чуть позади, сначала было крестился и кланялся, но потом, глядя на Еводия, тоже перестал, а когда уже было прочитано Евангелие, тихонько потянул брата за рукав.
– Чего тебе? – спросил Еводий, обернувшись.
– Давай сбежим, а? – прошептал Епатий. – Гляди, сколько тут народу! Никто и не заметит… Может, удастся спрятаться где-нибудь… Не хочу я с ними причащаться!
Еводий украдкой огляделся. Да, у них и правда была возможность незаметно улизнуть. «Где-то теперь Вассиан? – подумал он. – Что скажет он, если узнает о нашем падении?.. А что скажет отец игумен?.. Боже мой! Что мы натворили?!..»
– Пошли! – кивнул он, и они с Епатием осторожно, прячась за людей и колонны, выскользнули в нарфик, затем во двор, быстро пересекли Августеон, на Месе смешались с толпой и, через Золотые ворота покинув Город, остановились у межевого столба.
– И куда теперь? – спросил Епатий.
– Не знаю, – Еводий опустил голову, подумал. – Может, в Саккудион? Навкратий примет нас, надеюсь…
Между тем всех бичеванных студитов, кроме Дорофея, наутро выдали пришедшему навестить их Григоре. Один из тюремщиков, тайно сочувствовавший иконопочитателям, шепнул ему:
– Забирай их, пока начальство не передумало, да спрячь где-нибудь!
Григора отвез всех к себе домой и пригласил знакомого врача. Тот осмотрел раны, покачал головой и сказал, что за Виссариона бояться нечего – должен выздороветь, – а вот с Фаддеем и Иаковом дело плохо: если и выживут, то могут на всю жизнь остаться калеками… Но Фаддей уже не мог выжить: он умер на следующую ночь после бичевания.
Получив очередное письмо с новостями от Навкратия и распечатав его, Студийский игумен подошел к окну, стал читать и вдруг вздохнул, прижал руку к груди и едва не выронил лист. Слезы на мгновение застлали ему взор, Феодор вытер глаза рукавом и продолжал чтение. Дочитав, он перекрестился и, подойдя к спавшему Николаю – тот с вечера занемог, и Феодор благословил его спать, пока не выспится, – растолкал его.
– Встань, брат!
– Что случилось, отче? – Николай испуганно смотрел в мокрое от слез лицо игумена.
– Брат наш Фаддей принял мученическую смерть за Христа!
«Куда ты удалился от меня, блаженный сын? – писал Феодор в тот же день, обращаясь к новому мученику в письме, адресованном Навкратию и остальным братиям. – Куда так скоро вознесся ты, сопричисленный к мученикам? О, жребий твой! О, благородство твое!» Игумен просил молитв у нового святого и заканчивал письмо так: «Смотрите, братия мои, что случилось, какое сокровище и какого брата мы приобрели. К славе Божией, и к нашей хвале, а также и к радости целой Церкви служит мученик Христов Фаддей!»