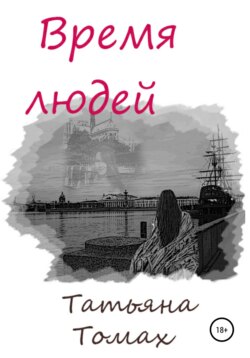Читать книгу Время людей - Татьяна Томах - Страница 1
1917. Павел
Оглавление– Щенок недоделанный, – ощерясь, рявкнул Куровский, и зло пнул мертвого гимназиста. Тело мальчика дернулось, будто собираясь ожить, и мягко перекатилось на спину, уставившись на убийц застывшим взглядом. Павла почему-то замутило, хотя в последнее время он навидался мертвецов куда страшнее этого – раскромсанных, разорванных, превращенных в кровавое месиво. Сперва было тошно, потом он почти привык. Понимал – нельзя иначе. Товарищ Фром так и разъяснял, прохаживаясь звериным пружинистым шагом вдоль строя, грозно и отрывисто взлаивая в низкое сумрачное небо: «Только массовый тер-ррор спасет р-революцию! Не вр-ремя для вшивой интеллигентной мягкотелости! Впер-ред, товар-рищи!». «Р-ра!» – согласным рыком отвечали бойцы, ели товарища Фрома голодными блестящими глазами, переминались на месте от нетерпения, готовые сию же минуту сорваться следом за любимым вождем. И Павел рычал вместе со всеми, синхронно с соседями вскидывал вверх винтовку, и сотни штыков угрожающе целились в небо, будто собираясь порвать в клочья серую облачную шкуру. Тогда было все понятно, очевидно и просто. Но сейчас, над трупом мальчика в гимназической форме, в разоренной гостиной чужого дома, Павлу вдруг опять сделалось тошно. Отвести бы взгляд в сторону, перестать смотреть, но он не мог.
Лицо у мальчика было страшное, неправильное. Правая сторона – человеческая, детская – округлая пухлая щека, чуть наметившийся пушок над верхней губой, удивленно распахнутый светло-серый глаз в окружении длинных, по-девичьи загнутых ресниц. А слева розовый нежный рот выгибался в кривом оскале, обнажая кривой клык, на заострившейся скуле курчавилась серая комковатая шерсть, и темно-карий звериный глаз тускло проблескивал алым.
Фактически, Куровский сказал правильно. Мальчик не успел обернуться. Или, хуже того, попробовал сделать это в первый раз именно сейчас. От страха или отчаяния. Но это ничем ему не помогло, штык Леньки Куровского все равно ловко и быстро пропорол узкую грудь в гимназическом мундире. А Павел в ту же секунду выстрелил в серую тень, метнувшуюся на помощь мальчику. Действуя слаженно и синхронно с напарником. Единым организмом. Как учил товарищ Фром.
По правде говоря, быть единым организмом с Ленькой Куровским было довольно неприятно. В человеческом-то облике он не отличался привлекательностью, а в зверином становился с точки зрения Павла и вовсе отвратительным. Горбился, двигался как-то боком и вприпрыжку, недоверчиво зыркая исподлобья сузившимися злыми глазками, часто облизывая острые клыки тонким языком. Напоминал даже не собаку, а шакала, или, скорее, гиену. Точно спросить у него Павел, конечно, не решался.
Пнув мертвого мальчика, Куровской с довольным оскалом склонился над вторым телом. Повел удлинившимся носом, принюхиваясь, облизнулся, и замер, склонив голову набок и прижмурившись. Будто для него не было ничего приятнее, чем запах и вид мертвого тела возле ног. «Все-таки, гиена», – решил Павел. Его опять замутило, покачнувшись, он шагнул назад. Скрипнул паркет, Ленька вскинул голову, мазнул по напарнику мутноватым взглядом. Оскалился.
Павел попятился. «Что-то не так – понял он, чувствуя тяжелый Ленькин взгляд. – Что-то не так с моим лицом. То есть, с мордой». Стискивая винтовку вспотевшими пальцами, он отступил еще на несколько шагов, запинаясь о книги, выпавшие из разбитого шкафа. Задохнулся от ужаса, представляя, как падает рядом с мертвым гимназистом. А сверху наваливается оскалившийся рычащий Ленька, чтобы тоже пригвоздить его штыком к полу. Потом опомнился, собрался, вспоминая, как они стояли все вместе, плечо к плечу, перед товарищем Фромом, и слаженно рычали в серое угрюмое небо. Павел встряхнулся, насильно возвращая себя обратно, внутрь стаи, с почтением замершей перед вожаком. И вдруг увидел прямо перед собой оранжевые Ленькины глаза с вертикальным зрачком. Куровский моргнул, склонил голову и вдруг усмехнулся, блеснув острыми клыками.
– То-то же, – проворчал он. – Не расслабляйся, салага.
Под его снисходительным взглядом Павел почувствовал себя зарвавшимся щенком и смутился.
Куровский, порыкивая и неуклюже посвистывая, вернулся к второму телу.
– А ловко ты его, Павлуха, – одобрительно, как ни в чем ни бывало, сказал он. – Прямо в сердце. В сердце! – повторил со вкусом и облизнулся. – Новичкам везет!
– Ты глянь, а! – вдруг воскликнул Куровский и рассерженно ткнул штыком в мертвеца. – Сволочь, а!
– Что? – решился спросить Павел, осторожно приближаясь.
– Волчара! – яростно оскалился Куровский. – Волчара! А погоны-то! Нет, ну глянь!
Речь Куровского смешалась с захлебывающимся рычанием, стала совсем невнятной.
– Белогвар-рдейская сволотчь! Это у них, значит, пор-рода!? А мы, значит, псы безродные?! А у них в офицерьях только чистопородные? А этот, глянь, поручик – и волчара!?
***
Так и не решившись поговорить с Алешей, Ася решилась все рассказать Игорю Львовичу.
– Асенька! – восхитился профессор, обрадованный ее приходом. И немедленно начал суетиться – аккуратно снял с гостьи пальто, сунул к ногам мягкие тапочки, распахнул дверь в гостиную. Поддержал за локоть, помог уместиться в глубоком кресле, обернул плечи пушистым пледом. Упрекнул: – вы сейчас так редко заходите, голубушка.
– Да я сейчас устаю быстро, – смутилась Ася, укрывая пледом огромный живот.
– Конечно, голубушка, – замахал руками профессор, – но разве мое общество такое утомительное? Вот, теперь я вам сделаю чаю. Кофе даже и не просите. Да и потом, он у меня все равно закончился. Вот, теперь сидите и отдыхайте. Я сейчас.
– Не на… – сказала было ему вслед Ася, как обычно, смущенная таким обилием внимания, но Игорь Львович уже скрылся за дверью.
– Сидите-сидите, – строго велел профессор, – не смейте даже двигаться!
Он подвинул к креслу маленький столик, расставил посуду, налил чаю в тонкие фарфоровые чашки.
– Мед, Асенька, пробуйте непременно, вам полезно, это я в старых запасах на кухне нашел случайно. А это…хм… у меня осталось немного муки, и вот… Собственно, я даже не знаю, как это блюдо рекомендовать – то ли оладьи, то ли печенья…
– Очень вкусно, – соврала Ася, откусив кусочек от серой жесткой лепешки.
– Правда? – удивился Игорь Львович, попробовал свою лепешку, задумчиво пожал плечами. – А я-то считал, что кулинария – не моя стихия. Правда, вкусно?
Ася кивнула и улыбнулась.
– Вот и чудесно, можно будет открыть пекарню, когда настанут совсем плохие времена. Пойдете ко мне помощницей, Асенька? Вам нужно будет только улыбаться посетителям, под вашу чудесную улыбку они проглотят даже мои кулинарные экзерсисы.
– А они настанут?
– Кто?
– Совсем плохие времена? То есть, дальше будет еще хуже?
– Асенька…
– Только не придумывайте ничего утешительного, Игорь Львович. Просто скажите мне правду, ладно? Мне сейчас и так все врут. Говорят, что мне волноваться нельзя, как будто их вранье меня успокоит. Алеша газеты прячет, и какую-то ерунду вместо новостей рассказывает. Даже Митенька врет, а ведь ему всего двенадцать, и он всегда был такой честный, я ведь ему вместо мамы, и он никогда раньше…
– Асенька, не волнуйтесь, я вам точно не стану врать, потому что я не умею. Вы где видели учителя истории, который врет?
– Да все они врали изрядные, – усмехнулась Ася и смахнула слезы платком, который протянул ей Игорь Львович.
– Вот это верно, – покаянно подтвердил тот. Аккуратно вынул из рук девушки опустевшую чашку, налил чаю, поставил на блюдечко, подвинул к Асе. – Враль на врале. Почему, Асенька, думаете, я пошел именно в историки?
– Потому что можно придумать любую ерунду и сказать, что так и было?
– Как вы обо мне дурно думаете! Потому что я хотел знать правду. И понял, что никто мне ее не скажет, если я только сам ее не отыщу.
– И как?
– Ну… – Игорь Львович вздохнул, откусил от своей лепешки, повертел ее с сомнением и отложил в сторону. – Это оказался такой долгий процесс…
– Так вы думаете, дальше будет хуже?
– С историей?
– Нет, с нашим временем.
– Понимаете Асенька… в некоторые моменты… времени история, то есть, все происходящее, становится как лавина. И тут мы с вами уже ничего не можем изменить. Потому что запустить лавину может кто угодно… любой дурак, любая сволочь, которая окажется на горном склоне в нужное время и в нужном месте. Для этого надо просто что-нибудь громко прокричать в этом самом месте и в это время. Необязательно осмысленное. А после того, как лавина уже покатилась вниз, остановить уже ее не может никто. Разве что какой-нибудь великан. Но великаны бывают только в сказках, а мы говорим про обыкновенную жизнь. А в обыкновенной жизни обыкновенных людей эта лавина сметет и переломает. Всех, кто окажется на ее пути. Даже таких замечательных, как вы, Асенька, и таких храбрых, как Алексей, а тем более, таких неумелых изготовителей овсяных оладий, как ваш покорный слуга. Вот, ешьте лучше мед.
– Значит, мы стоим под лавиной? – уточнила Ася.
– Образно говоря…
– Почему вы еще не уехали, Игорь Львович?
– Что?
– Ну, вот Алеша мне все говорит, что надо немедленно бежать. То есть я сейчас не могу, и он это понимает, но иногда начинает настаивать, что все равно надо бежать немедленно, иначе будет поздно, и что он это чует. Но для того, чтобы бежать, я должна… мне надо измениться. Понимаете?
– Асенька, конечно, вам сейчас опасно…
– Не только. Знаете, я Алеше это не говорила, но мне кажется, даже после того, как родится ребенок, и на него это уже не повлияет, даже тогда я не смогу… я не захочу… Я и раньше никогда не хотела…
– Я знаю, Асенька, – перебил ее Игорь Львович. – Я знаю.
– И что мне делать? – дрогнувшим голосом спросила Ася.
Профессор вздохнул. Осторожно вынул чашку из судорожно сжатых Асиных пальцев, легонько сжал напряженые ладошки в своих руках.
– Асенька. Делайте то, что вам кажется правильным. То, что вы чувствуете. Потому что нет абсолютной правды и абсолютной истины. Это я вам как историк говорю. Есть правда, в которую мы верим и которую этой верой делаем настоящей. Поэтому делайте то, во что вы верите.
– А что, от лавины можно убежать? – усмехнувшись, тихо спросила Ася.
– Нельзя, – кивнул профессор. – Но можно отойти в сторону. И обождать, пока она прокатится мимо.
Они помолчали, держась за руки, будто пытаясь убедить друг друга, что еще не поздно, что еще есть время услышать грохот летящей сверху лавины и отойти в сторону.
– Игорь Львович, – спохватилась Ася. – Я ведь пришла потому что хотела спросить… узнать, может ли так быть… И что это значит, если…
Она запуталась и замолчала. Собеседник терпеливо и спокойно ждал. Ася решилась и выпалила:
– Мне кажется, что Алеша превращается в волка…
***
Она потом часто вспоминала тот разговор, когда Игорь Львович почти убедил ее, что нет ничего страшного. Мол, каждый выбирает для себя то, что ему нужнее всего в данный момент. Быть служебным псом, верным командиру и присяге, или одиночкой, которому важнее защитить свою семью.
«Если он смог, – думала Ася, – если он смог измениться ради меня, почему я не могу?» Она знала, что ребенок – это просто отговорка. Что и потом для нее все будет так же. И чувствовала себя виноватой.
***
Перетряхнув в соседней комнате ящики стола и потыкав штыком в диванные подушки, Куровский остановился и принюхался, поводя мордой в разные стороны.
– Чуешь? – спросил он.
– Что?
– Опять размяк, салага? – презрительно бросил он Павлу. – Личико строим, как баре? Обожди, еще поучу тебя жизни, щенок, живо забудешь у меня лица корчить на своей морде. Сперва только найдем, что он тут защищал.
– Кто? – спросил Павел, на всякий случай отступая от оскалившегося Куровского подальше.
– Да волчара этот, – Ленька опять шумно вдохнул, прикрывая глаза. Ухмыльнулся. – Или кого.
И, повернувшись, рысью метнулся по лестнице на второй этаж.
Первая комната была пуста. Вторая – заперта. Принюхавшись к щели между дверью и косяком, Куровский, довольно заворчал.
– А ну-ка, – велел он, – Навались!
И, отскочив, боком прыгнул на дверь. Та затрещала. Павел послушно ударил плечом следом. Дверь с грохотом выпала в комнату.
Напротив окна стояла женщина с ребенком на руках и молча смотрела на налетчиков. Они оба замерли на пороге. Куровский – от неожиданности, потому что уже очень давно им не встречалось человеческих лиц.
А Павел – потому, что он ее сразу узнал.
***
– А это что за картина? – спросил Павлик.
– Это икона, – поправил отец Иоанн.
– Значит, тут бог?
– Да. И богоматерь.
Павлик с сомнением уставился на икону, совершенно с его точки зрения, неправильную. То есть, она была, конечно, красивая. Очень красивая, эта богоматерь. И, наверное, добрая, судя по улыбке. Это Павлику больше всего и понравилось. Нежная улыбка, будто обещающая что-то очень хорошее всем, кто на нее смотрел. И Павлику тоже. Поэтому на нее хотелось смотреть снова и снова. Верить обещанию. Хотя он и знал, что это вранье, просто картинка, которую нарисовал кто-то, кому тоже захотелось чего-то хорошего, чего не хватало в настоящей жизни. А насчет иконы отец Иоанн, верно, пошутил – потому что это была совершенно обычная человеческая женщина. И ребенок на ее руках – тоже человеческий. Поэтому Павлик сказал, гордый тем, что его не проведешь просто так:
– Так ведь бог должен быть… то есть, если мы – по его образу и подобию, значит, он должен быть…
– Вот именно, – с улыбкой подтвердил отец Иоанн. И хотя он улыбнулся, Павлик понял – не шутит. И растерялся. Потому что дальше отец Иоанн объяснять не стал. Мол, хочешь – сам додумывай.
Отец Иоанн был неправильный священник. Прихожан у него почти не было. Не то, что в центральной большой церкви, где все иконы – правильные, привычные, со звероподобными ликами. И священники такие же, и одежды у них – богатые, расшитые золотом, не то, что штопаная старая ряса отца Иоанна. И молился он неправильно. Нет бы, как положено, свечечки да яркие иконки продавать, да деньги собирать за здравие и упокой, он, простофиля, норовил все бесплатно делать, да еще помогал разным нищебродам то едой, то одеждой. Одним словом, никакого уважения у приличных людей ни он, ни его церковь не вызывала. Поговаривали, что ее вообще собирались закрывать.
Но так получилось, что Павлик к нему часто забегал. Потихоньку конечно, чтоб другие не увидели. Сперва – потому что ему просто деваться было некуда. В последнее время от мамани с папаней никакого житья не было. Папаня так и раньше выпить любил, а тут чуть не каждый день зачастил. А после первой стопки он сразу человеческий облик терял, и маманя тут же подхватывалась. Сцеплялись они, как кошка с собакой – в буквальном смысле. Папаня гавкает да рычит, маманя шипит да визжит; зубы клацают, когти скрежещут, посуда бьется, шерсть клочьями. Старшенькие дети от такого дела по гулянкам сбегали, а младшенькому, Павлуше, деваться было некуда. Сперва он под столом или на печке от родительского буйства прятался. Но и туда иногда долетало. А потом стал из дома уходить. И однажды его, замерзшего, зазвал в гости отец Иоанн. Напоил горячим чаем, угостил засохшей баранкой. И с тех пор Павлик к нему зачастил. Не то, что чай был такой вкусный, не говоря о закаменевших старых баранках, а главное, что очень покойно и тепло было у отца Иоанна. Павлик к нему греться ходил. Зимой думал – от сквозняков в родном доме спасается, где всегда дверь ходуном ходила – то папаня со всего маху ею шваркнет, то маманя, то старшенькие, которые уже начинали на родителей в ответ погавкивать. А летом вдруг понял – все одно, холодно ему дома. Изнутри холодно, колотун знобкий трясти начинает, как только маманин оскал увидит или папанины озверевшие глаза. Вот Павлик у отца Иоанна и отогревался. Заодно по хозяйству помогал. Отец Иоанн в этом смысле бестолковый оказался. То палец ушибет, пока дрова рубит, то кашу спалит, книгой зачитавшись. Как он один без Павлика раньше жил, непонятно. Зато хорошо сказки рассказывал, заслушаешься. В основном, про того мальчика, который маленький на руках у богоматери нарисован. Досталось ему, конечно, крепко. Еще бы – всю жизнь человеком остаться, даже когда озверевшая стая со всех сторон на него кинулась – и то устоять, не измениться. То-то богоматерь на него так грустно смотрит, видно чувствует что-то такое. Павлик эти истории, затаив дыхание, слушал. Например, как этот Сын человеческий в одном селении подошел к озверевшему, и без страха возложил руку на щетинистый загривок. И озверевший вернулся в человеческий облик, хотя его таким уже много лет никто не видел. Вот бы, думал Павлик, он и к нам в дом пришел, когда маманя с папаней грызутся. Или не надо? Пожалуй, маманя скорее ему руку отхватит, она очень быстрая и злая становится, когда звереет. Да и толку? Он уйдет, а родители обратно гавкаться начнут. Не станет же он всю жизнь рядом с ними ради Павлика сидеть.
А однажды, замечтавшись и засмотревшись на добрую женщину с младенцем на неправильной иконе отца Иоанна, Павлик подумал и вовсе крамольное. А вот, если бы у него были совсем другие папаня и маманя… Человеческие. Как эта богоматерь с доброй и красивой улыбкой. Или как отец Иоанн.
***
Богоматерь – подумал Павел, глядя на красивую женщину с ребенком на руках. Ноги у него ослабели, и он прислонился к стене, чтобы не упасть. И только сейчас почувствовал, как оттаивает внутри колючий замерзший комок, который, оказывается, все это время был у него вместо сердца. Будто он опять уселся на лавку в теплом доме отца Иоанна, сбежав от мамани и папани. Только теперь это больно до слез, потому что за последние годы вокруг сердца маленького Павлика намерзло слишком много дряни и грязи, и теперь, стаивая, она жжется и царапает изнутри так, что почти невозможно дышать. Он стоял, цепляясь за нелепую свою винтовку и хватая воздух, как рыба, выкинутая на берег. И даже сперва не расслышал, что там говорит Куровский.
Куровский скалился и одновременно довольно жмурился, выставив вперед штык.
– А ну-ка, – почти ласково прорычал он, облизывая клыки. – Ну-ка, положь щенка. Живым оставлю. Может быть. Если сделаешь, что надо. Поди сюда. Ну!
Женщина отступила, прижимая ребенка к себе, быстро глянула себе за спину, на окно, и опять обернулась к взломщикам. Рыжая коса метнулась с одного плеча на другое и на секунду на ее лице сквозь отчаяние и страх мелькнуло едва уловимое, звериное выражение. Будто рябь прошла по воде, искажая черты, сминая человеческое лицо в оскаленную львиную морду.
Павел дрогнул, наваждение ушло. Не икона, а живая женщина стояла перед бойцами второго летучего отряда комиссара Фрома. Перед убийцами и насильниками. «Изменись, дура», – мысленно взмолился Павел, тщетно отыскивая в ее лице только что мелькнувшие звериные черты. Что бы она ни решила- защищаться или сдаться, покорно сделать то, что хотел от нее Куровский – то и другое проще пережить в звериной ипостасти. Женщина упрямо мотнула головой, будто услышав Павла, и глянула на него отчаянными и горячими глазами. Человеческими. Как та, другая, на иконе.
– Давай, – рыкнул Куровский, – второй раз предлагать не буду. На штык обоих. Ты мне и мертвая сойдешь. Киса.
Он ухмыльнулся. Видно, тоже заметил львиную морду, на миг мелькнувшую вместо лица.
Женщина не шевельнулась. Только вроде ребенка к себе крепче прижала и глаза еще шире распахнула.«Изменись!» – опять беззвучно крикнул ей Павел. Куровский перехватил поудобнее винтовку и шагнул к женщине.
– Стой, – сказал ему в спину Павел. Так тихо, что сам себя едва услышал. Но Куровский обернулся. В его вытянувшейся оскаленной морде уже совсем почти не осталось человеческого. «Я его не остановлю,» – тоскливо понял Павел. И задрожавшей рукой поднял винтовку.
– Щенок, – изумленно прорычал Куровский, с трудом проталкивая человеческие слова сквозь звериную глотку. – Ты на кого пасть открыл?!
Нужно было заскулить и упасть на пол, униженно умоляя о прощении. Тогда Куровский пнул бы его несколько раз по ребрам, но не стал убивать. Старшие товарищи по стае не убивают зарвавшихся щенков, а только учат их жить.
Они выстрелили одновременно.
***
– Асенька, – укоризненно сказал тихий голос, – ну зачем же вы привели его сюда?
– Потому что он меня спас, Игорь Львович.
– Голубушка, милая, да они просто подрались за самку, неужели вы не понимаете? Конфликт между альфой и подчиненным, провокация для изменения иерархии в стае. Обычное дело.
Павел открыл глаза и сейчас же зажмурился от яркого света. Свеча стояла возле его головы. Заскулив, он свернулся клубком, баюкая больную руку.
– Нет, – уверенно ответил женский голос. – Не то.
Павел снова приоткрыл глаза, теперь осторожно – и сразу же узнал ее лицо. Так странно, что у нее оказалось самое обычное имя. Ася. Надо же.
– Да почему же не то?
Обладатель второго голоса склонился на Павлом. Долговязый, тощий и очень недовольный тип лет сорока, а то и старше. Седина в черных, коротко стриженых волосах, тщательно выбритые щеки, очки с круглыми стекляшками на длинном носу, шейный платок на тощей шее, франтоватый бархатный пиджак.
– Вот, поглядите, – добавил он, гневно сверкая глазами и очками, – поглядите хотя бы теперь на его морду!
«На свою посмотри», – хотел огрызнуться Павел. Но, во-первых, не хватило сил, а во-вторых, у типа все-таки, было лицо.
– Потому что сейчас ему больно, – сказала Ася. И от нежности ее голоса у Павла горячо дрогнуло сердце. – А так проще. Вы сами говорили, профессор.
– Где я? – сипло спросил Павел. И подумал недовольно – ишь, профессор, видали мы таких.
– Асенька, молчите! – торопливо встрял долговязый профессор.
– Вы в безопасном месте, – ответила Ася. – Не беспокойтесь, мы… я вас перевязала, у вас ранено плечо. Штыком. Еще пуля, но она только задела голову, ничего страшного.
– А Куровский?
Павел вдруг вспомнил весь сегодняшний день, одним махом. Взволнованно приподнялся, опираясь на локоть, и зарычал от боли.
– Убит. Кажется, – неуверенно ответила девушка. – Лежите спокойно, пожалуйста.
– Это второй? – неприязненно спросил профессор.
– Вам тут нельзя оставаться! – Павел, превозмогая дерганье и нытье в левом плече, все-таки поднялся. – Понимаете? Если он убит или ранен, – он сглотнул, представляя, что будет, если выживший Куровский расскажет обо всем, – в любом случае, они пойдут по следу, понимаете? И…
– Какой заботливый, – иронично пробурчал профессор.
– Мы уйдем на рассвете, – сказала Ася.
– Все равно ваши сейчас грабят город, – опять встрял долговязый. – Им не до нас.
Ночью расхныкался ребенок. Ася долго его успокаивала, сперва бормотала что-то невнятное и ласковое, потом негромко пела. А потом, когда он замолчал, заплакала сама. Очень тихо и горько. Игорь Львович принялся ее утешать.
Павел лежал, не шевелясь, чувствуя, что подслушивает чужой, не предназначенный для него разговор, но не знал, куда деться.
– Мы не успели, – шептала Ася, захлебываясь слезами. – Нас накрыло лавиной. И Алешу, и Митеньку, и…
– Но вы-то живы, Асенька. И малыш. И ради него вы должны…
– …накрыло и тащит вниз. Я сегодня… знаете, Игорь Львович, я сегодня едва не стала зверем.
– Но ведь едва?
– Знаете, почему удержалась? Испугалась, что не смогу вернуться обратно. Что мне понравится. Потому что сейчас иначе – почти невозможно. Посмотрите вокруг, много осталось людей? Хотя бы из тех, кого мы знали?
– Но ведь еще остались.
– А зачем? Зачем я не сделала этого раньше? Когда Алеша меня просил. Мы бы ушли вместе. Может, он был бы сейчас жив.
– А может – нет. Асенька, послушайте, ни секунды не жалейте о том, чего сделали, а чего не сделали. Это – прожито. Осталось в прошлом. История. Ее не переписывают, а если и переписывают, то получается вранье. Помните, я говорил, что надо делать то, во что веришь?
– Значит, мы верили неправильно. И значит, моя жизнь осталась в прошлом. И ваша. У нас с вами, таких, нет теперь будущего, понимаете? Если в мирное время быть человеком – неудобное чудачество, над которым посмеиваются, то сейчас – это просто опасно для жизни. Я уже погубила тех, кто меня защищал. Теперь мы погибнем сами. Рано или поздно.
– Асенька, послушайте меня. Сейчас, безусловно, тяжелое время, но оно когда-то закончится. Но если мы с вами изменимся, и все остальные, если не останется ни одного человека, вы понимаете, что наша цивилизация обречена? Новые дети, воспитанные зверьми, никогда не увидят человеческого лица. И у них не будет даже шанса. Они даже не будут знать, что можно жить по-другому. Останутся только инстинкты и законы стаи. Регресс. Обратно в пещерный век, а потом – в дикую стаю. Конец человечества.
– Это недолго, – не выдержал Павел.
Собеседники на другой стороне подвала растеряно замолчали.
– Что? – через пару минут неуверенно переспросил профессор.
– Вы правильно говорите, что скоро закончится. И товарищ Фром говорит, что так. Это необходимые тернии, по которым надо пройти, чтобы добраться до светлого пути…
– Глупости говорит ваш товарищ как его, – рассерженно перебил Игорь Львович. – Видали, Асенька, какой идеологией их пичкают, этих революционеров? Запомните, молодой человек, путь, на котором людей вынуждают становиться зверьми, ни к чему хорошему привести не может. В частности – ни к чему светлому.
– Светлое кажется таким потому, что мы приходим к нему через темноту, – не согласился Павел.
– Нет, ну вы гляньте на этого философа, Асенька! И вы по-прежнему утверждаете, что со всеми этими утопическими идеями он вас сумел защитить?
– Да, – подтвердила Ася, и по ее голосу Павлу показалось, что она улыбается.
– И ничего я не дрался за самку в этой вашей иерархической структуре стаи, – обиженно добавил он, ободренный этой невидимой улыбкой.
– Точно, – уже явно усмехнувшись, сказала Ася.
– Это с чего вы так уверены? – пробурчал Игорь Львович.
– Да потому что когда он стрелял в этого второго, в зверя, у него было человеческое лицо.
***
Они ушли на рассвете, как договаривались. В городе к этому времени стихло, только на западе, далеко на окраине, пощелкивали редкие выстрелы, и оттуда же вился узкий черный шлейф дыма.
– И почему вы, Асенька, так уверены, что он нас теперь же немедленно не сдаст этой своей стае? – прошептал Игорь Львович, считая, что говорит достаточно тихо. – Вон, гляньте на его морду, так и вынюхивает чего-то.
– Я смотрю, свободна ли дорога, по которой вы собрались идти, – объяснил Павел, передумав обижаться на вредного профессора сразу же, как увидел Асину улыбку.
Он постоял, глядя, как они уходят. Ася пару раз обернулась, осторожно придерживая сверток с ребенком, и помахала рукой.
А потом вдруг, неожиданно даже для себя самого, сорвался и догнал их в несколько прыжков. И ухмыльнулся, заметив, как испуганно шарахнулся в сторону профессор. Ася рассмеялась и как будто ничуть не удивилась. Павел перехватил у Игоря Львовича узел с вещами, закинул на здоровое плечо.
– Теперь быстрее пойдем, – сообщил он. Профессор покосился на него, но промолчал. И только через некоторое время, видно придя в себя, опять начал болтать, только иногда останавливаясь, чтобы перевести дыхание.
– А знаете, Асенька, я однажды дал студентам такое задание. Придумать, что было бы с нашим миром и нашей историей, если бы люди всегда оставались людьми. Но не по своему выбору, а по необходимости, по внешнему ограничению, из физической невозможности обернуться тем, кем ты себя сейчас чувствуешь. И знаете, что?
– Что? – послушно спросила Ася.
– Да разное написали, – Игорь Львович махнул рукой. – В основном, утопическое, – тут он почему-то покосился на Павла. –Что, мол, как немедленно наступил светлый путь и общее благоденствие. Но была одна стоящая работа. И знаете, что там было? Утверждение, что ничего не изменилось. Ничегошеньки. Все события истории остались абсолютно такими же. И ужасы инквизиции, и татарское иго, и крепостное право. Только, например, опричники Ивана Грозного были не псами-оборотнями, как у нас, а как бы людьми. Но именно как бы. Потому что только внешность их была иной, а внутренняя суть – такой же. Поэтому делали они то же самое, что наши настоящие оборотни. И так – во всем. И я подумал, что, несмотря на скверный внешний вид, в нашем мире жить все-таки проще. Представьте, каково, если нельзя с первого взгляда, по морде или лицу, распознать, человек перед тобой или зверь? Или что именно за зверь? – Тут Игорь Львович опять покосился на Павла.
– Да, так, пожалуй, сложнее, – согласилась Ася.
– А еще я думаю, что как бы не менялись всякие внешние условия, ни на что они не повлияют. Покуда сама суть человеческая не изменится. И насчет лавины, помните, Асенька? – спохватился он, отплевываясь от снежинок, которые вдруг посыпались с помрачневшего неба. «Хорошо, – решил Павел, – как раз наши следы засыпет».
– Что насчет лавины?
– Это не лавина в прямом смысле, потому что лавина бездушна и стихийна. Это как бы лавина, даже стая… как бы… например, крыс…
– Фу, – поморщилась Ася.
– … которую ведет такой крысолов с дудочкой, знаете? И вот, когда она тебя настигает, самое простое – упасть на четвереньки и самому побежать в этой стае, такой же крысой, не думая, куда и зачем, и кто вокруг тебя и кто впереди. А можно остаться на ногах, человеком. Да, есть опасность, что тебя сожрут заживо, все эти крысы, но ты можешь и устоять. И не только устоять – а еще и помочь подняться кому-то другому. Еще, теоретически, в этой ситуации, можно вырезать свою собственную дудочку и…
– Он всегда так много болтает? – спросил Павел, когда они остановились немного передохнуть.
– Когда волнуется, – улыбнулась Ася. И, чуть поколебавшись, протянула ему сверток со спящим ребенком. Павел шагнул навстречу, а потом остановился.
– Подожди, – смущенно попросил он. – Сейчас.
И отвернулся от нее на пару минут. Он вспомнил, как ему, маленькому, было страшно и противно видеть вокруг себя оскаленные звериные морды. И когда снова повернулся к Асе, у него уже было человеческое лицо.