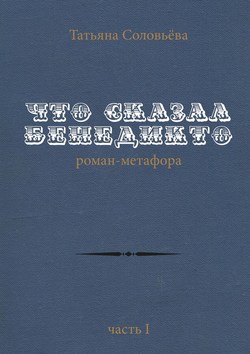Читать книгу Что сказал Бенедикто. Роман-метафора. Часть 1 - Татьяна Витальевна Соловьева - Страница 12
Глава 6. Гейнц Хорн
Оглавление***
Когда Гейнцу Хорну исполнялось пять, Анне-Марии было десять. К тому времени они уже два года жили без матери. Анна-Мария была для Гейнца и матерью, и сестрой – она была для него всем. Она училась игре на фортепиано, по многу часов проводила за роялем матери, и Гейнц все часы ее занятий или стоял рядом с сестрой и смотрел, или играл у ее ног на ковре, слушая очень внимательно, тихо себе под нос напевая то, что она играла, но подойти к инструменту, чтобы извлечь из него хоть звук, категорически отказывался. Ни ласковые уговоры, ни авторитет Анны-Марии не могли переупрямить маленького Гейнца.
Жили они под присмотром учителей и гувернанток. Отца, иностранного советника и посла, дома почти не бывало. А приезжая домой на короткое время, он черпал сведенья о жизни детей от тех, кто за ними присматривал, сводя общение с детьми до минимума. Он обыкновенно «имел беседу» с дочерью, с сыном, при них подробно анализировал сказанное гувернантами, брал с детей слово «и впредь стараться», и воспитательный момент на этом заканчивался.
Всё началось с того, что Анна-Мария и Гейнц попали на концерт симфонического оркестра с одной из тёток, сестер матери, которые иногда детей навещали. Гейнца не хотели брать на концерт по малолетству, но Анна-Мария отстояла брата, видя, что он расплачется, если его без неё оставят дома.
Гейнц весь концерт простоял, держась за стоящее впереди его кресло, во все глаза глядя на сцену, едва не переставая дышать. Его присаживали, он потихоньку сползал к краю кресла и снова стоял – словно он не слушал, а смотрел музыку и впереди сидящие мешали ему всё как следует разглядеть из глубокого кресла.
Несколько дней Гейнц только и говорил о концерте. Он брал в руки всё что угодно и превращал это в скрипки. Из всего оркестра он говорил только о них и распевал скрипичные партии так, словно они для него специально были расписаны и выучены им досконально. Он ходил по пятам за Анной-Марией и просил настоящую скрипку. Анна-Мария обратилась к отцу, приехавшему как раз погостить, отец, выслушав дочь, лишился дара речи от возмущения. Звук скрипки казался ему омерзительнее всего на свете, не говоря о том, что сам факт игры на скрипке для сына иностранного советника, тоже, безусловно, будущего дипломата и посла, – это неприлично, это позор, это непростительная блажь.
Он сказал это дочери и сказал это в самых непререкаемых выражениях своему пятилетнему сыну. Гейнц вжимал голову в плечи, пятился, огромными, полными слёз и гнева глазами, смотрел на отца. Ответить отцу он ничего не мог – он расплакался и убежал, а ночью у него был такой жар, что разбудили даже советника Хорна.
Крепким здоровьем Гейнц с рождения не отличался, унаследовав от матери болезнь сердца, от которой мать умерла тридцати лет от роду. Теперь вызванные врачи один за другим разводили руками и повторяли, что это нервная горячка, жар не сбивается, что при слабом сердце мальчика дни его сочтены и нет никакого спасения.
Советник Хорн должен быть уезжать, но немного отложил отъезд – раз речь шла о днях, он хотел дождаться определённости. Появление в его доме этого сына было для советника Хорна совсем нежелательным. Не то чтобы советник был злым человеком, но мальчишка явно был непутёвым, маленьким – и в том, что он умрет, большой трагедии для советника Хорна не было, разве что несколько откладывался отъезд. Несвоевременно. Но не приехать на официальные похороны сына – было бы странно, это бы говорило о душевной черствости советника, а возвращаться потом ради этого – хлопотно. Понятно, что у постели сына советник не сидел, но периодически заходил и спрашивал тех, кто при мальчике находился: «Ну, как?» И спрашивал он это со все возрастающим нетерпением.
Первые дни Гейнц еще метался от жара, но краснота спадала с его лица, он все бледнел, губы его быстро синели, синел низ лица, западали глаза и очертился до остроты его носик с легкой римской горбинкой. Потом Гейнц ослабел так, что не мог приподнять не только головы, но и руки. Он ничего не ел, почти перестал пить, сестра никого к нему не подпускала, кроме врачей, сама ухаживала за ним, плакала, когда он впадал в беспамятство, и улыбалась, когда он открывал глаза.
Он приходил в себя все реже, отыскав глазами среди присутствующих Анну-Марию, смотрел только на неё, потом стал отворачиваться к стене, едва принимая воду с салфетки, которой Анна-Мария смачивала его губы.
Но однажды неожиданно для Анны-Марии он вдруг взял ее за руку, потянул к себе, а когда она наклонилась к нему, зашептал только ей, что он видел сон. Он был в Городе, где у всех людей были скрипки и где был очень красивый дирижер, с прямыми седыми, как у господина Ференца Листа, волосами. И этот дирижер подарил ему маленькую скрипку. Что он не хочет тут оставаться, он уходит туда, но пусть она не плачет, он скоро ее заберет, она будет с ним жить там, она будет петь и играть на рояле, а он будет целыми днями играть на скрипке, и тогда все будет по-настоящему хорошо. А здесь – всё равно жить не дадут.
В комнате был какой-то очередной доктор, он с дикими глазами слушал этот необыкновенный бред. Гейнц, совсем обессилев, смолк. Увидел слезы в глазах сестры, чуть мотнул головой.
– Говорю же, не плачь, – сказал он и закрыл глаза.
Но дверь в комнату открылась, и вошли двое. Один из них был портретно схож с изображением Листа – прямые с сединой волосы, отличный фрак, галстук-бабочка, а с ним был господин, которого Анна-Мария знала, но почти забыла. Он появлялся в доме еще до рождения Гейнца – кажется, появлялся, с ним было связано что-то хорошее. Да, он когда-то подарил ей совсем ненужную куклу, но он очень хорошо играл на рояле и даже немного учил Анну-Марию, он был веселый, и с ним было легко. Когда он исчез, она долго скучала о нём.
Эти двое вошли и поприветствовали всех давно не звучавшими здесь громкими голосами. Гейнц открыл глаза. Похожий на Листа человек сел в кресло у постели Гейнца, а старый знакомый Анны-Марии сел прямо на край постели больного, двумя руками взял его голову, потом опустил руки на грудь Гейнца, покачал головой. И произнёс странную фразу:
– А мы очень вовремя, Ленц.
Гейнц задышал сильнее, уперся локтями в постель, приподнялся и попросил у сестры пить. Анна-Мария подскочила, дала воды. Старый знакомый улыбнулся и шепнул:
– Ты просто умница, моя девочка. Завари-ка ему лучше крепкого чая, положи побольше сахара – он ведь любит сладкое, этот маленький сластена. Давай, моя дорогая, и про себя не забудь.
– Анна-Мария, – звонко, как до болезни, сказал сестре Гейнц, – это тот господин, – кивнул он на Ленца, – о котором я тебе говорил. Вы ведь пришли за мной, господин Ленц?
– Скорее, к тебе, – улыбнулся тот. – Тебе лучше? Что ж ты так разболелся? А я принес тебе скрипку, думал – мы с тобой поиграем.
– Где она?
– Я пока положил ее в коридоре, нам сказали – ты болен.
– Вы не могли бы ее принести, господин Ленц?
Второй так и держал руки на груди Гейнца. Гейнц этого не замечал, его занимал только Ленц. А вот доктор, стоявший в комнате, во все глаза смотрел на второго. Тот все улыбался, но слегка побледнел и на лбу его заискрился пот. Зато Гейнц порозовел, синева с его губ исчезла – притом, что мальчик говорил, почти сидел. Второй приподнял ему подушку.
Ленц не спеша вышел, принес скрипку в крохотном футлярчике, вынул ее, заставил Гейнца вытянуть руку, приложил скрипку, кивнул второму:
– В самый раз, Аланд. Ты угадал. Ну, что там? Что-то серьезное?
– Пустяки. Думаю, еще пару дней полежит – и можно будет вставать. Главное, чтобы есть начал.
– Гейнц, ты слышал? Если ты хочешь играть на скрипке, то надо быть сильным. Ты должен поесть.
– Хорошо, господин Ленц. Я буду делать все, что вы скажете.
– Другое дело.
Анна-Мария принесла чай на подносе, как настоящая хозяйка, не забыв даже о всё молчащем, официальном докторе Гейнца.
С обожанием глядя на Аланда, она протянула чашку ему первому. Он, улыбаясь, поцеловал Анну-Марию в лоб.
– Спасибо, моя дорогая. Ты забыла только про себя. Поэтому тебе придется выпить мой чай. Сделай это, потому что я тебя очень об этом прошу. У тебя сейчас кончатся силы, а за Гейнцем еще нужен глаз да глаз. Хорошо? Я потом почаевничаю с тобой, и мы поболтаем.
Аланд подошел к доктору.
– Проводи меня к этому идиоту.
– Вы о ком?
– О советнике, разумеется. Спасибо тебе, что ты парня вконец не угробил. Я оценил. Идем.
– Послушайте, но как вы это сделали? Я ведь все видел. Как у вас это получилось?..
Доктор лепетал, а Аланд под локоть подталкивал его к дверям. Доктору не ответил, оглянулся на Анну-Марию:
– Молодец. Пей, пей, спасибо тебе, моя девочка. Я скоро вернусь. С ним все будет хорошо. И не вздумай плакать.
Он говорил, как волшебник. Ей подумалось, что, наверное, в сказках волшебники говорят именно так. Но она уже всхлипывала. Всё недетское напряжение, что последние дни лежало на ней, как долго сдерживаемая плотиной река, рванулось наружу. Она выскочила в коридор, прислонилась к стене и плакала, пока Аланд не вернулся, не взял ее осторожно за плечи. За одну его улыбку Анна-Мария отдала бы всё на свете.
Гейнцу определенно стало лучше. Он уже позабыл о смерти, к которой так строго готовился. Он сидел на постели, болтал, как заведенный, с Ленцем и с восторгом рассматривал свое сокровище – скрипку. Ему не пришлось за ней уходить в свой прекрасный, ужасный город, которым он так напугал Анну-Марию.
– Ну, раз ты уже поплакала, то пойдем пить чай, – сказал Аланд.
– А папа? Что сказал папа? Он не заберет у Гейнца скрипку? Гейнц опять заболеет, вы понимаете?
– Я – понимаю. Я ему объяснил. По-моему, он тоже понял. Не плачь, он сегодня же уедет отсюда – и, надеюсь, не скоро появится.
– Правда? Как хорошо, – выдохнула девочка.
Аланд чуть усмехнулся.
– Идем, теперь моя очередь приготовить всем чай, а Гейнца надо немного покормить. Веди меня на кухню, мы с тобой все для всех приготовим. Да?
– Я вас помню.
– Я тебя тоже. Тебя не забудешь.
– И тебя… то есть вас… не забудешь.
– Значит, мы с тобой старые приятели. Слава Богу.
Он еще и засмеялся. И смех у него тоже был поразительный.
Аланд колдовал у плиты. Час был поздний, из прислуги никого уже в доме не было, им никто не мешал. Официальный доктор – и тот убрался.
Аланд мгновенно приготовил на пару какую-то молочную кашу из протертых овощей, дал попробовать Анне-Марии – это было исключительно вкусно и не похоже ни на какую еду из той, что ей приходилось есть раньше. Чай Аланда пах умопомрачительно, и был очень красив в легких чашках тонкого фарфора, которые почти никогда не доставались, а он не поленился достать.
Анна-Мария на всякий случай Аланда предупредила, что Гейнцек очень капризен в еде и может отказаться от этой вкусной каши просто потому, что никогда такого не ел или из упрямства. Она сказала это, чтоб Аланд не расстроился, когда Гейнц отвергнет его заботу. Но Аланд только опять засмеялся.
– Я ему покапризничаю, этому голубому поросенку, – а потом сказал ей серьезно, как взрослой: – На самом деле, дети капризничают над едой, только если не удовлетворяют их насущных потребностей, которых они сами толком не осознают. Ты же понимаешь, чего на самом деле Гейнцу не хватало. А он этого не понимал – и придирался хотя бы к еде. Как ему еще было выразить свой протест? И ему очень не нравилось, как к нему относится господин советник. Согласись, когда господина советника дома не было, он капризничал гораздо меньше. Я прав?
– Да.
– А сейчас ты увидишь то, чего ты никогда не видела. Идем.
Он взял тарелку с кашей, пошел к Гейнцу и просто поставил тарелку ему на грудь, а скрипку забрал.
– Съешь – получишь обратно, – это все, что Аланд сказал, но Гейнц опустошил тарелку без единого вопроса и возражения.
– Похоже, к нашему больному возвращается аппетит, – сказал Аланд, забрал тарелку и ушел с Анной-Марией пить чай на кухню, не мешая Гейнцу беседовать с его учителем.
– Видишь? Всё очень просто, – сказал Аланд, садясь напротив Анны-Марии. – Господин Ленц будет учить Гейнца дома, а тебя будут трижды в неделю водить в Школу музыки к очень хорошему педагогу. Пением и фортепиано занимайся серьезно, у тебя хороший, сильный голос, великолепные руки. Если тебе предложат выступать, не отказывайся, ты хорошо начала играть, потом и Гейнц к тебе присоединится. Отец ваш не будет пока вам больше мешать, мы с ним договорились. Если он забудет о нашем уговоре, я ему напомню.
– Спасибо вам, господин Аланд. Но если бы вы не приехали…
– Прости, моя девочка, я был очень далеко, я не сумел приехать раньше. Но теперь все будет хорошо. Я надеюсь, что все будет хорошо. И ты на это надейся.
Советник Хорн зашел в комнату Гейнца, посмотрел на ожившего сына, едва не скривился на скрипку, дипломатическая выдержка позволила ему удержаться от ненужного выражения.
– Слушайся доктора, – это всё, что он сказал Гейнцу, который на всякий случай вцепился в скрипку двумя руками и снова воинственно вздыбил плечи.
Советник Хорн ушел, едва взглянув на Ленца, и стал собирать не сильно разобранные чемоданы. Что сказал ему Аланд неизвестно, но отец уехал – и жизнь Гейнца и Анны-Марии переменилась. Беда только в том, что уехал и Аланд.
Анна-Мария поначалу много думала о нем, но потом жизнь захлестнула ее и брата. Через два года она выступала уже не только в Берлине, они с Гейнцем разъезжали с гастролями, дом их был увешан афишами, они играли и вдвоем, и поодиночке, играли с оркестрами и сольно. Их сопровождали добросовестные наставники и тетка по матери, когда-то сводившая их на судьбоносный концерт. Отца не было дома пять лет, он жил в Лондоне и раз в полгода присылал назидательные письма. Это были безоблачные годы их ученичества, их взлета, их триумфа и полного, абсолютного счастья. Они с Гейнцем все больше обожали друг друга, мужественно переживали короткие расставания двух артистов и бесконечно радовались встречам и совместным гастролям.
Возвратившийся советник Хорн не узнал свой дом и с порога впал в ярость – с ужасом озирая стены, увешанные афишами.
– Цирк шапито! – закричал он от двери. – Что за балаган! Немедленно убрать! Это приличный дом, а не театральный притон! Ко мне приходят приличные люди! А не черт знает кто! Ленц! За что вам платили деньги?! За то, чтобы вы превратили мой дом в бордель?! Вам отказано от дома, хватит морочить мальчишке голову!
Ленц был изгнан. Анне-Марии строжайше было запрещено покидать дом, а уж Гейнцу – тем более.
Гейнц, едва Ленц был вынужден прервать урок из-за скандала и уйти, побежал прятать скрипку. Пока сестра с молчаливой яростью снимала со стен афиши, советник, не стесняясь в выражениях, вещал ей о неслыханном позоре, жизни грошовых комедиантов, о неприличии для девушки из хорошей семьи вести такой распутный образ жизни, бог знает где и бог знает с кем катаясь по свету.
Гейнц был перепуган страшно. Он пытался поглубже под кровать затолкать футляр со скрипкой, когда вошел советник. Отшвырнув Гейнца, советник вытянул футляр, вынул скрипку и с размаху ударил ею о стену. От этого звука, у Гейнца что-то сломалось внутри, словно в сердце ему по самую рукоятку загнали нож. Советник добивал скрипку о стену, а на Гейнца сошло странное бесчувствие. Он плохо понимал, что отец кричал ему в лицо, не помнил, как оказался в его кабинете.
Анна-Мария слышала странный шум в комнате Гейнца, но что происходило за закрытыми дверями – она не знала. Слышала, как отец кричал, называя Гейнца такими словами, разносившимися на всю огромную квартиру, что Анна-Мария сгорала от стыда и возмущения. Почему-то ей сразу вспомнился Аланд, болезнь Гейнца, и подумалось, что Гейнц не перенесет оскорблений, которые сыплются на его бедную голову. Она-то покрепче, постарше, она сможет пережить злобу старого дурака, а что будет с Гейнцем? Когда отец волок его к себе в кабинет, он уже казался мертвецом: оцепенел, не дышал, поджимал руки, жмурился и глох от криков, раздающихся ему в самое ухо.
Она хотела сразу войти и прервать поток этой незаслуженной брани, но не решилась. Только когда она различила звуки пощечин – её уже ничто не могло остановить.
Она выхватила брата из рук отца. Гейнц, содрогаясь всем телом, прижался к ней, как-то бессмысленно, слепо моргая. Она впервые в жизни закричала на отца, и новый крик, раздавшийся над Гейнцем, прекратил его страдание. Он закрыл глаза, словно умер стоя, и только то, что Анна-Мария крепко сжимала его в объятьях, не давало ему упасть.
– Как вы смеете?? Что вы вообще понимаете?? Вы – злой, отвратительный старик!! Вы кричите, что ваш дом – приличный, и бранитесь хуже пьяного подмастерья! Я вас не буду никогда уважать, за то, что вы бьете его! Взрослый мужчина – бьете десятилетнего мальчика! Как вам не стыдно?!
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу