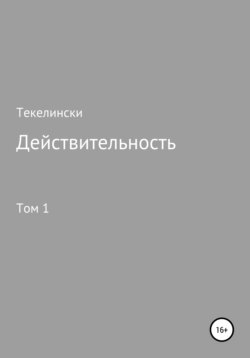Читать книгу Действительность. Том 1 - Текелински - Страница 1
ОглавлениеЭксперименты осмысления
Предисловие
Я писал свою книгу тринадцать лет, и за это время многое поменялось, как в окружающей меня жизни, так и в моём разуме. Эта книга есть суть олицетворение некоего становления моей мысли. Здесь словно нити, переплетались заблуждения с истинами, воплощаясь в разноцветный ковёр моего воззрения. Я бы не хотел после сказанного, отказываться от своих заблуждений, так как в определённый момент осознал, что выбрось я эти заблуждения из своего произведения, и весь ковёр рассыплется на отдельные несвязанные нити-фрагменты. Заблуждения, если они гармонично переплетены в произведении с истинами, на самом деле обеспечивают некую связующую целокупность, некую законченность общего образа философемы. Помимо прочего, если попытаться перевернуть этот «ковёр», то окажется, что те видимые с лицевой стороны нити заблуждения, вдруг ясно обозначатся на обратной стороне как истины, и наоборот, нити истин лицевой стороны, вдруг станут заблуждениями на оборотной. Такова судьба познания и его воплощения.
Эта книга не рассчитана на массового читателя, скорее на тот его небольшой круг, которому интересна глубина. На тех, кто, беря в руки книгу, надеется оплодотворить свой разум, предполагая, что для этого потребуется необходимый труд, напряжение всех функций разумения. Не думаю, что то, что развёрнуто на этих страницах будет интересно и увлечёт большое количество читателей. Ибо очевидно, что мир нашего социума стал менее философичен. Но тем ценнее в моём понимании, она будет. Ведь то, чем питается и удовлетворяется большинство, по моему глубокому убеждению, не заслуживает никакого внимания. Инстинкт большинства говорит: Философия, глубина созерцания и познания, это ненужный и даже опасный путь. Ведь на этом пути тебе не найти той полезности, которую знает большинство и к которой стремится. А главное здесь таится много того, что для большинства является враждебным и даже непреодолимым. И ты подумай хорошо, прежде чем ступать на эту дорогу, ибо обратного пути не будет. Однажды открыв эту страну, однажды попав на это поле, – вернуться, действительно будет невозможно. «Разбудив своих спящих драконов, тебе уже никогда не удастся их усыпить…». Но тот, кто всё же рискнёт, откроет для себя новый небывалый мир, в котором, как и в этом, привычном для нас всех мире, будет как много опасностей, так и множество запредельных невиданных областей и невероятных чудес, способных привести пытливую душу к непостижимому счастью, о котором нерешительный скромный обыватель, даже не подозревает.
Что есть наша действительность? Что есть наш мир? В чём сущностные основы нашей жизни и нашего мировоззрения? Этими, и подобными вопросами, люди задавались испокон веков, и будут задаваться до тех пор, пока существует орган, продуцирующий эту действительность. Мой взгляд на эту проблему не нов. Наш мир начинается иллюзией, и ей же заканчивается. Но вопрос в том, что ты вкладываешь в такое обширное понятие, как иллюзия. В моём понимании иллюзия имеет свою градацию, от пантеотектуры, воплощающейся в реальную основательность бытия, – в феноменальную картину мироздания, до чистой иллюзии сознания, как самой тонкой монады, выстраиваемой нашим разумом действительности собственного бытия, бытия воображения, порождающего все архитектонические чувствования и впечатления душевного агрегата личности, выходящие порой за всякие пределы феноменального мира, и ломающие все возможные «горизонты событий». Все наши критерии и оценки относительно реальности и достоверности окружающего мира, строятся исключительно на субъективных оценках, и к «истинной сути мира», (если представить себе таковую), не имеют никакого отношения. Всякая достоверность, какой бы она ни казалась абсолютной, опирается на веру. И одна вера отличается от другой, лишь самоопределяющимися наделами, и убеждённостью в этих наделах определённого вектора воззрения и созерцания. И здесь всё зависит лишь от отношения «оценочной ганглии» твоего сознания, к выстраиваемой другими «ганглиями» того же сознания, картине собственного мироздания и его осмысления. С одной стороны, «грубая основательность физического феноменально-эмпирического опыта», = с другой, – «тонкость опыта трансцендентального метафизического познания». Наше доверие к «доказанному», в сущности своей ничем не отличается от доверия к метафизическому и экзистенциальному. И там, и там, мы доверяем лишь определённому пантеону собственного воззрения и умозаключения. Весь вопрос лишь в достаточной очевидности «затвердевшего, окостенелого тела одного воззрения», и недостаточной очевидности другого, с телом мягким, тонким и уязвимым, – подчас запредельно-эфемерным.
И всё же иллюзия, была и остаётся единственной истинно-фундаментальной реальностью этого мира. Ибо, она и есть – само бытие. Иллюзия есть квинтэссенция всякой действительности, и основа всякой из её сторон. Действительности, которая сама по себе, в сакральных глубинах своего бытия, есть лишь «нарушение», – продукт сбоя вечной гармонии абсолютного баланса стихий архаической природы. Нарушение той безмятежной пустоты, о которой нам ничего неизвестно, и которая не может быть никак нами замечена, идентифицирована и обозначена. – Нарушение, воплощающееся в действительность бытия, в реальную действительность нашего мироздания.
В само понятие иллюзия, я вкладываю более широкое мировоззренческое осмысление, и наделяю его гораздо более глубоким смыслом, чем это принято в воззрении обывателя.C одной стороны, весь наш мир, вся наша действительность, есть лишь отражение в зеркале нашего ноумена. Некое приведение нашим «властолюбивым разумом» архаического мира хаоса к порядку, – к своему порядку. С другой стороны, наш разум, вся целокупность его динамической пантеотектурной особенности, есть воплощённый опыт внешней действительности, – «креативное олицетворение существующего самого по себе, мира». И если совершенно исключить нечто существующее вне нас, вне нашего разума, то неминуемо исчезает и само разумение. Но если исключить само разумение, то необходимо пропадает и нечто внешнее, – сама реальная действительность бытия этого мира. В конце концов, действительность, есть порождение двух противостоящих противно направленных, и не существующих по отдельности антиномий, обозначенных нами в упрощённой транскрипции сознания как объект и субъект, и воплощённых в нашем разумении в антагонистические противоположности феномена и ноумена. И не будь этого антропогенного дуализма, и мира действительности как такового, – не существовало бы вовсе. И самой иллюзии, этой Великой Стихеи бытия, не на чем было бы основываться, как в трансцендентальном и метафизическом опыте, так в эмпирическом и феноменальном.
И в продолжении этой концепции, при оценке различных воззрений, касающихся этой запредельной страны, я с полной уверенностью могу утверждать, что всякое воззрение, каким бы оно не казалось фантасмагорическим, имеет право на существование. Всякое воззрение, как бы оно не касалось своей «сферой» других воззрений, (а по большому счёту иных миров), всё же, навсегда останется единственным и неповторимым мировоззрением. И те глубокие истины, которые прячутся между строк, (а по-настоящему глубокие истины живут только между строк), могут быть замечены и рассмотрены только близкими по характерной структуризации разумами, со схожей душевной модуляцией волновой специфичности, и близкого фокуса воззренческого поля обзорности. А попросту сказать, индивидуального моделирования, и последующей ощущаемости собственного, продуцируемого разумом мироздания. И совершенно не видны, не замечаемы разумами чужеродными, пусть эти разумы и будут более гармоничны, сильны и глубоки в своих умозрениях.
В своём изложении, чувствуя пламенный холод близкой бездны, я где-то неосознанно, а где-то и намеренно делал отступления от уходящих в запределье векторов своего созерцания. Ведь если «глубина вообще», – не имеет дна, то глубина моего воззрения, его состоятельная возможность имеет свой предел. И когда ты подходишь слишком близко к этому «бездонному колодцу», необходимо отступить, чтобы не свалиться «в бездну беспредельного». Этот «колодец», подобно «чёрной дыре галактики» со своим «горизонтом событий», стоит посредине нашего умозрения и воображения, зияя бездонным зевом запределья, окаймлённым смыслом, и мы, будто планеты солнечной системы, обречены кружить вокруг него, боясь упасть и стремясь прочь, и в то же время сохраняя надежду когда-нибудь окунуться в эту пламенеющую преисподнюю. Мы ищем в мире самую сердцевину, самую общую, – главную его суть, но по большому счёту, как бы далеко не заходили в своём познании, каждому из нас суждено лишь ходить вокруг этого «бездонного колодца», но нам никогда не испить из него ни единого глотка.
Можно сказать, несколько иначе. В метафизическом контексте осмысления, ища истинную суть мира в нашей обыденной действительности, мы, словно паломники на хадже в Мекке обходящие вокруг Кааба, ходим вокруг «колодца собственного познания», стараясь подойти к его сути как можно ближе. Сначала мы подходим с одной стороны, затем с другой, и благодаря этому мир в нашем воззрении кажется бесконечно разнообразным. Но на самом деле «мир сам по себе» не имеет никакого разнообразия. Это разнообразие целиком и полностью выстраивается в наших головах. Кстати сказать, неспроста я привёл здесь именно эту традицию Ислама, ибо Кааб олицетворяет в ней дьявола, а «колодец познания», во многих культурах – преисподнюю.
Моё произведение, это лишь ещё одна безнадёжная попытка испить из этого «колодца» увидеть истинный мир, почувствовать его, и попытаться хоть как-то обозначить его наделы. Ещё один взгляд в бездну, ещё одно амбициозное желание потрогать истинную плоть мира. А по большому счёту, попытка обнаружить и вывести на свет собственный внутренний мир, рассмотреть свою собственную глубину.
Динамика написания этого произведения, – проста. Мысли, из хаотически блуждающих образов зарождались в глубине моего идеального разума, затем кодировались и формировались в некие цепочки умозаключений. И я, насколько мне позволяло моё рационально-аналитическое мышление, выстраивал затем более-менее стройные ряды собственных воплощающихся в упорядоченную конструкцию, воззрений. Вы спросите меня к какому разделу общей философии можно отнести мой труд? Скажу без капли кокетства, – не знаю. Я смотрю на него так, как смотрит мать на своё дитя. Мать не видит характерные черты лица своего ребёнка. Для неё они всегда – идеальны. В том смысле, что не поддаются никакой идентификации. Можно искренне позавидовать автору, когда он сам, смело и уверенно относит своё произведение к какому-нибудь конкретному разделу общей философии. Это говорит о том, что он достиг некоей конкретизации своего мышления, и может называть себя профессионалом.
Я бы мог отнести свой труд к антологии, гносеологии, эпистемологии, или даже гностицизму, а себя соответственно к гностикам, так как вся его полнота исходит сугубо изнутри, из собственного опыта, и не является продолжением какой-либо утверждённой философской концептуальной системности, не придерживается какой-либо зарекомендовавшей себя архаической дисциплины. К тому же одна из основных концепций моего произведения в отношении мира, как «нарушения», как сдвига, как некоей трансформации абсолютной гармонии пустоты, в относительную гармонию действительности, не далеко отходит от воззрений древних гностиков. Но и, тем не менее, этого позволить себе не могу. Ибо при всех совокупных признаках меня, как гностика, я не являюсь таковым, по сути. Так как сам «гнозис», несёт в себе всё же наличие божественного начала, как некоего присутствия. А это идёт вразрез моим воззрениям и умозаключениям относительно основ мироздания. По моему убеждению, всякое самое неопровержимое, не оскопляемое и безусловное присутствие, является лишь вершиной градации чистой иллюзии нашего разума, лишь её сверх возвышенным пантеоном. Иллюзии, без которой нет жизни как таковой, как нет её – без дыхания. Но можно ли дыхание относить к безусловному присутствию?
В этом труде можно найти, как экзистенциально-философское, так и натуралистически-эстетическое, как эмпирическое, так и трансцендентальное, как постмодернистское, так и консервативное, как наивное, так и в высшей степени запредельное. Противоречивость моего труда олицетворяет общую парадоксальность моего воззрения. Ведь воззрение, как известно, вещь сложная. И своей сложностью, оно отражает парадоксальность и сложность самого мира. Словно в системе кривых зеркал, мой мир предстаёт адекватным этой кривизне и моей внутренней архаической системности. И в силу этого, моё произведение есть сплошная антиномия. Но не всякая антиномия, как известно, является обязательным фактором ошибочного. Ибо само бытие, есть воплощённая антагонистическая антиномия.
Это произведение сохраняет в себе всю хронологическую последовательность формирования моей мысли, и моего слога. От простого и даже пошлого, к сложному и запредельному, и затем снова к простому. Оно отражает хронологию формирования всякого органистического существа. И вся начальная наивность, детская горячность, с лихвой окупается последующей серьёзностью, доходящей до холода «абсолютного ноля».
Все мои умозаключения, сложенные в относительно стройные ряды, в сути своей – интуитивны, абсолютно гипотетичны и не несут в себе почти нигде, никакой классической научной фундаментальной подложки. Как и не содержат никакой рациональной и практической полезности, как только глубоко созерцательной, – философской. Они есть воплощённый синтез идеального и рационально-аналитического мировоззрения, как неких производных продуктов от функционирующих и продуцирующих «ганглий» моего мятежного дуалистического разума. И в равной степени, как инстинктивны, так и рефлексивны, в строгом академическом смысле. Я писал так, как мог. Насколько мне позволяло на тот момент, моё образование и мои лингвистические способности. Я никогда не стремился ни к упрощению, ни к усложнению. Единственно к чему я стремился в своём изложении, так это к ясности. Хотя, вполне отдаю себе отчёт в том, что мало достиг на этом поприще. Ведь крайне сложно добиться ясности изложения в столь тёмных вопросах. Сложные вещи, очень трудно описать простым языком. А порой, это сделать просто невозможно. Я инстинктивно стремился к гармонии, подчас приукрашивая изложение своих мыслей, как мне казалось, поэтическими оборотами. И когда мне это удавалось сделать к месту и вполне гармонично, это доставляло мне удовлетворение.
В большинстве своём, вы не найдёте здесь никакой характерной литературной последовательности изложения, и тем более не найдёте абсолютной доказательной достоверности, переходящей в аподиктическую истинность. Не стоит относиться к моему произведению, как к попытке обозначить истину в последней инстанции. Всё лишь, с одной стороны, игра слов и понятий, игра смыслов и сверх смыслов, = с другой стороны, игра моего представления и воображения, игра красок оттенков и форм в выкладываемой мозаике моего умопостижения и его олицетворения. Это только мой мир, и он может лишь соприкасаться своей «искривлённой сферой» с другими мирами, высвечивая общие поля секторов мировоззрения и познания. А с иными, – не соприкасаться вовсе. Я не претендую на академическую грамотность в тех вопросах, которых коснулся на этих страницах, но я претендую на глубину и неповторимость собственного воззрения. Я не претендую на хрестоматийно правильное изложение своих мыслей, но я претендую на музыкальную уникальность слога, как олицетворение уникальности моего «идеального мышления», противостоящего столь же неповторимой «рациональной форме анализа», продуцирующих в своей синтезированной совокупности, идущий изнутри «поток полифонии всеобъемлющего интуитивно-эксплицитного знания». И пусть моя грамотность и мой слог далеки от совершенства, но всё же в моих пасквилях можно почерпнуть многое…
Вообще, всё что я здесь попытался проанализировать и описать, в сущности есть лишь поверхность того глубочайшего моря моего мировоззрения, показать глубину которого в полной его состоятельности и объёмности, у меня нет ни инструментов, ни возможностей. Всё что остаётся, это уповать на вашу фантазию, и её способность вскрывать «потаённое – необозначенное», – то, что всегда скрыто между строк, как латентное отражение сути лишь вашего идеального воззрения. Всякая книга, имеющая амбиции на глубинное содержание, имеет в себе недосказанность. А точнее сказать, имеет основой своей эту недосказанность, давая лишь нити, ведущие к глубине… П.А.В. Мария Текелински.
Расколотая реальность
«Как проблема отношения реальной действительности и пустоты,
есть лишь вопрос отношения определённой упорядоченности
подвластной разуму природы, к хаосу неподвластной природы,
так и проблема отношения «живого» и «неживого», есть лишь
вопрос отношения и оценки формы собственных порядков нашего ноумена,
к относительному хаосу, к отличным порядкам феноменальной природы
этой действительной реальности. Вопрос лишь соотношения, идентификации и
классификации. Ибо, для нашего трансцендентного воззрения, всякое тело мира,
всякий объект нашего познания, к какому порядку мы бы его не относили,
имеет свою собственную внутреннюю организацию, со своими алгоритмами бытия,
со своей концепцией вездесущей и повсеместной жизненности.
Организацию, лишь обозначаемую ноуменом и относящуюся им к тому,
или иному лагерю, контексту мироздания, к тому или иному пантеону, на основе
собственного созерцательного дуализма…»
Парадокс «живого» и «неживого»
Обзор
Каким образом могла прийти в голову мысль о проблеме «живого» и «неживого», как о чём-то глубоко субъективном? Как? На каком этапе моего вглядывания в мир, могла зародиться эта глубоко подсознательная, и в сути своей неестественная концепция? Концепция, идущая вразрез общепринятым и даже моим собственным воззрениям. Формируясь в моём подсознании, и в какой-то момент наконец созрев, возник пошлый вопрос: а собственно, что такое «живое» и чем оно в своей глубинной сакральной сущности отличается от «неживого»? Что есть «жизнь», и что есть «не жизнь» в физическом, метафизическом и трансцендентальном осмыслении? На чём собственно базируются все наши воззрения и оценки в этом поле, и как на самом деле должны осознаваться границы и сами поля в этой сфере осмысления нашей действительности. Нет ли здесь скрытых монолитных заблуждений, переворачиваний истин и вынужденных дорог, на которых выстраивается здание нашего воззрения, и по которым следует наше мышление?
И этот вопрос как-то сам собою захватил всё моё воображение и стал на какое-то время краеугольным камнем всего моего миросозерцания. На самом деле при всей кажущейся банальности и избитости этой парадигмы, при поворачивании линз умозрения, и смене угла даже на малую толику, она становится антропоморфно критической, сугубо человеческой и глубоко проблемной. Ибо вскрывает потаённые, а точнее лежащие на поверхности, но не замечаемые нами метаморфозы. Метаморфозы, к которым мы настолько привыкли, что они превратились в нашем сознании в некую обыденную неоспоримую истину, и даже в пошлость не вызывающую никакого интереса.
Кто теперь к примеру, обращает внимание на некогда приводящие в исступление и восторг ранние продукты научно-технического прогресса? Тем более, мало интереса вызывают всякого рода антиномии природных архаизмов, имеющих глобальное значение в осмыслении нашей собственной природы. И в силу уверенности нашего разума в изрытости и просеянности этой древней почвы, мы стали не способны даже на самые поверхностные вопросы в этом ключе. Эта тема перестала быть проблемой. Наше воззрение относительно мира и природы, спаялось и слилось в монолитный конгломерат, твёрдый и незыблемый, – в «статую», на которую уже никто не обращает своего внимания, и потому несомненную и даже абсолютно истинную. Конечно, я отдаю себе отчёт в том, что, ставя так вопрос, я рискую прослыть простым безумцем. Но кто не рисковал на пути к более холодной истине, чем та, в которой все мы привыкли плавать и которой привыкли удовлетворяться.
Мы относимся к противопоставлению «живого» и «неживого», как к некоему устоявшемуся порядку, как к само-собой разумеющемуся абсолютному положению, как к непререкаемой истине божественного проведения, лишь указывающей нам своим перстом, куда нам следует идти, в какую сторону смотреть и мыслить. Мы не утруждаем себя копанием там, где, как нам кажется, не осталось ничего стоящего, – ничего, что могло бы заинтересовать наш пытливый разум. Зачем, кому нужно проникновение в суть древних, давно разрешённых вопросов? Мы спрашиваем себя; Какой в этом смысл? Здесь нет пищи для разумения, здесь всё уже давно съедено, переварено и дефецированно, – всё рассмотрено и разложено по полкам и банкам научной кунсткамеры. Какой смысл изучать и рассматривать то, что давным-давно приведено в порядок, поставлено в ряды, что и так уже достаточно лаконично просто и закончено ясно?
Мы привыкли к действительности окружающей нас, мы вытоптали хреоды собственного мышления относительно бытия, и выложили мозаику алгоритмов разумения и осмысления относительно реальной действительности, и следуем этими дорогами и алгоритмами, как единственно возможными и единственно истинными. Нам даже в голову не приходит ставить подобные вопросы. Но если попробовать отбросить условности и догматические привычки общего, и собственного индивидуального разумения, и попробовать взглянуть в мир с несколько иного угла зрения, если попытаться посмотреть на него не устоявшимся затвердевшим взглядом, но взглядом ребёнка, взглядом только что вошедшего в незнакомый дом путника, взглядом по-настоящему стороннего наблюдателя, не заинтересованного в продолжении выложенной однажды выверенной и закатанной в железобетон дороги, если, так сказать, вскрыть и заглянуть внутрь, попробовать на вкус эту древнюю и уже «распухшую консерву», то откроется иная, совершенно непривычная картина. Мир оголит свою сокровенную суть, и даже скорее всего, – перевернётся.
Вполне естественно то, что от всего этого отдаёт не столько безумием, сколько наивностью и неким неудержимым, идущим в разнос полётом фантазии. Ведь при всей холодности и серьёзности поставленного вопроса, в нём латентно укрыта великая страсть мышления, архаическая радость его удовлетворения, нарушающего собственные пределы и ломающего самые устоявшиеся стереотипы. Здесь, в сакральной глубине, скрыта та имманентная гордость разума, позволяющая ему, удовлетворятся великим чувством открывателя, разрушителя и победителя. Чувством, так естественно присущим ребёнку, с его неотягощенным моральными и социальными догмами и стереотипами, созерцанием.
Но это не эпатаж, не показное кривляние мелкой души, стремящейся лишь к непредсказуемости и противоречию ради самого противоречия. Не простое и пошлое упрямство инфантильного сердечка, которое лишь из своей вредности и ни на чём не основанного апломба, стремится разрушать ценности, не имея на то ни оснований, ни глубины собственного взгляда, ни трепета перед истинно ценными противоположными вещами. Имеющего лишь гордость тщеславия и глупую надменность, и пытающегося сформировать не собственное воззрение, но лишь собственное и общественное представление о себе самом. Нет, ничего подобного. При всей кажущейся эпатажности и апломбости, во всём этом нет ни доли узколобого инфантилизма и стремления к скоропалительной обособленности недалёкого томящегося тщеславием, духа.
И пусть этот вопрос зародился во мне именно в самых ранних годах, но расцвёл и укрепился в достаточно зрелых. Да, его первые ростки появились тогда, когда для разума наивного ребёнка всё вокруг такое яркое, первобытное и отчаянно радостное, такое сверх живое, сверхиллюзорное, и в то же время сверх реальное. Когда в силу постоянной наполняемости души впечатлениями, кажется, что время течёт крайне медленно, и потому замечается каждая мелочь, каждая деталь мироздания. И каждая эта деталь превращается в нечто эксплицитно-конкретное, нечто важное и действительно-достойное. Эти детали, которые наш разум с годами научается упускать, игнорировать как ненужный материал, смешивая ценнейшие камешки с бренной целенаправленностью, и превращая всё и вся в раствор для заливки в нужные формы. Для разума ребёнка эти детали ещё составляют важность, и яркими пятнами украшают всю палитру его бытия. И детский разум, без всяких напряжений и сомнений, спокойным не обремененным опытом взором вглядывается во всё текущее мимо него, и в нём самом. Когда его память запечатлевает очень многое, и в самых ярких и разнообразных тонах, когда его взгляд замечает все нюансы и оттенки, всё то, что не доступно опытному воззрению, с его мешками целесообразности под глазами.
Мало того, лишь в это время наш разум подобен только что собранному в дорогу каравану. Он полон сил и живости, так необходимых для остроты и полноты восприятия. Только тогда, в силу тонкости ощущений, он способен на самые глубокие проникновения в сущность вещей, в суть самого мира. Он ещё не устал от скитаний по пустыне, он ещё не отягощён полезностью, рациональностью, и целесообразностью. Он подобен стреле, только что сделанной мастером. Её жало ещё не затупилось от постоянного проникновения в плоть миро познания.
К сожалению, со временем, с увеличением познания, с набиванием тюков разумения «полезными вещами» караван жизни замедляет свой ход, и «стрела ощущений» теряет в своей остроте. После каждого опыта, её жало всё менее остро и проворно, и с этим ничего поделать нельзя. Приобретая опыт, и находя тем самым, практичную мудрость, мы необходимо теряем великую интуицию духа, теряем способность в тонких, сверх живых ощущениях жизни. Наш разум, открывая одни двери, неминуемо закрывает другие. Наш ум, постепенно тяжелеет и грубеет, но тем самым становится основательнее. От этой основательности, он дубеет и теряет в гибкости, скорости восприятия, и остроте интуитивного осмысления. Но приобретает нечто важное для себя, – относительную стабильность и власть порядка. Ибо в его понимании, только порядок, имеет несокрушимую власть над природой и миром. И его порядок, как некая доминанта в осмыслении внешнего мира, есть ныне устоявшееся и превращённое в «железобетонную конструкцию» мировоззрение, диктующее теперь всему и вся, правила и законы, присущие его конструктивным особенностям, где авангардом следует научно-технический прогресс с его «вассалами», – физикой, математикой, термодинамикой и т. п.
Если взглянуть и осмыслить исторически, возникновение и становление глобальных организаций духа и разума, зачатых в сношении рационально-практического и идеального полей разумения, то высветится некая параллель, метафорическая схожесть со всем вышеописанным, явно или завуалировано просматриваемая в зарождении и становлении науки, как таковой. Ведь собственно, и вся наука зарождалась в древности, на заре юности человечества, как интуитивное знание, присущее более чувственности разума. Её ростки такие уязвимые, такие неопределённые, ещё даже не зародыши, – эмбрионы! Но как раз в силу того, обладающие острой интуицией в своём поле, в своём ореоле воззрения и созерцания. В те далёкие времена интуитивные флюиды идеального знания, знания глубоко инстинктивного и по большей части имплицитного, достигали грандиозных высот, и на самом деле формировали фундамент всех будущих эксплицитных умозрений и умозаключений, давая направление всей последующей грандиозной, и перспективной постройке. Направление, которое в силу его древности, теперь, – как невозможно опровергнуть, так и не имеет смысла подтверждать.
Глубинные прозрения тех людей были так остры и проникновенны, о коих зрелому человечеству, – остаётся лишь мечтать. И вот это «дитя», развиваясь, со временем сформировалось в грандиозное самостоятельное «растение», трансформирующееся постепенно в «животное» с плотной кожей и крепкими костями. Сложившись, наконец, в науку с её разветвлёнными щупальцами, такими функциональными и основательными, такими перспективными и целенаправленными, такими гордыми и обещающими. Оно поработило всё мировоззрение, разлиновав его на сектора, установив клетки, и загнав всё «живое и свободное», – в резервации.
Но вот что важно. Эта основательность и функциональность, оставалась всегда и остаётся до сих пор ценностью только для «практично-рационального разума», только для его поля, для его формы выстраиваемого внешнего мира. Для другого же поля разумения, для «идеального», – всё это оставалось и остаётся, мягко говоря, плоским, грубым и пошлым. Формой «властолюбивого практично-рационального воззрения», стремящегося привести весь окружающий мир к своему целесообразному и основательному, необходимому ему, закономерному и последовательному порядку вещей. Сделать мир ценным и интересным для себя, и малоценным и мало интересным в глазах идеальных форм воззрения, – задача «практично-рационального разумения». Ведь вся та основательность и функциональность присущая «практично-рациональному разумению», которой он гордится и к которой единственно стремится, не имеют ценности для идеальной плоскости продуцирования и восприятия, в самой глубинной её возможности и способности. Формы, для которой всё, что можно потрогать, объяснить, разложить и упорядочить – слишком просто и неинтересно, слишком поверхностно и мелко. Всё, что делается для какой-то бытовой пользы, – слабо и низменно-корыстно.
Для каждой из этих разноплановых сторон нашего мышления, иная, противоположная форма осмысления, – есть иная форма жизни, иная форма бытия. Что значат самые совершенные рациональные практические построения, перед глубокой и всеобъемлющей интуицией созерцания? И в то же время, что стоила бы самая проникновенная интуиция созерцания, не имей она возможности форматироваться в строгие упорядоченные ряды практического воззрения, во всевозможные целесообразные формы, воплощающиеся в различные формопостроения цивилизации?
В конце концов, – что стоит весь поверхностный порядок действительности, – перед глубиной бездонного и вечного хаоса? Что стоит вся бездонная глубина Великого вечного хаоса, – перед минутной поверхностью бытия, – Великой реальной действительностью?
И так. Самый острый и подвижный ум у ребёнка. И хотя он ещё не научился обозначать и фиксировать рефлективно свои глубокие проникновения, и даже сам не осознаёт, насколько глубоко он видит мир, но всё же, только там, в детстве, могут зарождаться самые проникновенные мысли, самые глубокие и чистые взгляды. Взгляды, которые в процессе орошения опытом, обработки и культивирования, складываются в глобальные умозаключения, и основательные философемы. Они словно ростки пробиваются наружу откуда-то из подсознания и формируются в «стволы осознанности». «Стволы» твёрдые, покрытые толстой корой, – «стволы», теряющие гибкость, и приобретающие инертную устойчивость.
Так какие мысли моего детства могли дать такие всходы? Да…. Если бы была возможность посмотреть со стороны на зарождение и рост мыслей. Увидеть и осознать истоки тех рек, которые бурным потоком несутся в моей голове. Найти родники, собирающие влагу с гор, и питающиеся из глубинных подземных озёр. Вспомнить те первые стрелы, которые разум пускал в твёрдое тело инертной скалы мироздания.
Мне кажется, что самой первой моей стрелой, насколько мне позволяет память, было осмысление собственного произвола, то, что я, будучи абитуриентом детского сада, обнаружил преобладание моей воли, над неодушевлёнными предметами. Они, как бы мне говорили: Делай с нами всё, что тебе вздумается. В том моём осознании, эти предметы были абсолютно не защищены от моего произвола. Я осознал адекватную зависимость ощущения меры собственной жизненности, от свободы моей воли, – ощущения, растущего пропорционально приобретаемой власти. Именно тогда я инстинктивно осознал, точнее ещё не осознал, но во мне зародился тот смысл, или та бессмыслица, то зерно, которое впоследствии дало такие «абсурдные плоды». Ведь именно в последующем глубоком осмыслении, я нашёл то главное отличие, то наличие в живом, и отсутствие его в не живом, что собственно и отличает в своей сущности, эти субстанции. Стремление к порабощению всего и вся, к захвату, к упорядочиванию на свой лад всего внешнего. Власть, – как квинтэссенция живого. Его главный форпост, отличающий его от «неживого». Ведь в отличие от «неживых», совершенно иное впечатление производили на меня «живые объекты». Я очень рано понял, что даже маленькая букашка может представлять собой опасность, нести боль и страх. И даже растения, к примеру, крапива, – умеет защищаться. Я в полной мере осознал наличие неких доминант агрессивности у всякого «живого», как его фундаментальных составляющих. Агрессивность, из которой вырастала, и благодаря которой формировалась вся палитра всемирного порабощения единой инертной природы, благодаря прежде всего разуму, расчленение и распределение по отдельным камерам её сегментов, подчинения всех её начал и приведения к своим категориям, её единого неделимого «мета тела». И вот в моём неразвитом разуме родилась «инфантильная концепция», что «живое», в своей сути, это лишь более агрессивная субстанциональная форма общей материи. И даже её способность к организации, как некоей доминанте и отличительной особенности, которая включает в себя и способность к самопродуцированию, есть так же форма этой агрессивности. Ибо всякая организация, есть суть порабощение – внутри, и доминирование – снаружи. И если продолжить эту мысль, то чем агрессивнее материальная субстанция, тем она «живее». И человек, на самом деле, при всей своей неоспоримой «живости», не является самой живой субстанцией космоса.
И вот именно тогда, как я полагаю, во мне зародились эти крамольные умозаключения. Ещё даже не умозрения, но некая бесформенная дымка, еле уловимый внутренний свист, лёгкий ветерок, столкнувший мерно спящее на ветви бытия сознание, спровоцировавший нарушение в моём внутреннем космосе, и появление метастазирующей точки, зародившейся и развившейся мысли, – мысли обо всей фатальной предвзятости нашего отношения к Великой неделимой природе, и к её целокупному бытию. Эта «метастазирующая точка» стала неким преддверием, неким зерном того «ростка», который обещал вырасти в «развесистое древо». И он рос не по дням, но по часам, превращаясь в нечто могучее, в нечто могущее противостоять окружающим, всем тем устоявшимся древним исполинским «деревьям – стереотипам». И как всякое растение, в процессе своего роста трансформируется в нечто непредсказуемое, и становиться совершенно неузнаваемым на определённой стадии своего развития, мой «росток», пробив своим телом «потолок неба», развернул свои «ветви-ганглии» обратно. И из двух отдельных изолированных «сегментов», двух «железобетонных консолей», возникших в древности на почве воли к власти человеческого разума, стремящегося придать миру черты собственного внутреннего дуализма, постепенно стал превращать окружающий мир обратно в «единый ствол». Сегментов, которые словно сами тянулись друг к другу и срастались буквально на глазах корнями и ветвями. И при этом последующее осмысление «живого» и «неживого», как чего-то глубоко субъективированного, как чего-то искусственно разделённого властвующим оценяющим дуалистическим по своей природе, воззрением, открыло пред моим взором это самое тонкое и скрытое, замурованное в камне заблуждение. Неопровержимость сомнительного разделения и противопоставления «живого» и «неживого» как чего-то только лишь по отношению, как лишь в сопоставлении и сравнении, (причём, только со стороны заинтересованного взгляда), только в критериях его формы оценки, – вполне ясной противоречивой картиной вставало пред моим взором.
Далее это «древо», совершенно незаметно для меня и по сути бесконтрольно, орошаясь опытом и накапливая соки, размножаясь и захватывая пространство, стало превращаться в «лес», и стало приобретать уже собственную независимую волю к существованию, – всё ту же волю к власти.
Для чего я всё это пишу в таком полу наивном почти пошлом стиле? Наверное, прежде всего для того чтобы понять и осознать самому, что мысль, – совершенная мысль зарождается не в зрелой голове, но гораздо раньше в детских чувствованиях мира, в глубоко интуитивных восприятиях, в первородных эмбриональных перцепциях миросозерцания. Для того чтобы осознать ясно то, что всякая совершенная мысль рождается в глубоких недрах нашей неосознанной природы, в клетках нашего бессознательного тела. И её возникновение, и развитие в зрелой голове, как некое наитие свыше, - только наша иллюзия. Зрелая голова лишь превращает мысль в нечто формативное, последовательное и упорядоченное, в некий алгоритм собственной возможности, и одновременно в «пищу для собственного потребления переваривания и усвоения». Хотя надо отдать должное. Ведь только благодаря этой иллюзии, мы чувствуем свою связь с Божественным. Иллюзии, которой мы дорожим более всего на свете. Ведь по большому счёту живём лишь только ей. Благодаря этой иллюзии мы получаем радость со причастия со всем Великим. Чувствуя себя особенными, мы черпаем из колодца проведения живительную влагу удовлетворения собственной природой, своими запредельными и гармоничными мыслями, дающими на самом деле самую твёрдую власть, – власть над миром феноменальной природы. Мы уверенны, что одарены богами и даже полагаем, что божественны сами в своей сути. Ведь если бы мы, отбросив всякую иллюзию, могли педантично и непредвзято проследить всю цепочку зарождения и становления собственной мысли, то это бы лишило нас возможности гордиться собой, своей божественностью. Ибо стало бы простым, без чудесного ореола, – само возникновение мыслей. Исчезла бы тайна! И мы умерли бы от таски и от осознания собственной пустоты, – собственного ничтожества. Хотя кто знает, на чём могла бы вызревать наша гордость ещё. Но пока, удовлетворения нашего разума собой, обязано именно иллюзии. Иллюзии собственной чудесности, божественности, непредсказуемости и произвола. Произвола собственной воли, стремящейся всегда лишь только к власти.
По большому счёту, мы удовлетворяемся собственной тайной. Не будь этой тайны, и нам незачем было бы жить. А возникновение мысли, такой сверхтонкой и эфемерной, и в тоже время такой агрессивной, всемогущей и вседавлеющей, являет собой самую Великую тайну, самую загадочную из всех загадок природы.
Далее, когда мои мысли выросли, созрели и сформировались в некое «тело», в некую «экосистему» подобную всякому лесу, они стали жить своей жизнью, почти независимо от произвола моей личности. И так происходит всегда и всюду. Всё, что способно расти, и что достигает в своём росте определённых физических границ событий, всё начинает жить своей жизнью. И это относиться ко всему, что, так или иначе, имеет в себе становление. Как к «животным и растениям» феноменального мира, так и к «животным и растениям» ноуменального. Как к физическим и эмпирическим полям созерцания, так к метафизическим и трансцендентальным, и формируемым ими системам. Всё что имеет становление, в определённый момент начинает жить своей жизнью. Так дитя выходит из-под опеки родителей. Так человек когда-то вышел из-под опеки Богов. Так и различные человеческие изобразительные, поэтические, музыкальные и иные живые произведения, пока их не умертвили законченностью формы, не обозначили каденцией, или конечной точкой, на определённом этапе выходят из-под контроля своего создателя. И философские произведения не являются исключениями.
И вот живя своей жизнью, мои умозаключения обнаружили в себе свойства присущие организмам вообще. А именно, как любые иные организмы, имеющие свои стадии созревания, развития и становления, в конце концов, неминуемо деградируют, так и мои умозаключения, каких бы порядков не достигали, как бы ни усложнялись и не организовывались, необходимо приходили к собственному абсурду. Вино превращается в уксус, уран в свинец, мои же умозаключения, достигнув со временем пика собственной возможной осознанности, пришли к тому заключению, что не живого в мире, попросту – не существует. Что в нашем действительном мире, всё что, так или иначе, относится к материальному, в сути своей с полным основанием следует относить к живому, без каких бы то ни было исключений. Только «живость» эта имеет свои критерии, своё время, свою динамику, свою, лишь отдалённую, не похожую на нашу внутреннюю личную организованность. А значит по большому счёту все, что мы причисляем к материальному, имеет свою, лишь далёкую от нашей форму жизни, в самом широком смысле слова. Так возникает новая концепция, так появляется парадигма всеобщности и неотделимости, в которой, к примеру, понятие «доломитовой жизни», (жизни камней), уже не является чем-то лишь надуманным или фантасмагорическим, но вплетается в общую систему повсеместной материальной жизненности.
Вот тогда, словно вынырнувшая из моря «мёртвая голова дракона», своей ужасной гримасой с зияющими глазницами обратил ко мне своё лицо другой мир. Точнее сказать мир был тот же, но он вдруг развернулся. Он вдруг перевернулся вверх дном, словно корабль, который перегрузили, и он потерял остойчивость. Великий древний мир оголил свою преисподнюю! Я вдруг ясно почувствовал всю фатальность этого мироздания, и осознал, что мир, – точно так же – не живой!!! И что в нём нет ничего = по-настоящему живого. Ибо мы чувствуем мир и себя в нём, благодаря способности нашего разума к разделению и противопоставлению пантеотектуры мироздания, – к иллюзии, в самом широком смысле слова. Благодаря способности нашего органоида к ощущению собственных многочисленных волевых актов, идущих от многочисленных «ганглий» нашего тела и нашего разума, сливающихся в единый котёл, (то, что собственно называется сознанием), и образующих личность, как некую квинтэссенцию нашего тела и разума, продуцирующую иллюзии вершину, – иллюзию власти над внешним, будто бы сугубо нейтральным миром. Мы живём и чувствуем свою жизненность благодаря тем фатальным в своей сути, абсолютно необходимым при определённых условиях химическим реакциям, которые присущи всему феноменальному миру, всей его так называемой «неживой природе». В нас нет ни капли истинного произвола, нет и капли настоящей свободы. Мы лишь рисуем её на холсте, но она никогда не сходит с этого холста в реальный мир. Мы слиты со всем миром в единый круговорот энергий. И все наши чувства – суть химико-электрические реакции, подобные всяким химико-электрическим реакциям так называемой «неживой природы». Мы роботы, – биологические фантомы, запрограммированные самой природой на определённый алгоритм своих действий. Лишь воля к власти отличает нас от всего инертного нейтрального мира природы. Но что она есть, в своей сокровенной сути, эта наша воля к власти? Вполне может статься, что она есть лишь аффект, такой же, как все остальные более низшей ступени аффекты нашего сознания. – Аффект, трансформированный и модифицированный нашей внутренней природой. Некий повсеместный и вездесущий, присущий всему материальному мотив, имеющий своё место так же и во всём остальном природном ландшафте, окружающем пространстве, выращенный на полях «неживой природы», но сорванный и присвоенный нашим разумом, узурпатором всего и вся, и возведённый в ранг собственной живости, с атрибутами подтверждения, отсекающими всякие сомнения.
Мир для меня, стал подобен маске сатира. С одной стороны, – доброе улыбающееся лицо с искрящимися жизнью глазами. Живое – как повсеместное и непреодолимое, живое – как единственно существующее! С другой стороны, – череп с зияющими безжизненными впадинами глазниц, и оскалом ряда жёлтых зубов. Мир, где нет ничего живого. Фатальная, бесцельная, без произвольная динамика, в которой, и для которой, – не существует никакой свободы.
И, как бы ты не относился к миру, его «истинная агрегатность» будет как с одной, так и, с другой стороны. Ибо мир таков, какой угол зрения ты занял, с какой стороны ты смотришь на него. В какой-то момент созерцания он обдаёт тебя своим холодом, своим безразличием ко всему и к самому себе, каким-то размеренным фатальным отсутствием, полным безучастием и нейтралитетом, инертностью в своей глубинной субстанциональности. Но в следующую минуту ты чувствуешь его тепло и уют, его благосклонность и расположенность, – его божественную жизненность. Да простят меня за такой искажённый антропоморфизм. Мир, поворачивая к нам свои стороны, свои бесчисленные грани, как будто бы смеётся над нами, над нашим осмыслением его. Он будто бы спрашивает: «Вы ищете мою истинную суть? Блаженные! Вам никогда не найти её, потому что её – не существует… Я – есть лишь ваша рефлективно-эмпирическая трансцендентальная транскрипция».
Почему нам, людям, так сложно отличить мир кажущийся, от мира реальности? Почему мы никак не можем определиться, отделить чёткими границами это поле, как отчертили и разлиновали все остальные поля нашего созерцания и осмысления. Потому, что, как только мы начинаем анатомировать реальность, как только приступаем к вивисекции нашего мышления, она, реальность, словно песок сквозь пальцы начинает вытекать из наших ладоней. Мы пытаемся ухватить её, но она рассыпается словно обугленный дом, превращаясь в пепел, раздуваемый ветрами проведения. У нас нет никакой возможности провести чёткую границу между действительным и иллюзорным. С одной стороны – в силу отсутствия в самой реальности чего-то по-настоящему достоверно сущего, истинно фундаментального, с другой – в силу непрерывно развивающихся в нашем разуме всё новых противоречивых «ганглий сознания».
Сноска: «Ганглия сознания». – Метафизическая имплицитная основа трансцендентальной физиологии разума, продуцирующая свой мир, с определённой хреодностью алгоритмов воззрения, созерцания, или мышления. С собственной индивидуальной и неповторимой мировоззренческой палитрой, и определённой хронометрической и пространственной дисциплиной сочетающихся критериев. «Ганглии разума», – некие основывающиеся на физических фундаментах органоиды тонкого мира, существа астральных сфер нашего сознания, нашего ноумена, имеющие своё «тело» только в метафизических, трансцендентных областях бытия. Именно они продуцируют своей характерной системностью, внешний мир, как грубых форм его бытия, так и тончайших. Они, в своей синтетической совокупности, создают внешнюю действительность, формируя в ней все отношения, трансформации и движения, выстраивая внешние системы, которые ими же складываются в реальный целокупный мир, в соответствии и адекватно своим генетическим возможностям, в соответствии со своей архаической системностью, со своим доминирующим порядком =.
Эти «ганглии» появляясь и развиваясь, формируют наше разумение, выстраивают архитектонические построения, вытаптывают хреоды, и вымащивают дороги мировоззрения. Они продуцируют и формируют свои дали, свои перспективы полей бытия. И одна из таких «ганглий» в последнее время, в силу с одной стороны, неудержимой тяги нашей воли к небу, с другой, постоянной провокации из вне, развивается в нашем разуме быстрее других, всё больше захватывая области нашей осознанности, а значит и мира реальности. На её «теле» вырастают всё новые «почки», некие «отростки-актинии», создающие новый ландшафт мировоззрения, ткущие словно пауки новый небывалый мир действительности, из подводного волшебного материала идеального мира представления. Эта «ганглия» – фантазия. Именно этой великой «ганглии» нашего сознания, мы обязаны всем нашим научно-техническим прогрессом. Только благодаря её развитию, вся наша жизнь имеет нынешнюю форму и динамику. Все наши фундаментальные достижения, все технические, социальные и культурные явления, изначально зарождаются на её поверхности. Всё из чего состоит наша цивилизация, есть воплощённая мечта, возникшая в её недрах. И она же, своей уходящей за облака кроной, всё больше и больше завладевает нашим воззрением, уводя в свой мир, – в мир гиперстазированной иллюзии, в мир – сверх грёз. Тем самым ограждая нас от Великой опасности истинной реальности бытия, истинной сути мира. Ей противостоят «архаические ганглии реальности», так же набирающие в этом противостоянии, свои силы.
И главная опасность, как и главное кормило и условие для совершенствования всякого типа, (они всегда в одной упряжке и даже суть одно), гнездится именно в противоречии, внутреннем противостоянии, которое невозможно ни победить, ни упразднить. Это противостояние в данном случае, есть противостояние мира кажущегося, и мира реального. С переменным успехом, эта война постоянно ведётся в нашем разуме, на полях трансцендентального опыта сознания, где сталкиваются в своем непримиримом противоборстве «ганглии» нашего созерцания и осмысления, словно «рыцарские ордена», на полях социального и политического противостояния. Каждый «рыцарский орден» считает себя и своё мировоззрение, единственно благим, единственно истинным, и единственно возможным. – Самым главным «рыцарским орденом на земле».
И та простота в грубой оценке, где неправильность мира соседа не подлежит сомнению, уступает более сложной, более утончённой и возвышенной, уходящей в тонкие миры собственного мышления. И там, продолжая свою борьбу, ставит новые невиданные ранее задачи. Где этим соседом уже служит собственный взгляд, и где вступает в силу переоценка собственных воззрений.
А правилен ли мой взгляд на вещи? Ведь он субъективен, он заинтересован. Ведь его абсолютная объективность – невозможна. Ведь по большому счёту, глядя в мир, мы смотрим в зеркало. Мало того, человек слабо доверяет собственному воззрению, и, как правило, с глубоким сомнением смотрит даже на собственное отражение. Он готов поверить кому угодно, только не себе самому. Человек не верит уже своим оценкам, он не верит в собственную реальность, и по каждому поводу готов спрашивать; «Так ли это на самом деле?» Это происходит оттого, что он постоянно балансирует между фантазией и действительностью, между сном и явью, между истинной и иллюзией. Где истина превращается в иллюзию, а иллюзия представляется как истина. И даже очень часто, пережив какой-нибудь сильный аффект, он не в состоянии сказать себе точно, что это было, – сон или явь.
Да… Чрезмерность подстерегает всякое разумение. Мы пристально вглядываемся в одну из сторон мира, и нас несёт. Мы впадаем в идиосинкразию. Эта сторона провоцирует в нашем сознании гиперрост отдельных «ганглии». И постепенно в нашем представлении она трансформируется в «огромную опухоль», тесня собой все остальные стороны мира. Равновесию надо учиться. Надо уметь ограничивать себя, не только в стремлениях и удовлетворениях тела, но и в стремлениях и удовлетворениях разума. Необходимо научиться сдерживать и его аппетит. Он сын нашей воли, а наша воля – ненасытна.
То, что мир именно таков, каким ты его видишь в данную секунду, – бесспорно. И оспаривать это глупо. Но вопрос здесь не в том, что реальность, очевидность, а что иллюзорность, эфемерность. Что можно и должно быть оспариваемо, а что оспаривать нельзя. Но в том, что очевидность этой реальности, у каждого ноумена – своя. Вопрос в том, что Мир, у каждого свой, и общего для всех мира – не существует. А значит и критерия единого для всех, так же – не существует. Но несомненно и то, что мир, для своего собственного существования, не нуждается в нашем взгляде, и в нашем существовании в нём. И вот здесь, таится самое неразрешимое противоречие мира, его главная проблема. Мир, без нашего взгляда, – не существует, так как без нашего взгляда он не имеет никаких параметров и критериев. И в тоже время, для своего существования вообще, он в нас, и в нашем воззрении, – не нуждается. И в этом его главная метаморфоза, его неразрешимость и запредельность. Глобальное противоречие феномена и ноумена. И, кстати сказать, на мой взгляд, именно здесь гнездится главная причина возникновения такого понятия как «вещь в себе». Да собственно, и всего теизма. Мир, абсолютно не зависим от нас в своей сути, и абсолютно зависим в своей форме. В таких «заоблачных болотах» рождаются не только боги, но и черти.
Отношение субстанциональностей
Для того чтобы ввести в нужное русло размышления, я начну с простого, даже пошлого. Мы, в стремлении постичь мир в его сокровенной истинности, на самом деле постигаем себя. О…! Как мы целеустремлены, как тщеславны и как наивны в этом стремлении! Мы называем себя царями природы, и каждую секунду умираем от невидимых глазом, бактерий. Мы изобретаем механизмы для облегчения своей жизни и становимся рабами этих механизмов, ухаживая за ними и леча их, становимся их заложниками, совершенно разучаемся обходится без них. Мы угнетаем свои естественные потребности моральными догмами, истязая себя, и даже научились получать от этих пыток наслаждение и удовлетворение. Мы выделяем себя, и отделяем от «животного мира», и от природы планеты в целом. Мы дошли до того, что сделали весь мир, – собственным представлением! Где же предел нашему тщеславию?
Дело в том, что это тщеславие заложено в нас самой же природой. Сама природа в нашем лице удовлетворяется собственным тщеславием. Ведь тщеславие в своей сакральной сути, часть общей пирамиды, общего «природного котла», из которого не выкинешь никакую мелочь, где всё связано и завязано в один узел. Вынь из этой пирамиды самую малость, и вся она неминуемо развалится. Но этого не смогут сделать даже Боги. Ибо, хотя действительность и пустота вытекают одно из другого, но все же они совершенно изолированы. В противном случае «закон сохранения энергии» был бы простой фикцией, а «мир в себе» не имел бы своей стабильности и своей вечности. Так полагает царствующая над нашим сознанием, парадигма рационально-аналитического и диалектического воззренческого построения. Её власть повсеместна и всесильна. Кто мог бы противоречить ей?
Вообще вся наша действительность и восприятие её, в своей сакральной сути есть вопрос лишь скорости движения, вопрос взаимоотношения скоростей, в самом широком смысле слова. Подробнее на этом, я остановлюсь во второй книге. Ибо, чтобы это осмыслить, необходимо потрудиться. Ведь это самое глубинное, самое глобальное и тонкое осмысление природы и её вещей. И пусть я забегаю несколько вперёд, но всё же отмечу здесь. Всевозможные формы объектов, их непроницаемость, текучесть, твёрдость, и т. д. Все, без исключения критерии оценки предмета, так или иначе, основываются на отношении сталкивающихся динамик, – форм движений. Упрощённо говоря, радиусах, параболах, их столкновениях и взаимоотношениях, в нано мире, с последующим перспективным обобщением этих внутренних скоростей и форм движений в «агрегаты синтетической динамики», масштабируемых нашим разумом и приводимых к закономерным полям реальной действительности с её всевозможными перспективами, его рассудочными, умозрительными и постигающими «ганглиями осознанности». Разумом, который целокупирует все отдельные явления во внешний действительный мир, – мир по отношению к наблюдателю. И наше восприятие времени и пространства определяются теми же параболами движений, скоростями и их отношениями. К этому я вернусь позже.
Глубинная сущность жизни как таковой, не ограничивается тем, что мы называем жизнью, что мы приписываем к жизни, отодвигая в сторону всё остальное. Критерии жизни, обозначенные нами, – глубоко условны. На самом деле понятие жизнь и её отсутствие, правомерно могут относиться только к понятиям действительности и пустоты. Только в рамках отношения этих стихий можно говорить о живом или неживом. А по сути, о действительном или пустом. Мы же в силу своей природной иллюзорной субъективности разделили целостный мир действительности на живое и неживое. Тем самым отделив и изолировав самих себя и своих «близких», внутри этой действительности. То есть создали и обозначили внутри всего живого, более живое. А по сути, создали в собственном воображении, – главное и второстепенное. Мы не желаем замечать то, что между живым и неживым, в нашем понимании, подчас совершенно невозможно определить никаких достоверных границ.
Так как Вселенная – есть действительность, и она не выходит за рамки этой действительности, то и всё, что в ней находится, неоспоримо является живым. Во Вселенной – не существует неживых тел, всё лишь живёт своей жизнью. И эта пусть не новая, но прочувствованная мною концепция, не нуждается ни в каких доказательствах. Хотя при желании, могла бы быть легко доказана, стоит только отбросить все догматические привычки нашего разумения и его моральные устоявшиеся и закрепившиеся консоли. В моём воззрении всё материальное вообще, – значит - живое. А так как наш феноменальный мир, – есть всецело материальная субстанция, то и «не живого» в нём просто быть не может. Не живое, – есть прерогатива пустоты, где нет ни времени, ни пространства, а значит и материи как таковой.
Смотря в природу, в действительность, мы, не осознавая того всюду занимаемся вивисекцией. Мы фатально необходимо расчленяем всё, что попадается на нашем пути. Мы ищем родственное, чтобы расширить свою «семью» и изолируем далёкое. Мы создаём для себя друзей и врагов. Мы отчерчиваем границы и высаживаем за возведённым забором, свой огород. И это заложенное в нас генетически стремление, отражается на всех наших отношениях к окружающему миру. Когда мы ищем на других планетах жизнь, мы на самом деле ищем формы близкие нам по своим внутренним и внешним характеристикам. Мы ищем некую упорядоченность близкую нашей системности. Формы, идентичные нам по общим критериям нашей действительности, по метаболизму в самом широком смысле слова. Мы ищем существ, пусть отдалённо, но всё же напоминающих нам нас самих. В бескрайнем космосе Вселенной, мы как всегда и всюду ищем родственников. И здесь, как следствие нашей генетической предрасположенности, благодаря развившейся в нашем разуме «ганглии фантазии», мы стремимся к «идеализированному», в ущерб «реалистичного». Мы ищем иные формы жизни исходя из нашего догматического представления о жизни и не жизни. Наш разум во власти устоявшихся закрепившихся стереотипов и не в состоянии видеть и мыслить иначе. На самом деле искать иные формы жизни за пределами нашей планеты, это всё равно, что искать другие огурцы или помидоры в соседнем огороде. И по большому счёту, нет никакой нужды этого делать. Ибо Вселенная хоть и безгранична, но однородна, – в ней нет и быть не может ничего, что не было бы уже на нашей обетованной планете. И на самом деле все иные формы жизни, которые мы могли бы встретить в чужих мирах, – находятся вокруг нас. Но мы упорно не желаем этого замечать. Мы представляем жизнь, исходя их собственных догматических и архаических критериев, лишь как нечто антропогенно-одушевлённое, нечто органистически-формативное, лишь как нечто системообразующее в критериях нашего представления в строгой последовательности собственных оценок. Ведь мы, даже представляя себе инопланетянина, по большей части представляем его в виде гуманоида. Какой грубый эгоизм и извращённый антропоморфизм! Это воззрение и представление в наших общих правилах, в рамках параболы нашего осмысления, в некотором роде сродни тому приданию Богу – человеческого тела, общей человеческой формы, и главное – его формы мышления. О как наивно до сих пор человечество!
Наше понимание живого находится в узких рамках нашего восприятия и осмысления. Но ведь на самом деле глупо считать появление так называемой жизни, чудесным феноменальным образом. Появление её, как чего-то выходящего из общего явления природы, чего-то противоречащего всеобщей необходимости вещей, общего возникновения и разрушения форм, общего для всего сущего перехода материи из одного состояния в другое.
Даже наша Вселенная, возникнув когда-то из «Великой пустоты», из «инфлантонного поля», сохраняет в себе генетику пустоты, её идеальной сбалансированности, её абсолютной гармонии. Обладая так же и генетикой действительного, – «генетикой нарушения», необходимо воплощающегося в маятниковую и волновую динамику бытия, с её разбалансированностью и упорядоченностью, одновременно. Где общий «диссонанс Вселенной», (воплощающийся в материю), стремится к своему «консонансу», к стагнации, к кризису, после которого всё должно необходимо вернуться к «абсолютному балансу», к изначальной точке отсчёта. Так живёт Вселенная. Так живёт всё, что она включает в себя. Закончив свой цикл, Вселенная необходимо вернётся в своё лоно для того чтобы возникнуть опять. И так бесконечное число раз. И это – «число раз», существуют лишь в нашем разуме, в его хронометрическом, упорядоченном пространственно-временном континууме познавания. Ибо для «пустоты» не существует критериев ни времени, ни пространства, ни последовательности, ни расстояний. А значит ни количества, ни качества, ни объёма, ни в конце концов динамики, с её скоростями.
Мобилизация
Упрощённо говоря наш организм, физически состоит примерно из шестидесяти триллионов клеток, соединённых между собой коллагеном, который в свою очередь состоит из атомов кислорода. Эта коллагенная основа обеспечивает существование ткани как таковой. Ткани, в сути своей имеющей свою существенность лишь благодаря этому сцеплению. Эта ткань воплощает собой некую объединяемость на биологическом уровне, обеспечивающую морфокинезность структуры. Без этой объединяемости, существовали бы лишь отдельные эукариоты. Так возникает нечто пространственно-объёмное, нечто формативное и существенное. Так возникают – системы. Без сложенности, и стремления к слаженности, не существовало бы сложных систем, неких единиц более совершенного уровня. (С точки зрения и в оценках существующих догм). Каждый отдельный эукариот, представляет собой, некую простую систему, единицу своего уровня, и в совокупности с другими эукариотами, уже представляет систему, как некую единицу следующего уровня. Систему, в которой впервые возникает и начинает развиваться власть. Власть, как необходимое условие пребывания сложных систем. Ведь никто же не станет спорить с тем, что человек, его тело, существует только благодаря власти разума. И эта парадигма распространяется и воплощается во всех иных плоскостях пребывания человека. Ведь всякая политическая система только копирует биологическую. И как бы ни старались люди привести её к иной форме, провозглашая волю толпы, и насаждая демократические принципы, никакая система не может существовать без власти, причём власти диктатной. Люди, объединяясь, создают тем самым, некую единицу социального мира бытия, где царствуют те же законы природы, что присущи всякой системе мира.
В сущности, каждая наша клетка, каждый элементарный «эукариот», простейший организм появившийся миллиарды лет назад, является сложной системой своего уровня. И наше совершенство, совершенство человека как системы, по большому счёту, глубоко субъективно. Это совершенство, вопрос лишь нашего осмысления, – веры нашего разума в собственную власть и благодаря этой власти, в собственные возможности. Веры, целиком и полностью зиждущейся на оценках и доминантах собственного воззрения. Мы уверенны, что в результате объединения простых единиц, образуется более сложная, мощная, а значит, более выживаемая единица. Единица, способная более эффективно противостоять внешним воздействиям, которые всегда стремятся её распылить, – уничтожить. Мы наивно полагаем, что главная причина стремления к объединению, стремления к усложнению, и выстраиванию сложной системы, (если построить обратную логическую цепь), заключается в стремлении к сохранению, к выживанию. То есть, здесь проявляется инстинкт самосохранения простейшей формы, стремящейся к объединению с подобными, и воплощению в сложенные единицы, обещающие более эффективное противостояние внешнему натиску природы. Но на самом деле главной причиной, доминирующим мотивом здесь служит не столько стремление к сохранению, к выживаемости, сколько повсеместное, существующее на всех без исключения уровнях, неудержимое стремление к власти. Власти, в которой воплощается самая последняя из всех целей живого, и не живого. Власти само утверждающейся и само удовлетворяющейся, – вершиной всех возможных стремлений. Так образуются и существуют бесчисленные «кланы» всех уровней и уголков мироздания, как так называемых живых, так и не живых его областей. Так возникают и формируются «кланы», как феноменальных, так и трансцендентальных сфер осознанности.
Сноска: И далее, термином «клан», я буду обозначать все возможные объединения, на какой основе они бы не строились и к какой области или сфере познания они бы не относились. Как физически-феноменального непосредственного формата, так и ноуменального, метафизического и трансцендентального=.
Как «инстинкт самосохранения», один из главных инстинктов живого, в сути своей, не является прерогативой только живого, так и «инстинкт власти», не является прерогативой так называемой живой субстанции. Точнее сказать, живой мир, воплощающийся в сложные системы, берёт его из своего архистатического и архаического начала, так называемого – неживого. Или, ещё точнее: В живой материи, он появился не каким-то мистическим образом, но является общим мотивом для всех материальных систем, от космических объектов, планет и галактик, до доступных нам мельчайших объединений не живых субстанций, как например, различного рода кристаллов. Что общего между стремлением к власти в кристаллах и в живых соединениях? Или ещё глубже: Что первичнее, – тело, или стремление этого тела к власти? Что в чём возникает? Кто кого провоцирует? Это вопрос из того же ряда; Что первичнее, – яйцо или курица? Здесь никогда не найти ответа. Ибо одно без другого, – не существует. Как не существует пространство – без времени, а время – без пространства.
Так вот, несколько забегая вперёд. Всё наше великое разумение существует лишь потому, что благодаря способности эукариот, с помощью коллагена объединятся и выстраивать последовательные цепи, «мелкие разумы» каждого эукариота объединившись в сложные системы, образовали более мощное и сложное разумение нашего тела, выливающееся в невероятную сложность трансцендентального разумения нашего мозга. Мозга, как некоего конденсатора, собирающего и упорядочивающего «мелкие разумения эукариот», «мили токов», и образовывающего «государство-личность» с властвующим диктатом собственного порядка и разумения. И появление нашего могучего разума, обязано тому изначальному и повсеместному стремлению каждого эукариота к власти, стремление захватить как можно более широкое пространство, повелевать как можно более перспективными направлениями. И по большому счёту, благодаря именно этому само утверждающемуся мотиву, существует Величие, как таковое.
Поверхностный обзор мироздания
Наша планета Земля, сформировавшись миллиарды лет назад из отдельных пылинок, блуждающих в космосе, вступив в связь с Солнцем, родила нас. И теперь мы существуем и живём по их законам, во всём повторяя все их сущностные и трансформативные особенности. Видящий, да увидит! Каждая субстанция в этом мире, развивается по тем законам, которые диктует ей, породивший её. И она не в силах выйти из-под этой фатальной доминанты. Цепочки этих зависимостей уходят во все стороны нашей Вселенной. Мы способны видеть только кусочек, часть грандиозной цепи, условно говоря, от самой Вселенной, галактик и планет, до ядра какого-нибудь вещества. Но может статься, что в этом ядре, – целая Вселенная, со своим уровнем пребывания, который мы никогда не осмыслим. Также и вся наша Вселенная, для кого-нибудь «безмерного наблюдателя» в нашем представлении, будет представляться мельчайшим ядром. Ведь вся сущность миропорядка, – в масштабах и соотношении размеров, с одной стороны, и в соотношении скоростей и их взаимодействий, с другой. Мы, попросту говоря, занимаем лишь несколько колец этой бесконечной спирали, и ещё несколько способны видеть в ту и другую стороны. Конечно, соразмерно нашим способностям и адекватно нашим векторам воззрения. Имя же этой спирали – бесконечность. Ибо мир бесконечен как в расстояниях, так и в размерах. Но вот, занимаем мы уже существующие кольца, или сами создаём их, – это вопрос. Ведь дело в том, что вся эта бесконечность, как в расстояниях, так и в размерах – плод нашего разума. Ведь всякое расстояние, всякое пространство как таковое, и всякая динамика в этом пространстве, определяемая временем, есть всецело порождение нашего разума, и во всех своих аспектах строго зависит от его внутренней архитектоники.
Но вот что, на самом деле обеспечивает существование пространства вообще, и сущего в этом пространстве? Если не складывать всё на ноумен, если представить себе на секунду, что мир феномена – существует сам по себе, если посмотреть так сказать, со стороны на общую физику феномена и попытаться обосновать само явление из принципов этого явления, то, пожалуй, это можно проделать, посмотрев в суть самого феномена, как явления. Что на самом деле обеспечивает существование всякого объекта в эфире пустоты? Это то, что в противоположность гравитации, некоего фундамента всякого объединения, необходимо присутствует антигравитация, как некое противоположное гравитации и равное ему, фундаментальное начало. Две противонаправленные и не существующие друг без друга, стихии. Именно их противостояние и сохраняет баланс во всех без исключения плоскостях ощущаемого нами мира, и определяет всякий горизонт событий. Ибо в этом противостоянии – всё! Всякая форма внешнего мира, всякая форма объекта, обусловлена этим противостоянием и его балансом. Без него нет, и никогда бы не было сущего как такового. Ведь всё материальное, всё сущее возможно только в балансе противостоящих стихий и никак иначе. Всякая гипотетическая победа на этом поле одной из монад действительности, приводит к исчезновению обоих оппонентов. Условно говоря, именно в балансе «сил гравитации», и «сил антигравитации», «сил центробежных и «сил центростремительных» образующих в своём синтезе силы материализации, и силы анти–материализации существует всё и вся. А сказать проще; Материя как таковая, существует лишь как внутреннее напряжение. Не будь этого напряжения, и не было бы ничего. Мы не можем наблюдать те объекты, в которых победила одна из сил, ибо они перестали существовать, – растворились в эфире, либо не родились вовсе. Если бы мы могли их наблюдать, наш мир был бы завален «трупами», – «стихийными трупами природы».
Далее. Что в своей сути есть – пространство, и что в своей сути есть – время? Могут ли время и пространство существовать как абсолютные самодостаточные данности? Попробуй отделить время от пространства, или пространство от времени, и каждое их них – исчезнет, как утренний туман. Нам кажется, что мы чувствуем время и пространство, как некие отдельные самостийные стихии. Будто бы, как нечто данное существует в нашем разуме время, и как нечто сущностное и незыблемое – существует пространство. На самом деле мы чувствуем не время и пространство, как некие самобытные монады бытия, но лишь соотношение наших внутренних обменов и трансформаций, (так называемого метаболизма, протекающего в рамках нашего объёма), – со скоростями трансформаций и динамик вне нас. Мы чувствуем и идентифицируем разницу, контраст, соотношение, но не сами монады, как данность и определённую константу. То, что воплощается в противостояние феномена и ноумена, и олицетворяющегося в отношении объекта и субъекта в созерцании. То есть, чувствуем соотношение разницы течения неопределённых самих по себе динамик и трансформаций с одной стороны, (то что определяется нами как время), и соотношение, и разницу объёмов, – с другой, (пространство). Соотношения, которые синтезируясь в нашем разуме, и приобретая определённые очертания, воплощаются в апперцепции и дефиниции разумения. Которые в свою очередь дают специальным отделам нашего разума, («оценочным ганглиям разумения»), материал для построения определённых параметров, установления порядков, и выведения формул и алгоритмов, как неких точек отсчёта, неких образов и лекал собственной осознанности. И именно это взаимоотношение внутреннего и внешнего, детерминируемые нами как отношение объекта и субъекта, порождает чувство времени и пространства, не существующих самих по себе в определённых константах, монад бытия. Метафорически выражаясь, наше время бежит со скоростью определяемой соотношением течения крови в наших жилах, с трансформациями внешнего плана. А пространство – есть отношение нашего объёма с его внутренним пространством, – к внешнему. И вся сущность форм внешнего мира, и все изменения во внешнем мире, определяются нами как отношение этих относительных величин и скоростей. Только как отношение, и никак иначе. Из отношения выливаются и формируются всякие полюса, как некие действительные гиперболы и параболы действительности, а не наоборот. Не отношение создаётся некими сущностными в себе, определёнными формами бытия, но эти формы бытия выводятся, определяются и формируются как некие формы, из вытекающего соотношения. Эту принципиальную разницу, в силу её тонкости и слабой определённости сложно уловить и осмыслить, но, когда осмысливаешь, – мир переворачивается.
И так. Вся целокупность внешнего мира, и вся фатальность его «макрокинеза», определяется следующей формулой: Произведение внешнего объёма на скорости течений и трансформаций в нём, – к произведению объёма нашего тела, на скорость движения крови в наших жилах, скорость обменов и трансформаций в нашем мозге. Формула проста и кажется обыденной. Но на самом деле она зеркально переворачивает действительность. Ведь как я отмечал чуть выше, эти параметры не первоначальны, они последствие, – продукт отношения, и все их оценки возникают из этого отношения, – апостериори. Априори же, не существует ни внутренних самих в себе сущностей, с определёнными собственными качественными параметрами, – ни внешних.
В том числе и поэтому абсолютного времени, как и абсолютного пространства, – не существует, как не существует ничего абсолютного. Как не возможен сам по себе ни феномен, ни ноумен, ни субъект, ни объект.
Ноумен
Давайте пофантазируем. Не стоит относиться к фантазии с апломбом и умудрённым цинизмом. Она, пожалуй, самое жизнеутверждающее явление нашего разума. Только в ней и с ней наш разум по-настоящему бодрствует. Только ей, этой Великой Терпсихоре нашего сознания на самом деле дозволительно по-настоящему отделять и абстрагировать «живое», от «неживого». Ибо её живость – самая тонкая и самая самодостаточная, и потому не подлежит никакому сомнению. Так как она живёт за облаками всякой инертной реальности бытия.
И так. Для нашей планеты, как для субъекта, как для «наблюдателя», (если представить себе на секунду планету, как наблюдателя), всё наше существование, то есть рождение, жизнь и затем смерть, в хронологическом аспекте будет выглядеть примерно так же, как для нас представляется кипение воды в кастрюле. То есть, зарождение пузырька на дне кастрюли, прохождение по толще воды, и затем лопанье на поверхности. Вот именно таким промежутком времени будет представляться наша человеческая жизнь, для такого гиганта как наша планета. А Солнце, как «наблюдатель» со своим время ощущением, вообще не заметит нашего пребывания. Для него оно будет мигом, который Солнце просто не в состоянии ощутить. Для Вселенной же, (примерно и условно), даже вращение Земли вокруг Солнца, будет чем-то вроде нашего восприятия вращающегося вентилятора. Абсолютно в таком же отношении хронологически-объектарного порядка, пребывают и мелкие, относительно нас с вами, объекты и субъекты. Для каждого из них, свой взгляд на течение времени, своё ощущение форм мироздания. – Жизнь своего уровня. Мы зажгли спичку, – для нас это миг. Но для микрокосмоса может статься, – целая вечность.
Но если не существует времени самого по себе и не существует пространства самого по себе, то каким образом мы пребываем с другими объектами в одно время, спросите вы. Ведь если времени нет, то нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего? Если нет пространства, то нет и объектов? Это, пожалуй, один из краеугольных вопросов, требующий глубочайшего созерцания и осмысления. А главное, нестандартного воззрения и умопостижения. Ответить на него односложно – невозможно. Всё моё сочинение, так или иначе, будет касается этого вопроса, подходя к нему с разных сторон. Ведь вопрос собственно не в том, существует или нет само время, вопрос – что оно? Ведь на самом деле прошлое, настоящее и будущее, определяются не какой-то всеобъемлющей, все диктующей субстанцией мира, но определённым состоянием субъекта и его, определяющего и оценивающего всё вокруг, ноумена. В самой природе не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. И так же, как ноумен, строит и определяет все объекты феноменального мира, так и объекты – определяют и идентифицируют друг друга, и формируют и определяют сам ноумен. Всё прошлое, настоящее и будущее, зиждиться на скоростях и объёмах различных «ганглий воззрения», на апперцепциях и дефинициях разума. На разумной требовательности, и её способности воспринимать и осмысливать как внешние, так и собственные движения. Прошлое и будущее строиться на парадигме пространственно-временного континуума, продуцируемого разумом и его апофеозным авангардом – «ганглией фантазии». А настоящее – вообще – не существует. Настоящее, – всецело есть ноумен, – некая «Чёрная дыра сознания». Всё, – как объективное, так и субъективное, как пространственное, так и временное, строиться неким «локальным мирком», существующим в безмерной пустоте и смотрящим из этой пустоты, из этой бездны, на собственные построения и хитросплетения. Мир существует – не извне, но изнутри. Пустота и отрешённость нашего ноумена выстраивает внешний мир, и дивиться ему. Действительность же, со всей её реальностью создаётся с обеих сторон. Она – есть синтез. С одной стороны, Ноумен порождает время и пространство, и все объекты, и трансформации. С другой стороны, Время и пространство контролируют и определяют существование этого ноумена. То есть субъект, – продуцирующий и чувствующий время и пространство, – сам существует в этой парадигме. Создавая «пространственно-временной кокон» вокруг себя, он полностью зависим от него. И кто кого создаёт, кто от кого зависит, – вопрос лишь фокуса воззрения и осмысления.
Как я уже отмечал выше, для каждого субъекта существует своё течение времени. Оно фатально определяется скоростью обменов в нём самом, и сравнения этих скоростей, с внешними скоростями. И только из этого сравнения складывается само чувство времени. Но из подобного соотношения складывается и чувство пространства. Наше ощущение пространства, так же складывается из разности объёмов, внутренних и внешних, и их взаимоотношений. То есть, говоря проще, пространство и время существует только там, где существует отношение объекта и субъекта познания, которые в своём Абсолюте не существуют по отдельности. Мы отделяем и идентифицируем их в силу свойства транс линейности нашего сознания, его дуализма и необходимой парадоксальности.
Как только ноумен перестаёт существовать, тут же время как таковое, со всеми его параметрами, перестаёт так же существовать. И здесь, я не могу не сказать о той детской, наивной, но в то же время по-детски глубокой гипотезе, которая возникла в моём воспалённом сознании, как некое видение, как некий образ запредельного созерцания. Почти мифический образ нашего бытия, объясняющий хронологическую последовательность глобального возникновения и уничтожения, прихода и ухода, сверх глобальной волны пребывания необъятного мира. А в упрощённом локальном контексте, по отношению жизни и смерти человека. Это воззрение, а точнее сказать метафизическое впечатление, чем-то близкое к религиозным веяниям Индии и вообще Востока, открыло для меня всю фатальность бесконечности, и необходимого для вечности возвращения.
Коротко: Когда человек умирает, для него время перестаёт существовать, и он не в состоянии ощутить миллиарды и миллиарды лет космических трансформаций. Но так как всё и вся обязательно возвращается на круги своя, (ибо иначе и быть не может), и повторяется несчётное количество раз, то умерев и родившись через миллиарды и триллионы лет космических изменений в той же форме, он, для своей собственной осознанности умерев, тут же рождается снова. Для него, для его ноумена, то пребывание во владениях смерти миллиарды и миллиарды лет, проходит совершенно незаметно. А значит, для него – смерти как таковой, просто – не существует. Умирая, он, для своего собственного восприятия, рождается тут же заново. Ведь для него время, его течение и соответствующая этому действительность и жизнь, начинает существовать только с его рождением. И пусть эта концепция мало походит на ту проповедуемую востоком реинкарнацию, но всё же нечто общее с теми воззрениями, здесь есть.
В своих собственных ощущениях человек живёт вечно. Ибо его ощущения связаны только с бытием, с действительностью, только с его жизнью. И потому он, как вечно находится в царствие смерти, так и вечно находится в царствие жизни. И только лишь в этом ключе, в этом смысле, я представляю себе вечность жизни и смерти. Жизни и смерти, как так же не существующих отдельно, как лишь по отношению друг к другу, монад бытия. Уходящий, – всегда возвращается. Иначе и быть не может. Ибо уходящий раз и навсегда, своим уходом прекратил бы всякое существование, и исключил бы тем самым пребывание теперь, как таковое.
Кто глубоко осознает эту истину, для того смерть перестанет быть чем-то конечным раз и навсегда. Она станет концом и началом одновременно. Ибо в противном случае мы не существовали бы здесь и сейчас. Наивно полагать, что существование в бесконечности, могло бы быть – без возвращения. И если существует сама бесконечность, и мы – существует здесь и сейчас, (а в этом сомневаться не приходиться), то необходимо существует – постоянное возвращение.
Лирическое отступление. Наверное, каждый из нас когда-то чувствовал следующее: Находясь вдалеке от родных мест несколько лет, и затем, возвращаясь, он чувствует некую дискрецию, нечто схожее с «дежавю». Ему кажется, что он уехал отсюда вчера. Что если бы не память, то время, проведённое вдали от дома, для него явилось бы мигом. А всё, что происходило здесь в твоё отсутствие, просто – не существовало.
Мы не верим в нечто большое в себе. Мы наделили время самостоятельностью, как привыкли наделять самостоятельностью многие вещи, например, искусство, или понятия этики и морали. Мы смотрим на всё так, как нам удобно, нисколько не задумываясь об истине. Человеческий рассудок в отличии, например, от животного, чувствует время гораздо шире. За счёт внутреннего усложнения, упорядочивания и гармонизации в процессе эволюции. Он расширил собственное чувствование времени от одного мига в обе стороны, – в прошлое и в будущее. За счёт развития, существующих одновременно в его разуме; – «Ганглий фантазии», «ганглий идеального», и «ганглий рационального», он расширил свой мир во все мыслимые стороны пространства. Его ощущение времени и бытия отличается объёмностью. Наш разум, вырастив в себе эти дополнительные «ганглии разумения», эти дополнительные возможности, превратил свой мир в объёмное зрелище, как в смыслах пространственного качества, так и временного. И выстроил целокупный синтетический образ действительности. Подобно тому, как выстраивает и расширяет свои возможности простой глаз, (его объёмному восприятию мира служит теперь не только второй глаз, и не только его развитая сетчатка, но и рассудок). Наш теперешний разум подобно развитому глазу, смотрит в одну точку, а видит периферии и перспективы. Он, в своём восприятии времени имеет схожую с оптическим созерцанием природу восприятия. Но в несколько иной, модифицированной форме. Он озирает прилегающие к мигу области, периферии воспринимаемого времени, как глаз озирает периферийные пространства, прилегающие к точке зенита и фокуса. И всё это благодаря развитости «ганглий рассудка», а также «ганглий рационального и идеального мышления», и главное «ганглий фантазии». Его развитая память, без которой мир так и оставался бы в рамках мига, позволяет ему существовать одномоментно в расширенном поле пространственно-временного бытия, – его континуум раздвинул рамки настолько, что позволяет занимать более широкое поле времени и пространства. Благодаря постоянному возникновению и развитию новых «ганглий» наш разум идентифицирует и осмысливает гораздо шире изначальной точки собственного зенита, как в сферах пространства, так и в сферах времени.
Анализируя наше отношение к течению времени и проникая силой воображения в разные уголки мироздания, я не однократно приходил к выводу о не существующем едином для всего сущего, времени. Все больше я убеждался в отсутствии, как такового главенствующего и определяющего все движения, извне диктующего, постоянного для всего и вся, течения времени. Как я уже отмечал выше, оно рождается изнутри, мы чувствуем его неумолимое движение, его ход из движения нашей крови, – «крови», в самом широком смысле слова. Из нашего сакрального метаболизма, как непосредственно физического, так и опосредованно трансцендентального. И благодаря синтезу восприятий разных «ганглий» нашего разума, и благодаря свойствам и способности его оставлять отпечатки внешних воздействий и впечатлений на «линейке» этого метаболизма, (память), мы воспринимаем действительность так, как воспринимаем. И время для нас существует таким, каким мы его рождаем. Для других же субъектов, оно будет чем-то совершенно иным. К примеру, организм, чей век ограничен одними сутками, проживает его вполне полноценно за эти сутки. Ведь его «алгоритмическая линейка» метаболизма, – совершенно иная. Иная сакрально, по всем своим параметрам. Ведь сами параметры, не существуют в природе сами по себе, как только по отношению и в связи с наблюдателем, и каждая чёрточка на этой «линейке», имеет свой шаг только в сравнении, только как условность и никак иначе. Муха, для которой наша минута, без всякого сомнения, является большим промежутком времени, проживает эту минуту так, как (условно говоря) мы, наверное, проживаем целый день. Для организма под названием человечество, или организма биосферы, своё течение времени и своя жизнь. А ведь существуют и более отдалённые от нас «организмы», к которым я, с лёгкой руки, причисляю и всю, так называемую «неживую» природу. И у каждого, свой «метаболизм», а значит и своё время. В каждом объекте природы свои и только свои часы. Да и можно ли вообще представить существование независимой от субъектов, какой-то постоянной субстанциональной параболы, со своей, не зависимой ни от кого величиной. Нечто самостоятельное, а тем более бесконечное, что текло бы в пространстве, диктуя всему, и вся свою волю. Такое бесконечное движение времени, представляло бы абсурд по всем статьям.
Я полагаю, что такая мифологема, как текущее само по себе время, есть одна из тех многочисленных иллюзий, позволяющих нам жить. Подобное существование некоей монады, в теистической направленности разумения, имело бы конкретное определение: Оно есть – Бог. И как человеку крайне сложно представить себе отсутствие Бога, так и отсутствие времени самого по себе, крайне сложно вообразить. Ибо человек постоянно чувствует и осознаёт его непреодолимую власть над самим собой. Я полагаю, что одной из причин рождения в нашем разуме теизма, явилось именно это, по сути, не доступное нашему осмыслению течение, называемое нами временем. «Словно течёт там древней речки время… И прорастает вечно в этой речке семя…»
Точка трансформации
Как я отмечал выше в главе «Мобилизация», теперь всякому обывателю известно, что наш организм – это не что иное, как конгломерат, синтезированная совокупность триллионов отдельных клеток, существующих сообществом. Клеток, обменивающихся друг с другом на химическом, биологическом, электрическом, и других порядках. Упрощенно говоря, в своей синтетической совокупности они образуют так называемую биологическую единицу, которая в свою очередь, также стремиться к объединению с подобными единицами, чтобы образовать на следующем уровне более объёмную единицу, – единицу иного уровня. Но каждая так называемая единица, наряду со стремлением к объединению, набирая силу, стремиться к обособленности, к очерчиванию собственных границ, чтобы не слиться в единую массу, и не вернуться в хаос. Этот порядок вещей, вытекает из общего для всего сущего порядка, в котором сакральной основой действительности является противостояние хаоса и упорядоченности, как неких основных противоречий космологической конструкции мироздания. Но материнской основой всего этого, служит свойственное всему сущему внутреннее противостояние стихий гравитации и антигравитации, баланс которых определяет «горизонт событий» и наличие чего бы, то ни было в этой действительности. И потому это положение равно относиться как условно к «живым», так и «неживым» материальным субстанциям. Я бы назвал этот основополагающий закон всего Сущего, «Законом синтетического противоречия природы», или «Законом баланса сил». И хотя он родственен диалектическому «закону единства противоречий», но в корне отличается от последнего. Ибо определяет не последствие природы, не наличие в ней отдельных явлений, определяемых этим законом, но её полную существенность.
Как я уже говорил выше, этим законом обеспечивается наличие вообще, материальных объектов и субстанций. И даже существование пространства и времени, как таковых, определяется наличием этого повсеместного и вездесущего закона. Ведь по большому счёту не существуй этого главного противоречия, как основы для всего и вся, и всё сущее не имело бы возможности для своего существования, а значит не было бы ни времени, ни пространства. Ведь в отсутствии одного из составляющих стихий противостояния, имеющих свои проявления в вечных монадах абсолютного баланса и необходимого нарушения, воплощающихся в нашей действительности в силы гравитации и антигравитации, силы центробежные и силы центростремительные, а, в конечном счете, силы материализации и дематериализации, невозможно и наличие второго. Ибо в отсутствии напряжения, всё и вся тут же превращалось бы в пустоту.
Теперь по порядку. Анализ «живого» и «неживого» в природе, можно было бы начать со следующего: Как вообще, мы оцениваем внешний мир явлений, и когда, и с чего началось разделение мира на «живой» и «неживой»? Из каких основных аспектов складывается наше представление об этом, и как мы критизируем и конкретизируем, выводя свои вердикты и постулаты относительно мира, и относительно собственных мнений?
По неоспоримым доводам учёных, наш мир, мир, который мы наблюдаем вокруг себя, (в относительно широком поле, и глобальном масштабе восприятия) как-то; Планеты и звёзды, образовались из хаотически блуждающей пыли, в результате соотношения стихий гравитации и антигравитации, а также баланса центростремительных и центробежных сил. Впоследствии, образовав единицы на следующем уровне, как-то; Солнечную, и другие системы. Затем эти системы, образовали галактики, галактики образовали скопления галактик, и так далее. Конечно же, всё это утрированно, ибо, ни о какой последовательности, нарисованной здесь, речи быть не может. Последовательность, это свойство нашего разума, оно существует только в нём, и не имеет к природе в себе, никакого отношения. В природе все процессы происходят одновременно. Мы же, раскладываем всё по полочкам, для того, чтобы иметь возможность для осмысления нашим «рефлексивно – рациональным разумом», который не существует вне векторности пространственно-временного континуума, вне всякой последовательности. Наш «рациональный разум», способен переварить только то, что превращено его же «ферментами», в некую действительную последовательную и соразмерную конструкцию. В некую субстанцию доступную для его «переваривания» и «усвоения». В ином контексте, ином алгоритме он мыслить не в состоянии. Ведь иной пищи, чем та, которую он в состоянии разложить своими ферментами, для него, просто – не существует. Поэтому, хотим мы того, или нет, но размышлять мы будем в последовательной векторности осмысления, в алгоритме присущем нашему разумению, его архиметаболистической природе.
Далее. Условием для образования живой ткани, а затем и простейшей живой клетки на нашей планете, по общему согласию ученых, послужило огромное стечение обстоятельств. Как-то; определенная температура, определённое количество света, влаги, сочетания химических элементов, и так далее. Сочетание нескольких факторов в одном месте привело к тому, что возникла «синтезированная единица», в которой все обмены и взаимодействия стали происходить, условно говоря, медленнее, чем в ядерных реакциях, (присущих отцу нашему, Солнцу), но быстрее чем в холодном камне, (присущих матери нашей, Земле). Повторяю, условно говоря, для метафорического образа осмысления. Возник, некий «синтетический баланс», биосистема, в которой главными противостоящими стихиями стали стихии холода и жара, стихии воды и огня. (Как некие метафорические воплощения Солнца и земли). И в силу определённой стабильности и сохранения, присущих всякой сбалансированной системе, а также невероятной стабильности внешних условий, эта «единица», сохраняя в себе свойства общего «закона противоречия», начала своё победоносное шествие, усложняя и все более упорядочивая себя, а вслед за этим, усложняя и упорядочивая мир вокруг себя. Распространяясь в благоприятной среде, принимая всё новые и новые формы утончённого балансирования.
По большому счёту, с точки зрения современной биофизики, мы с вами являемся той же клеткой, пусть усложнённой до невероятности, но всё же клеткой, в которой происходят всё те же обмены на многочисленных уровнях. И форма, и скорость этих обменов, определяют наше отношение ко всему происходящему как в нас самих, так и в окружающем мире. Наше тело и наш разум оценивает всё происходящее вокруг, как бы сравнивая, на глубоко подсознательном уровне, внешние движения, со своими внутренними. Из целого ряда сенсорных, рассудочных и умозрительных данных, складывается субъективное восприятие. А оно, – единственно существующее восприятие в этом мире. Только субъективно, мы можем оценивать всё вокруг. Других оценок не бывает. Так называемое «объективное восприятие», или «объективное суждение», есть не что иное, как трансцендентальное, условно принятое отношение большинства субъектов к выбранному объекту, образующих некий «синтез субъективных суждений». Внешний мир со всеми его объектами, по большому счёту, есть синтетическое пространственно-временное, условно субъективное воззрение, которое само в себе, не несёт ничего объективного, в академическом смысле слова.
Наше осмысление вещей в мире, основывается на способности нашего организма реагировать на внешние объекты, в сочетании опыта, скорости всех движений, их совокупности, и ещё большого количества условностей. Все процессы, происходящие в нашем организме, их целокупность, диктует нам отношение ко вне существующим объектам. И деление нами природы на «живую» и «неживую», определяется нашим восприятием и сравнением тех процессов, которые происходят как внутри нас, так и во внешних объектах, в их взаимоотношениях и соразмерностях. Условно упрощённо говоря, все те объекты, в которых внутренние процессы близки нам по своим механизмам, по скоростям и формам, мы объявляем – «живыми». Все же остальные объекты, чуждые нам по своим механизмам и формам, мы обозначаем, – как «не живые». Конечно же, осознанность всего этого, происходит на бессознательном уровне, почти вне рефлексии.
Но посмотрите непредвзято, насколько это возможно, на то, как на самом деле неопределённы и размыты границы между «живой» и «неживой» материей. Опять же упрощённо образно, почти метафорически: Взгляните на моллюска с его мягкой тканью, плавно проникающей в панцирь раковину, которая является для нас, как бы неживой. Но в тоже время раковина растёт, а значит, – живёт. Только её жизнь, все процессы, протекающие в ней, отличаются от тех, что протекают в мягкой ткани. В ней нет нервных волокон, нет быстрых реакций. Но сколько обозначаемых нами «живыми», субстанций не имеют нервных волокон и быстрых реакций? Моллюск, – это метафора физиологии жизни. И при всей примитивности примера, он наиболее наглядно показывает всю условность нашего определения живого и неживого, как чего-то абсолютно противоположного. И даёт начало для совершенно нового взгляда на мир. Взгляда, который я попытаюсь развернуть настолько, насколько это позволит глубина моего воззрения, и ширина образования.
Ещё с древнейших времён люди пытаются проникнуть в глубины мироздания и в сущность явлений. На интуитивном уровне, подсознательно, они всегда чувствовали всю условность определений – живой и неживой. Во многих древних религиях, и не только в религиях, мы находим проявления этого подсознательного. Люди, всегда награждали качествами живых существ, неодушевлённые предметы. Особенно в таких древне-культурных странах, как Китай, Индия и Япония. Где люди, испокон веков заглядывали больше в себя, а значит, проникали глубже в суть явлений мира.
Главный мотив нашего желания разделять мир на живые и неживые субстанции, лежит в той особенности нашего мышления, которая, во-первых, всегда стремится разделить и сравнить; во-вторых, всегда стремиться возвысится и индивидуализироваться; в-третьих, всегда и во всём стремится к власти. Из этих особенностей нашего мышления собственно, и родились наши высшие аналитические и синтетические суждения. Превратившиеся со временем в отдельные науки как-то; логика, диалектика, эклектика, и т. д. Но, как известно, у любой медали существует оборотная сторона.
Всякую неживую субстанцию, которую мы способны ощутить с помощью наших органов чувств, мы можем рассмотреть с совершенно иного угла зрения. Попытаться посмотреть взглядом наблюдателя с иным, так сказать, противоположным миро-зрением.
На самом деле, мы живём в мире, где, (осторожно говоря), разнообразие живой природы намного шире, чем это принято полагать. Некоторые субстанции, которые мы привыкли относить к неживым, являются на самом деле, живыми. Только все обмены и трансформации в них, происходят на совершенно ином уровне, по своим законам и в своих временных отрезках. Они имеют свою систему бытия, со своими параметрами. Параметрами, в которых по нашему разумению, жизнь не возможна.
Сразу хочу оговориться. Тот произвол нашей воли, который мы ощущаем в себе и который является для нас неопровержимым никакими доводами, та божественная искра, которая горит в нас негаснущим огнём и, в сущности, благодаря которой мы убеждены в принципиальном отличии живого от не живого, является – иллюзией. Свободная душа живого, свободная в сути своей, есть наша главная иллюзия, иллюзия нашего разума. Она убеждает нас в собственной обособленности, собственной божественной природе, изолированности, индивидуальном произволе, и собственной свободе. И выступает главным лейтмотивом для нашей убеждённости в сверх материальность нашего существа, и бастионом нашей веры в собственную феноменальность, как и в феноменальную наличность самого живого. Этого вопроса, я подробнее коснусь чуть позже.
Сегодня, уже мало кто сомневается в том, что наша земля, это живой организм. И это естественно. Ибо, если посмотреть чуть дальше своего носа, то становиться очевидным, что если бы земля не была живым организмом, то каким образом на ней могли бы появиться живые твари? Как, вообще, могло бы появиться живое – из неживого? Если даже предположить, что это возможно и это так, то тогда возникает вопрос; Как они могли ещё абстрагироваться и изолироваться друг от друга, и отчертив границы, противопоставиться, кроме как в зеркале нашего разума, с его архаической природой дуалистического объективно-субъективного воззрения и осмысления? Каким образом неживая ткань, может трансформироваться в живую? В какой критический и роковой момент, происходит это превращение? Где находиться та точка трансформации неживой ткани, – в живую? Я думаю, что на этот вопрос не ответит не один естествоиспытатель. И не только потому, что этот вопрос провокационен по своей сути, не только потому, что он затрагивает самые глубинные уголки мироздания, но и потому, что человеческий разум, на самом деле, не в состоянии найти эту точку, и не может определить той границы достаточно достоверно, но лишь как нечто субъективно-эмпирическое. Ибо, на самом деле, мир – неделим, он целокупен. Каждая вещь в нём, включает в себя всю возможную палитру бесконечного мега-объёма. Как молекула воды неотделима от мирового океана, так всякая субатомная частица, включает в себя весь космос. Нет в мире, и никогда не будет единицы, которая родилась бы и развивалась самостоятельно, которая была бы полностью изолированной и свободной. И в сути своей, представляла бы нечто отличное от окружающего её, мира.
Да, в эмпирически-перспективном поле нашего воззрения и осмысления, на определённых «полюсах», отличия для нас, – бесспорны. Но мы никогда не найдём чёткой границы между неживой и живой тканью в дали от этих «полюсов», в сближении обозначаемых нами противоположностей, где необходимо и обязательно происходит диффузия представленных противоположностей. Ибо диффузия живого и не живого такова, что чем дальше ты заглядываешь, ища эту границу, тем сильнее срастаются противоположности. Мы разделили мир на две части, но это деление в высшей степени субъектативно, и абсолютно условно. Это деление существует только в нашем разуме, и не существует в природе. И даже в нашем разуме, – только как аподиктическая противоположность, основанная сугубо на трансцендентальных транскрипциях сравнения формальных признаков бытия. И термин «сравнение» здесь, является краеугольным.
Теперь сосредоточьтесь. Как вся наша биосфера относительно неживой природы, вообще, так и мы в ней и относительно неё, в частности, по сути своей, представляем некое утончение относительно грубой материи, «утончение повсеместного и вездесущего баланса». В каком-то смысле, мы – есть воплощённая гармонизация «грубого» и «тонкого» в себе, некая сверх организация в области баланса вообще. Мы воплощаем собой некую упорядоченную гармонизацию амплитуд колебаний в противостоящих стихиях мирового макрокинеза. Нечто относительно более тонкое и хрупкое в своей сбалансированности, в сфере порядка и на ступенях градационной лестницы мирового макрокинеза. Ведь амплитуда колебаний нашей среды, с её бесконечно возможными параметрами и критериями, в самом широком смысле слова, так узка, а сущностная основа нашей жизненности так тонка, что в сравнении с «грубыми», повсеместно окружающими нас субстанциями, вызывает чувство совершенной божественности, изолированности и абстрагированности. И мы обозначаем это утончённое состояние баланса, – «Живой биосферой земли». Но ведь это утончение совершенно необходимо, при стечении всех условий и обстоятельств. И невероятная мистичность всего живого, на самом деле, имеет своим паллиативом невероятное стечение условий и обстоятельств, и зиждется на успокоенности природы, почти до штиля, позволившей так утончится всеобщему грубому балансу, и породить субстанции тонкого внутреннего взаимодействия стихий, субстанции тонкого сверх организованного мира бытия. Балансу, который является фундаментальной основой всего живого и неживого. Мы – говоря метафорически, представляем собой некий «сбалансированный растянутый во времени, взрыв». И если посмотреть на всё это обобщённо метафизически, то все механические особенности нашего пребывания, в точности повторяют динамику всякого взрыва. То есть, мы, в сути своей, являемся неким воплощением солнца на земле, и несём собой воплощение его сбалансированного коллапса.
Сегодня утром, я вдруг ясно осознал всё глобальное единение живого и неживого. Глобальное единение мира! Описать это очень трудно, почти невозможно. Это чувство, сродни некоему трансу. Когда ты чувствуешь полное слияние себя, со всем окружающим миром. Когда ты чувствуешь мир целиком. Когда для тебя не остаётся ни одного уголка, ни одной крупинки, ни одной капли, вне этого мира. Не остаётся ничего тёмного, и ничего изолированного. Я чертил параллели, и в моём разуме всплывали грандиозные картины. Где ясно виделась вся схожесть макрокосмоса, и микрокосмоса. Идентичность в своей сути, всех процессов. Где отличия были лишь в объёмах и скоростях, существующих лишь в наших воззрениях, в наших головах. Где всё живое и неживое, всплывало в моём воображении, как простое архистатическое деление бытия. И я вдруг осознал со всей ясностью, что живое и не живое, точно такая же относительность, как верх и низ в пространстве, как прошлое и будущее во времени, только лишь по отношению к конкретному субъекту, к конкретному ноумену, и никогда, и нигде – вообще.
«Живость», градацию этой живости, её относительную степень, мы можем идентифицировать и распознать в наших характерах, уловить в тонких оттенках наших темпераментов. Мы можем ощутить эту градацию в наиболее полной мере в наших сношениях с разными людьми. Мы очень чётко чувствуем и определяем эту степень, общаясь волей случая с разнообразными личностями, выявляя почти безошибочно все их тонкие отличия. На мой метафоричный взгляд, одни личности имеют характер более живого свойства, другие менее живого. Мы даже стали классифицировать характеры, совершенно не задумываясь, откуда собственно, растут эти ноги. Мы классифицируем различные психотипы исходя из обозначенных нами и запечатлённых темпераментов. Но на самом деле, исходя из «живости», то есть степени этой «живости» соответствующей данному типу темперамента.
Всё это я к тому, что даже в рамках психофизики, в пределах неоспоримо живого душевного агрегатива, сама «живость» имеет градационные степени. И в первую очередь именно в рамках этой психофизики. Ведь на самом деле эти темпераменты, есть тонкая проекция, некое лекало взаимоотношения «живого» и «неживого» во всём остальном феноменальном мире. Некая воплощённая субстанциональная матричная относительность всего того, что мы, так или иначе, определяем, как относительность «живого» и «неживого» в мире грубого феномена. Наши темпераменты отражают собой градационную относительность всех субстанций и вещей в мире. «Степень живости» во всём внешнем мире, так же относительна, как и в наших темпераментах.
И с точки зрения простой физики мы, люди, как некие сложные организации, являемся лишь одной из ступенек на бесконечной градационной лестнице утончения и огрубения материальных форм действительности. И обозначаем эти степени, исходя из собственного положения на этой лестнице, смотря будто бы вниз, и поднимая голову будто бы вверх, смотря как будто бы налево, и как будто бы направо. Весь окружающий нас Мир, превращается в нашем воззрении в отдаляющиеся от нас, уходящие во все стороны перспективы.
И эта виртуальная лестница, на которой мы будто бы стоим, как бы посредине, существует только в наших головах, и сама середина, словно центр мира определяется только нашим ноуменом. И стоя на этой лестнице, смотря вниз и вверх, видя уходящие в зенит ступени, смотря влево и вправо и видя уходящие за горизонт перспективы, мы вдруг осознаём, что на этой лестнице нет и быть не может никакой середины, как и никакого истинного деления, как только относительного, в пределах нашего собственного созерцания и воззрения. Что только наше условное положение на её ступенях, определяет, что грубо, а что тонко, что живо, а что не очень. Ведь если бы эта лестница существовала на самом деле, то, как вниз уходила бы в бесконечность, так и вверх не имела бы конца. И всякие перспективы не имели бы своего завершения. Ибо если представить себе на минуту существование самой по себе такой градационной лестницы, и гипотетическую возможность проследовать по ней, то, как в «грубое», этот путь был бы бесконечен, так и в «тонкое» – не имел бы конца.
Но в том то и дело, что такой лестницы самой по себе – не существует. Она существует лишь в наших головах, и выстраивается исходя их наших собственных состояний, и соответствующих этим состояниям критериев и оценок. И та определяемая нами «живость», и «не живость» объектов познания, субстанций и организаций существует лишь по отношению как к нам, к нашей собственной вегетативной организации, так и всех объектов, субстанций и организаций друг к другу, в наших относительных оценках. Ибо всё, и вся есть лишь суть наше созерцание и воззрение. Лишь оно – всё определяет и классифицирует. Превращая открытый пред ним инертный и глубоко нейтральный мир с его уходящими за горизонт перспективами, в «грубое» и «тонкое», – в два противоположных полюса действительности. Полюса, уходящего своими перспективами за границы этой действительности.
Храм стужи и огня
Что для реалиста могло бы являться основой того, что мы называем Божественной искрой? Что, с точки зрения «образного физика», может быть зерном, неким началом того движения и того баланса противостояния, которое проявляется в нас как стремление, и которое воплощается в нашем разумении в понятие – воля, и является неким «генератором» для всего мирского. Что, в конце концов, в своей сути есть то, что мы определяем, как основа жизненности?
Я включаю свою фантазию и в моём неутолимом разуме, образы начинают всплывать чередой. Метафизика, вперемешку с метафорой и запредельной физиофилософией рисует картины бытия в символах и образах идеального воззрения. Эти картины заоблачны, но так ясны моему умозрению. Солнечная энергия, сталкиваясь в нас с энергией воды, образует некий синтез разно-полярных энергий. Где противостояние обеих стихий, как будто уравновешено и синтетически целокупно. Что создаёт некое стабильное внутреннее напряжение, которое и вызывает в нас ощущение относительно стабильного течения внешней жизни, его времени. Именно в соразмерности нашего внутреннего течения, с течениями внешними, возникает то сакральное чувство стабильного времени. Существование же самой продолжительности, на самом деле почти не имеет к этому отношения. Ведь продолжительность во времени есть лишь способность нашего разума создавать отрезки, сопоставлять и выкладывать из них последовательности. То есть строить из этих отрезков нечто объективное. Точно так же, как и в пространственном, свойством нашего разума является создание окаймлённых границами отчерченных объектов. Сочетание их, выкладывание в последовательности и выстраивание в сложные формы. То есть, есть лишь свойство нашего разума, как во временном поле, так и в пространственном, выстраивать из предоставляемого материала линейные и объёмные конструкции, на полях собственной памяти и собственного воображения.
И так. Попросту говоря, наша сущность есть столкновение огня и воды, (как неких сакральных олицетворений солнца и земли). Вот что продуцирует и формирует всё то, что мы относим к так называемому «живому». Вот где зарождается наше ощущение собственной воли. Вот, что является основоположением и предикатом всякого движения и всякого стремления в нашей действительности, вообще, и основой сбалансированной упорядоченной на определённый лад динамики в сложных системах «живого», в частности. Жизнь в своей сути является как метафизическим явлением, так и чисто физическим. ОГОНЬ И ВОДА – вот наши родители. Они, эти сакральные невозможные для нашего окончательного осмысления и понимания субстанции, в своём противостоянии породили всё, что мы называем «живым». Их сбалансированное взаимодействие, их синтетическая коллапсирующая целокупность, – есть фундамент всего «живого» на земле. Столкновение огня и воды, превращение их в модифицированные материализованные субстанциональности, образующие в своём синтезе конгломераты действительного упорядоченного на определённый лад, мира. Конгломераты, в которых происходит постоянная безостановочная реакция. И как следствие, возникает стремление и торможение, провоцирующие на своих фронтах эмиссию определённого электромагнитного поля с определённой частотой, плотностью и упорядоченностью, как некоей производной от этих столкновений, с необходимой экспансией вовне. Последующее усиление этого поля в первую очередь за счёт усиления слаженности и гармоничности собственного физического относительно грубого тела, и последующее воздействие этого поля, в силу его сверх мобильности и агрессивности на свою основу – грубую субстанциональность этого тела. Формирование структурных физических субстанций, обеспечивающих стабильные внутренние реакции и течения. Так, с моей точки зрения, в моём глубоко метафорическом воображении, возникают и строятся «живые системы». Системы относительно грубой субстанциональности, в которых со временем образуется упорядоченное на определённый лад электромагнитное поле, и происходит утончённая и упорядоченная трансляция вовне электрических полей, цепей и импульсов, называемых нами мыслями. Ведь электрические цепи, это и есть то, что является физической основой для трансцендентального тела мысли.
Огонь, (метафора солнца). Вода, (метафора земли). Электромагнитное поле, (метафора Вселенной). Вот «три кита» от физики мира, на которых основывается то, что мы называем ощущаемой жизнью. Вот то, что является основой всего «живого». Вот то, что в определённом сбалансированном состоянии, даёт нам ощущение собственного существования, ощущение продолжительности этого существования, а значит ощущения самой жизни. Не существуй вселенского электромагнетизма, – не существовало бы формы. Не существуй огня, – и всё застыло бы в вечном анабиозе. Не существуй воды, – никогда не возник бы тот баланс энергий, который мы называем жизнью. И на самом деле неважно углерод или кремний служит здесь фундаментом, важно, что является основанием самого движения.
Форму и упорядочивание всех процессов, нам обеспечивает сбалансированный синтез этих стихий. Как огня, так и воды, и в равной с ними степени, то невидимое и не осязаемое почти метафизическое электромагнитное поле, которое образуется в результате столкновения глубинных стихий существенного. Это поле, являясь самой утончённой и агрессивной формой материи, контролирует всякий синтез, выстраивая на полях феноменального, всевозможные формы бытия. Хотя не в меньшей степени огонь и вода, в своей сакральной сути являются такими же почти метафизическими стихиями, как и электромагнитное поле.
«Храм стужи и огня» – так я называю жизнь. В каждом из нас, по сути, живёт огонь и стужа, – синтезированные и воплощённые в нечто созерцаемое, в нечто мыслимое. Огонь и стужа – определяющие все факторы разгона и торможения, в сбалансированных системах пребывания. И благодаря столкновению холода и тепла, благодаря их единению в некий «синтез противостояний» без всякой возможности слиться в нечто единое, образуется всё, так называемое «живое», как, собственно, и всё объективное.
Самый простой и наглядный пример этого сакрального явления в феноменальном мире природы, это тот синтез тепла и холода образующий из, казалось бы, ничего, – некий «живой организм», со своим телом и своей непонятной нам волей. Я имею в виду Циклон, тайфун, ураган или Смерч. Где столкновение стихий тепла и холода образуют некий «организм», который живёт своим присущим только ему, образом. Он олицетворяет собой всю архитектонику динамических процессов, свойственным всяким «живым структурам», и всяким так называемым системам, – разнообразным конгломеративным субстанциям.
Материя
Камень, вода, огонь, свет, электромагнитное поле, – в сущности своей, одна и та же материя, только в разных формах пребывания, с различными модификационными характерами. Это знает теперь всякий. Разделение общей природы на материю, и силы природы, которые якобы заставляют двигаться эту материю, в умах старых философов исходило из относительно недостаточной осведомлённости в отношении самой материальной субстанциональности, её эквивалентной амбивалентной основательности. Осведомлённости, которую имеет теперешняя наука. Здесь, как и всюду срабатывал тот же механизм нашего дуалистического осмысления внешнего мира, который всегда являлся причиной деления мира на всевозможные парадигмы, и в частности на «живое» и «неживое». То есть на самом деле, по моему глубокому убеждению, вся материальность изначально была грубой. Но «утончаясь», (образно говоря), усложняясь и дифференцируясь, она становиться более мобильной, более агрессивной, и начинает необходимо оказывать воздействие на более инертную, более стабильную материю, на свою основу, что вызывает чувство доминирования, и генеративного воздействия. И вот уже есть «погонщик», и есть «верблюды». Но появились бы эти «погонщики» и «верблюды», не будь утончения материи, и как следствия появления агрессивной доминанты, в которой сила стала определяться не грубой инертностью, но прежде всего упорядоченной динамичностью, слаженной гармонией, – то, что мы с лёгкой руки называем волей, совершенно не вдумываясь и не понимая сути этого явления.
Так и в контексте «живого» и «неживого». Так называемое «неживое», – утончаясь и форматируясь, паритетно согласовываясь в себе, тем самым становясь упорядоченной на определённый лад системой, то есть, приобретая преимущества пред хаосом внешнего мира, превращалась в нечто доминирующее, нечто повелевающее, нечто устанавливающее свою власть. И при определённой упорядоченности агрегата собственной субстанциональности, продуцирующей субъективно-объективную парадигму воли, тем самым образует собственный алгоритм совершенствования, абстрагируется и определяет себя живым.
«Живое» и «неживое», – это две плоскости нашего воззрения, две плоскости амбивалентного восприятия одного и того же природного явления, с одним и тем же модальным проблематическим механизмом, в котором антиномия «живого» выступает лишь как осознаваемая функциональная упорядоченная организованность, против относительного хаоса и инертности «неживого». Точно также как силы природы и материя, имеющие в нашем представление различные основания, на самом деле есть одно и тоже. Но в силу доминанты более «агрессивной субстанциональности» одной и той же материи, одна из них идентифицируется и воплощается в некий авангард, и определяет себя как генератор и причина всех движений второй.
Кто более агрессивен, – тот «погонщик». Кто более инертен, тот «стадо». Кто наиболее упорядочен и организован тот доминанта, кто менее организован и упорядочен тот – угнетаемый. Кто мыслит, – тот обозначает и определяет всё вокруг. Ибо мысль есть самое тонкое, упорядоченное и самое агрессивное состояние материи. И как в первом воззрении то, что одно состояние материи оказывает воздействие на другое, на самом деле вопрос лишь тонкости и грубости, а значит, вопрос лишь активности и пассивности, так во втором, – способность оценивать внешний мир и определять, вопрос лишь собственной относительной упорядоченности и соответствующей агрессивности сложившегося ноумена, и его доминанты, и вытекающей из этого – воли к власти, с её обязательными атрибутами оценки.
Энергия (материя) находясь в более «тонком», а главное упорядоченном в своей динамике состоянии, а значит, более активном бытии, естественным образом сталкиваясь с более «грубой» формой, относительно менее упорядоченно-организованной, оказывает воздействие на её пассивность, и стремится только к одному = упорядочить и организовать её на свой собственный лад. Всякая сила в первую очередь, есть вопрос организованной упорядоченности, вопрос гармоничной слаженности и хаоса, и уже потом массивности и агрессивности.
И отношения эти, составляют основу всего сущего, всех взаимоотношений в мире, всех коллизий и перипетий, всех мелких и крупных глобальных взаимоотношений. Столкновение и отторжение, слияние и поглощение, взрыв, синтез, и т.д. – всё определяется пассивностью и активностью одной и той же энергии (материи), форм её сцепления, и характера высвобождения в уже сформированном агрегате или органоиде. И наша «сакральная живость», на самом деле есть лишь тот же алгоритм взаимоотношение пассивности и активности, взаимоотношение внутренних скоростей, и их целокупного отношения к формам внешних движений. А главное, вопрос оценки общей упорядоченности как в отношении друг друга наблюдаемых объектов, так и этих объектов по отношению к себе.
Конечно же в обобщённом доминировании, в противостоянии различных субстанций, активность и пассивность это некое «временн`ое составляющее» их жизнедеятельности. И, конечно же, в этом процессе играет не маловажную роль «пространственная составляющая», воплощением которой служит массивность противостоящих друг другу стихий. Особенно локально, – непосредственно в отдельных системах. Массивность, – как противовес агрессивности. А в сути своей метафора противостояния сил времени, и сил пространства, в глобальном «Макрокинезе существенного».
Сноска: «Макрокинез» – Всеобщий синтезированный процесс динамик и трансформаций, воплощённый в единую целокупную систему мира, со всеми известными нам феноменально-эмпирическими, и неизвестными, но лишь потенциально-подозреваемыми, латентно-скрытыми формами преобразований, трансформаций, и движений бытия =.
Сочетание же массивности и агрессивности в одном объекте, позволяет ему доминировать как во времени, так и в пространстве, то есть доминировать – вообще. Самый наглядный пример это Солнце по отношению к своим планетам, и ко всему, что входит в его систему. Но всё же в нашем мире главной доминантой служит порядок. Упорядоченная на определённый лад система, способна противостоять любому натиску хаоса, она – есть доминанта действительного мира.
Тайна материи – в её непостижимой субстанциональности, порождающей как формы инертного камня, так и формы мысли. Материи, не имеющей в себе определённости, и никакой возможности остановится, пока существует нарушение, – сбой абсолютной гармонии бытия! Материи, постоянно строящей и разрушающей «замки действительности», моделирующей и растворяющей все формы, и в тоже время совершенно недвижимой в своей сакральной субстанциональности. Материи, не имеющей ни начала, ни конца, как в прогрессе, так и в регрессе осмысления своего бытия. Не имеющей основательной в себе существенности, и в тоже время являющаяся основанием для всего и вся, несущей в себе абсолютную монаду мироздания. Материи, не имеющей для себя глобальной цели, но постоянно стремящейся, как к собственному коллапсу, так и к собственному кризису, – к полюсам собственной действительности, как единственно возможным целям, после достижения которых, наступает пустота, либо начинается всё заново.
Мне иногда кажется, что мы очень близко подобрались к пониманию сущности мира. Казалось бы, протяни руку и схватишь суть, – ядро, что скрывает в себе тайну мироздания! Но как бы мы не подбирались близко к этой тайне, она всегда будет недосягаемой. Нам суждено вечно бежать за ней, словно за миражом. Мы всегда будем воплощениями «Буриданова осла», вечно бегущего за своей морковкой. Истина всегда будет в локте от нас. И в то же время всегда будет оставаться чем-то вроде «философского камня», – лишь гипотетической возможностью.
То, из чего состоит всё и вся, при всей своей обыденности, является самой неразрешимой тайной для нас. Материя, – эта повсеместная физическая субстанция нашей реальности, и в то же время метафизическая сущность всего и вся, не доступная нашему осмыслению. Она, не имеющая формы, протяжённости в пространстве, и своего времени, и, в то же время, не существующая вне пространственно-временного континуума. Материя, приобретающая бесконечно возможные формы, и разрушающая их, вечно и необходимо. Почему же она не имеет в нашем представлении своей ясной сути? Может быть потому, что при всей своей неоспоримой реальности, при всей своей существенности, на самом деле, в ней нет ничего незыблемого, – ничего, что можно было бы определить, как конечная определённость. Как нечто сущее в себе, как изначальность, как абсолютная достоверность, за которой уже не может быть ничего, – дно окончательное и нерушимое. Нечто, что уже не может быть разложимо на составляющие, что не может быть подвергнуто вивисекции. Ведь на самом деле, найти её последнюю существенность, это всё равно, что найти конечную точку деления пространства, или, конечную точку деления времени. Материя – есть синтез пространства и времени, синтез не существующих самих в себе стихий. Она – есть воплощённый парадокс, где быть не может последней точки, последней основательной очевидности. Ибо её ткань соткана из материалов, не имеющих своих оснований, своих собственных тел в природе. Ведь само в себе пространство, как и само в себе время, существуют лишь в ноуменах, лишь как отражение, как относительность, и никак иначе. И если материя соткана из этих, по сути – дефиниций, то, как она могла бы иметь свою достоверную окончательную законченную существенность? Как, значит, феномен ничем не отличается от ноумена??? Далее я буду часто касаться этого вопроса, и постараюсь раскрыть, насколько возможно, мою концепцию относительно этого неразрешимого вопроса.
Догматизм реальности
Итак, сначала. В отношении «живого», мыслители разных направлений и эпох писали много. Но скажите, положа руку на сердце, кто-нибудь по-настоящему вдумывался, в чём собственно принципиальное сущностное отличие «живой ткани» от «неживой»? Да… Я уже слышу возмущённые крики биологов, физиков, химиков, и всякого рода естествоиспытателей, дескать, отличия – очевидны, и уже давным-давно не подвергаются никем разумным, сомнению. Но всё же, я хотел бы знать сущностное отличие, а не формальное. Ведь то, что вы называете сущностными отличиями, на самом деле есть отличия, определяемые односторонним воззрением заинтересованного взгляда наблюдателя, антропоморфно стремящегося к определённости, в ущерб истинности. И даже для него, если он окунается в микромир, все эти очевидные различия размываются и исчезают. А явными и неоспоримыми эти отличия остаются, лишь в воспринимаемом нами объёме, только в перспективном зените патологического круга нашего восприятия, лишь в строгой архистатической умозренческой перспективе нашего созерцания и осмысления. То есть эти отличия, как нечто неоспоримое, выявляются лишь в выстраиваемой нами целокупной картине действительности, в создаваемом нашим рассудком объективированном мире синтезированной реальности, где все формы и движения, все основоположения и конструктивные особенности имеют свою достоверность лишь в полях устоявшихся и закрепившихся систем нашего архаического ноумена. Отражаемые в нём совокупности внешних явлений, определяемые и классифицируемые в строгом соответствии с собственными конститутивными возможностями, и возводимые в систему критериев, принципов и оценок, умозаключения. Этими «системными полями», объединёнными в едином разуме зеркал познания и осмысления, определяется вся наша внешняя действительность. Где отношение к объектам познания, какому плану они бы не принадлежали, никогда не было и никогда не будет «свято-объективным».
Как могло бы оценить наше отношение к этой проблеме само «неживое», имей оно мышление, имей оно доминанту осмысления, имей оно возможность посмотреть на нас, и на всё «живое», со своей стороны? Мы смотрим со своей возвышенности, и только в этом нашем взгляде и соответствующей оценке, состоит вся суть нашего отношения к «неживому», отношения нашего взора к «Картезианскому колодцу». Но является ли эта возвышенность действительно возвышенностью, – большой вопрос. Мы смотрим в этот колодец и не подозреваем, что может быть, он так же смотрит в нас.
Живые клетки состоят из химических элементов, и в них происходят те же химические реакции, что и во всём окружающем мире. Все отличия лишь в сбалансированной форме, в отличительном порядке, в определённой упорядоченности и алгоритмической слаженности этих процессов. Но упорядоченность как таковая, – всегда относительна. И если говорить непредвзято, эти форма и порядок, зачастую разительнее отличаются в разных субстанциях, отнесённых нами всецело к «неживой материи», чем между субстанциями «живой» и «неживой» модальности. То есть в обозначенной нами «неживой» материи, между различными её формами, подчас отличия гораздо разительнее, как в динамике, так и вообще в формативной основохарактерности, чем отличия тех же форм, в сравнении между субстанциями «неживой» и «живой материальности». И фактически, наше отношение ко всему этому, как и отношение ко всякому явлению в мире отдаёт двойными стандартами. Мы глубоко предвзяты в своих умозаключениях. Когда это выгодно для общей концепции парадигмы «живого» и «неживого», мы выдвигаем одни явления на первый план, а другие задвигаем подальше. Либо просто не желаем замечать, как явных противоречий в одном, так и неоспоримых сходств в другом.
На самом деле так называемая «живая ткань» не просто неразрывно связанна с «неживой», – они есть – суть одно. И найти ту черту, которая отделяла бы «живую ткань», от «неживой материи» практически – невозможно. В любой ткани мира всегда отыщется нечто из обоих лагерей. Нечто присущее «живому» в самой «неживой материи». Как и нечто присущее «неживому» в самой «живой».
И вот здесь со всей фатальностью встаёт крамольная мысль, некое глобальное подозрение. А что если «неживой материи» вообще – не существует? Что если мы разделили мир на «живой» и «неживой», исходя из наших заинтересованных представлений о «живом» и «неживом», и вообще о жизни и её отсутствии. Ведь мы смотрим на всё с точки зрения нашего метаболизма, нашей формы, индивидуальной модальности нашего сложного тела, и его упорядочения, – с точки зрения нашей своеобразной системности. Кстати сказать, – сомнительной в своей безупречности. Наше внутреннее «Я» толкает нас на этот догматизм реальности. Мы судим обо всём только с точки зрения наших чувств и нашего миросозерцания. (А как мы могли бы судить иначе?) Но на самом деле, если бы мир ограничивался тем, что способны уловить наши чувства, если бы он ограничивался тем, что мы способны видеть, слышать, идентифицировать и оценивать, если бы он ограничивался только нашей формой осмысления то, по-моему, он был бы достаточно скуден. Всё это, конечно, только в трансцендентном смысле. Ибо в чисто эмпирическом смысле, в смысле узко феноменальном, это так и есть. – Мир ограничен только нашим воззрением, и не имеет в себе ничего, что выходило бы за эти рамки.
«Живое» и «неживое», как некие воззренческие дефиденты, выставляемые друг против друга, в детерминантном смысле, являются такими же противопоставлениями, порождёнными нашим разумом, как, например, верх и низ в пространстве, или прошлое и будущее во времени. Эти парадигмы, так же не существуют в природе, они порождения нашего представления, нашего паралогического проблемного в своей сокровенной сути, парадоксального мышления. Качественные апперцепции и следующие за ними дефиниции, порождаемые пространственно-временным континуумом, неким синтезом времени и пространства, дают нам качественные его определения и оценки. И вся наша уверенность в противоположении живого и неживого в своём Абсолюте, есть лишь синтетическое представление нашего разума о мире, – отражение в его расколотом надвое, разумении. «Живое» и «неживое», как некие отдельные самосущностные качественные субстанциональности, сами по себе, конечно же – не существуют. Так же, как не существует самих по себе верха и низа, как не существует самого по себе прошлого и будущего в самом сакральном смысле трансцендентальных осмыслений. Их идеальная достоверность существует лишь в отражение развёрнутых по разным сторонам мира, зеркал «бинокулярного воззрения нашего трансцендентного разума».
Как только в нашем, существующем здесь и сейчас разуме, (существующем здесь и сейчас только для себя), начинается работа синтеза, происходит необходимое деление мира по всем возможным плоскостям и во всех возможных перспективах. Отражение в разуме, делящим мир своим ноуменом на две стороны, порождает двумерность бытия, дуализм его осмысления. При котором необходимо возникает парадокс, как некий основополагающий принцип, определяющий и привносящий во все возможные перспективы нашей действительности, свою метасферу.
Наш ноумен, прокатываясь в виде «взрывающейся и коллапсирующей чёрной дыры», по ухабам безвременного и безпространственного мира, создаёт тем самым, время и его течение. И с помощью памяти, в её разнолинейных аспектах делит его на части, выделяя в нём прошлое и будущее. Создаёт отчерченности и законченности, выстраивая в нём все что, так или иначе, относится к пространственному. Делит его на наполненное и ненаполненное, верх и низ, далёкое и близкое, хаотичное и упорядоченное, на жидкое и твёрдое, грубое и тонкое, инертное и агрессивное, и т. д. И, в конце концов, на «живое» и «неживое», исходя из собственной внутренней формодинамики. Впрочем, как и на все остальные внутренние и внешние противоречия, как феноменального и эмпирического, так и трансцендентального и метафизического опыта. И затем целокупируя всё это в себе, выстраивает собственную «фантасмогорию», нечто целокупно-феноменальное – мир действительности.
Наш необузданный разум по большому счёту занят только тем, что без конца строит условные границы, и затем охраняет их, как жизненно важные объекты. Как бы эти границы не утончались, они не могут быть разрушимы, пока существует ноумен. Между двумя полюсами, расстояние может уменьшаться до бесконечности, но эти полюса не могут слиться в единую целокупность. Ибо, в таком случае, пропадает сама действительность. Во временном поле, – бесконечно приближая прошлое и будущее друг к другу, всегда остаётся некая точка противостояния, некий «горизонт событий». В пространственном поле, – бесконечно приближая грубое и тонкое друг к другу, всегда остаётся линия разделения. И миг временного, и точка пространственного, как бы они не уменьшались, не могут «схлопнуться», пока существует «ноумен». И потому, пока существует эта «чёрная дыра» – наш ноумен, существует и прошлое, и будущее, как и все возможные разноплановые противоречия пространственного бытия.
Миг, как некий отрезок времени, только в нашем представлении находит свои параметры. Да и то только металогически, только как гипотетически существующая локальность, по отношению к такой же гипотетической безмерности. Сам же по себе, миг вполне соизмерим с вечностью! Как бы это не прозвучало абсурдно. Ибо он есть олицетворение этой вечности, так как, так же как вечность, не имеет своей собственной продолжительности, своего собственного параметра.
Прошлое и будущее, верх и низ, твёрдое и жидкое, грубое и тонкое, инертное и агрессивное, и т. д. после «схлопывания» нашего ноумена, после «коллапса» нашего сознания, необходимо сливается в нечто едино целокупное. Где уже не может быть ни прошлого, ни будущего, ни верха, ни низа, ни грубого, ни тонкого, и т. д. Как только перестаёт существовать «чёрная дыра ноумена», пропадает и деление, – всякое деление. Ведь с этим, исчезает не только течение времени, не только пространственные критерии, но и само время и пространство. Всё и вся сливается с вечностью, – с её всепоглощающей пустотой.
Наш разум не в состоянии постичь ни бесконечности в расстояниях, ни бесконечности в размерах. Ибо для этого ему пришлось бы постичь самого себя. Такие метаморфозы нашего осмысливания, как: «Мир не может быть конечным в силу того, что за любым концом, должно необходимо следовать что-то…». Или: «Мир должен быть целостен, но целостность подразумевает конечность, а конечный мир, – это нонсенс…». И т. п. Всё это фокусы нашего сознания, продукты его «чёрной дыры». Существуют метаморфозы, способные привести к помешательству даже самые крепкие и закалённые умы. Я пока не стану углубляться в эту бездну, ибо для подобных осмыслений необходима подготовка.
И так. Для нашего разума, существующего в рамках реальной действительности, невероятно появление из определённой материи, чего-то совершенно чужеродного. Говоря упрощённо, ни при каких условиях камень не смог бы породить рыбу, если только у них не было бы чего-то глубоко общего. Не важно, какая длинная цепочка превращений между ними бы не пролегала, не неси они в себе чего-то аналогичного, это было бы, – невозможно. Это значит, что сама Жизнь, гнездится далеко за пределами живой клетки, в камне, в той бесконечной глубине на пути регресса нашей осознанности, стремящейся в микромир материального. Впрочем, как и в противоположную сторону, – в макромир. Ибо, как я отмечал выше, эти стороны мироздания так же есть суть отражение в развёрнутых зеркалах нашего разума, и являются в сущности одним и тем же. Мы определяем их нашим углом зрения, глубиной глазного яблока, в силу и в соответствии собственному объёму, и тем перспективам, обусловленным соответствующим нахождением нас на бесконечной лестнице мироздания.
Далее. Существование живой клетки обусловлено тем, что её суть, её генетическая основа, гнездится в так называемых «неживых материалах» вселенной. Жизнь, как нечто метафизически-метафорическое, существовала всегда, и будет существовать всегда. Даже в той пыли, из которой образовалась наша планета. Жизнь – вечна не потому, что в бескрайнем и бесконечном космосе существуют, вечно сменяя друг друга твари, но потому, что жизнь, как метафизическая монада бытия – неистребима, ибо в сути своей не является чем-то сущностным. Жизнь, как мы её осмысливаем и понимаем, есть метафора, – лишь дефиниция нашего разума. Она есть лишь отношение и оценка, внушающая сама себе удивление и восторг, от осознанности собственной внутренней природы существа, восторг и удивление собственной сегрегацией, собственной упорядоченности и организованности. Жизнь есть точно такая же метафора, как и всё вокруг нас, – все, что включает в себя наша действительность.
Появившаяся и развившаяся на той же почве что и вся наша действительность, жизнь имеет свои определённые границы, свои наделы и свои правила и законы. Благодаря тем же апперцепциям и дефинициям нашего разумения, из «коллапсирующей пустоты» «чёрной дыры нашего ноумена», Жизнь выползла, словно кобра из шляпы факира, и, подняв голову, стала покачиваться в такт звучащей музыке нашего архаического мироздания. Наша уверенность в существовании жизни, как чего-то действительно феноменального, в её непоколебимой существенности – остаётся лишь уверенностью.
В своих умозаключениях, как заметит внимательный читатель, я всё время откатываюсь назад, создавая тем самым некую волну. Это происходит неосознанно. Видимо и здесь сказывается та волнообразная структурность всего сущностного, распространяющего свою характерность на всё что, так или иначе, принадлежит этому миру. И мои размышления в своей динамической характерности, не являются исключением.
Но по порядку. Заглядывая в мир, разделяя и объединяя, отчерчивая границы, мы готовы принимать в свой «клан живого», только «близких родственников», только то, что близко нам по механизмам, формам и скоростям, что подходит нам по общему метаболизму. Но, проникая всё глубже в познание окружающего нас мира, мы потихоньку не заметно для самих себя, отодвигаем эти границы нашего архаического определения. Мы всё чаще высаживаем за забором цветы, поливая и ухаживая за ними. Мы меняем своё воззрение, мы расширяем собственные наделы. Еще в начале прошлого века мысль о том, что наша планета живой организм вызвала бы, по крайней мере, смех. А то, что могут существовать живые существа в нано-объёмах, вообще привело бы к сарказму. И, тем не менее, теперь, это уже является практически неоспоримой истиной. У меня нет никаких сомнений, что наша фундаментальная наука будет и впредь отодвигать эти границы. И это будет происходить до тех пор, пока существует воззрение, пока существует человек и его разум. Наш разум, «утончаясь» и становясь тем самым проникновеннее и агрессивнее, будет открывать для себя всё новые и новые горизонты не только в эмпирическом воззрении, но и в трансцендентном и метафизическом. Он будет необходимо усложняться, и тем самым усложнять окружающий мир. Наш мир всегда будет расширяться в разные стороны, и само отношение к «живому» и «неживому», будет меняться и необходимо корректироваться. Но всё же полярность мира в целом, – никуда не денется. Наш разум и впредь будет всё, и вся делить и изолировать, смешивать и объединять. Ведь такова его генетическая природа, берущая своё начало в изначальном противостоянии огня и воды, – в коллапсе материнских стихий.
Живые цепи. (Банальные рассуждения)
В своих умозрениях, я всегда стремился к самым глубоким, спрятанным на дне архипелагам. Тёплые воды поверхности, меня никогда не удовлетворяли. Там, где плавает большинство, где много пищи в виде плавающего планктона, где царствуют акулы и где солнце ослепляет и приводит своим светом, к отупению, я никогда не находил своих обетованных берегов. Меня всегда прельщали глубинные пещеры. Так как в глубине своего сердца я всегда подозревал, что именно там живёт Бог, а не как не на небесах.
И вот как-то плавая на этих глубинах, я пришёл к банальному и в то же время важному вопросу; а собственно, чем мы, люди, принципиально отличаемся от других систем и субстанций природы? Чем питается наша чрезмерная, доходящая до апломба гордость? Если даже животных, в глубине своей души, мы не считаем своими братьями. Я уж не говорю о родственной связи с так называемыми неодушевлёнными предметами нашей действительности, включёнными в фауну земной поверхности. Ведь если посмотреть достаточно глубоко, то окажется, что мы реагируем на раздражители так же необходимо и фатально, как и всякий неодушевлённый предмет этого мира. Необходимость и фатальность нашей реакции, такая же безоговорочная, как и у всякого существа неживого мира.
Сложность мотиваций наших поступков, есть отражение сложности нашей внутренней структуризации, и её определённого выстроенного порядка. Динамика же, механизмы наших реакций, так же последовательны и безоговорочно фатальны, как возгорание бумаги при соприкосновении с огнём. Мы, в сущности, реагируем также фатально необходимо и так же последовательно, как и всякая субстанция «неживой природы». Вся разница лишь в сложности этой реакции, и сложности самих механизмов. Как компьютер отличается от «Жаккардового станка», так мы, люди, отличаемся от амёбы. А она в свою очередь, так же отличается от какого-нибудь «неживого предмета» мира.
Если отбросить гордость, и само-возвеличивание и посмотреть глубже на суть вещей в мире, то становится абсолютно ясно, что мы, люди, сами по себе, идентичны не только с животными и растениями, с нашими ближайшими родственниками, но и с, казалось бы, абсолютно чужими, неодушевлёнными субстанциями. Что они, эти субстанции, своими реакциями, слишком явно, а порою, бесспорно, напоминают нам об общей с ними сути.
С метафизической точки зрения, процессы обмена энергиями между «живыми объектами» в своей сакральной сущности нам так же почти неизвестны, как неизвестны процессы обменов между «неживыми». Мы только иногда нащупываем, будто в потёмках, еле уловимые сознанием флюиды скрытых от нас энергетических метаболизмов сверх тонкого мира. Как, к примеру, непонятное для нас явление телепатии или телекинеза. Вообще всякое явление экстрасенсорного характера, для нас лежит за семью печатями, и будет лежать, судя по всему, ещё очень долго. А сколько ещё не открытых, связующих между собой объекты «живого мира», не познанных нами и даже не чувствуемых мостов. Почему же вы не допускаете подобных связей между «неживыми» субстанциями? Ведь какая-то связь, между ними должна существовать. Ведь в противном случае нарушается общая гармония целостного мира, в котором абсолютно всё связано между собой. Где нет ни одной изолированной субстанции. А раз необходимо существует связь, то должен непременно происходить и обмен информацией. То есть, субстанции, как бы мы их не определяли, должны общаться. Я абсолютно уверен, что земля общается с солнцем, луна с землёй, а вся наша галактика, общается с другими галактиками. Не может быть, чтобы земля только впитывала энергию солнца. Взамен она должна обязательно что-то отдавать. Ведь в мире не существует чистого воздействия, существует только взаимодействие, как бы ни доминировал один из объектов над другим.
Ну, а коль уж существует обмен информацией, то существует и жизнь как таковая. Только у этой жизни своя форма, – свой уровень этой жизненности. Всякая субстанция в этом мире, впитывая энергию и трансформируя её, должна непременно её транслировать. Ведь только так может существовать, и сохранятся баланс, определяющий всё материальное в нашей действительности. И только в таком контексте возможно – Существенно-объективированное.
И именно дисбаланс, нарушение внутренней гармонии, уравновешенного баланса между поглощением, трансформацией и отдачей энергии в этих механизмах, определяет распад самого объекта, – его рассеивание. То есть смерть, в антропоморфном смысле. В мире «несцепленных энергий» (относительно), существуют свои законы, и свои формы пребывания, и как бесконечно само познание, так и бесконечны формы образования материальных сцепленных субстанций, в его отражении. Мы только коснулись этой огромной ветви, открыв для себя, – именно для себя мир материального.
Мы наспех квалифицировали явления природы, но даже не пытаемся понять метафизическую сущность этих явлений. Хотя даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы уловить, как сильно напоминают, к примеру, электрические потоки, живую биосубстанцию. Как на подсознательном уровне мышления, при опосредованном столкновении с электричеством, возникает ощущение «живой сущности», такой же агрессивной и доминирующей. Ведь та сверх агрессивность электрического тока, с которой мы сталкиваемся повсеместно, его интеллектуальность, воплощающаяся в возможностях передачи информации, не оставляет в нашем подсознании и малой толики сомнения в его «живости». Движение электронов, я даже сравнивал с движением сперматозоидов, стремящихся к яйцеклетке. – «Чем больше сопротивление, – тем больше напряжение». А «Шаровая молния», с её почти мистическим поведением? У кого ещё остаётся сомнение в том, что это живая субстанция? Я вам скажу больше, любой объект этого мира, совершенно независимо от того, «живой» ли он в нашем понимании, или нет, – мыслит. Но только на своём уровне, в своих параметрах, в своей форме, своей индивидуальной модальности мышления.
Все знают, что работа нашего мозга, наши мысли, имеют электрическую основу. Но также все знают, что многие из так называемых «неживых объектов» имеют электромагнитное поле. И интенсивность этого электромагнитного поля, его формативная субстанциональность, у каждого объекта строго индивидуальна и неповторима, как отпечатки наших пальцев. И зависит от размеров объекта, его плотности, конфигурации и внутренней агрегативности, в самом широком смысле слова. То есть, от общей характерной основы, генерирующей свои неповторимые поля. И наш мозг, отличается только тем, что в своей тонкой материальности, в своей гармонично слаженной организованности, несёт индивидуальную характерную, присущую только ему субстанциональность, с неповторимой формой внутреннего характерного сцепления и упорядоченности всех составляющих. То есть, индивидуальной упорядоченностью внутренних движений, их порядков и скоростей. И транслирует эту неповторимую палитру электрохимических внутренних реакций вовне, в виде неповторимой формы электромагнитного поля, индивидуального волнового характера. Создавая тем самым вовне свой мир, с определёнными правилами и законами движений и трансформаций, соответствующих его внутреннему характеру.
И у нашей мысли, и у электромагнитного поля всякого такого «неживого объекта», одна генетика, одна общая сущность. Вся разница опять же в формах, модальностях воззрений и оценок.
Так почему же вы так уверенны, что наша земля, или любой другой объект вселенной, не мыслит в своих параметрах? Где критерии определения самой мысли? У нас в голове? То есть наша мысль сама определяет, что только её форма транслирования, её форма динамического трансцендентального моделирования и экспансии – существует. Что только в этой форме моделирования и транслирования вообще, возможна мысль. И что только в этой форме возможно мышление вообще, как таковое.
Но давайте посмотрим, откуда, с физической точки зрения материализма, может браться наша мысль. Упрощённо. Её истоки, как мне кажется, находятся в каждой клетке нашего организма, а не только в клетках мозга. Там, где протекают простейшие химические реакции. В результате этих реакций, происходит выделение определённой энергии, с определёнными параметрами. И вся эта энергия, от миллионов, и миллиардов клеток, стекается словно в «конденсатор» в наш мозг. Где в силу его сложного, условно говоря, «тиристорно-транзисторного» схематического устройства, происходит главное. – Формирование из хаотически блуждающей бесформенной энергии, – неких формативных упорядоченных на определённый лад, энергетических полей и токовых цепей. Которые, транслируясь вовне, взаимодействуют с формативными полями и цепями внешних объектов. И благодаря взаимоотношению этих различных по упорядочиванию цепей во внешней реальности, образуют синтезированную действительность бытия, – то есть нашу реальную ощущаемую и осмысливаемую действительность. Да, именно взаимоотношение форм токов нашего ноумена, с формами токов различных объектов феномена, создают нашу действительность. Форматируя беспорядочные электромагнитные поля, и произвольные токи в определённые формы, (то, что мы называем мыслью), наш разум формирует всю реальную действительность. Гармоничность и мощность нашей мысли, а значит и власть над внешним миром, зависит от способности нашего мозга выстраивать из предоставляемого материала, длинные и сложные цепочки с наиболее гармоничной формой своего тела, как и слаженные гармоничные всеобъемлющие поля. И все формы внешних объектов, зависят именно от отношения этих упорядоченных внешних «транс-токов» и полей, к нашим внутренним полям и цепям.
Острый глаз сразу заметит в этом, некую аналогию с «рибонуклеиновыми цепочками хромосомных соединений» первоосновы нашего физического тела, и тела всякого живого существа. Чья «живая существенность», упрощённо говоря, только и основывается на определённой формативности, определённой последовательности и согласованности в пространственно-временном аспекте, «углеродного соединения». Чем сложнее и гармоничнее, а значит мощнее эти цепочки, тем сложнее и гармоничнее организм, тем сложнее и совершеннее живой разумный индивидуум. Точно так же и с мыслью, чем длиннее и гармоничнее её цепь, чем сложнее её «развесистые ветви», тем мощнее её «тело», тем гармоничнее и сложнее само «поле-разумение», выстраиваемое и складываемое из этих «цепочек». И в этом смысле самый совершенный, самый мощный «трансцендентальный живой организм», в смысле физиологии «тела-мысли», это какая-нибудь философема, или какая-нибудь доктрина, вроде религиозной конфессии. В сложенной уравновешенной системе, где все внутренние процессы совершенны в своей гармонии, в своей идеальной музыкальности, всё и вся находит своё место, свою законченность, а значит истинность.
И эти тонкие метафизические процессы, процессы мыслительной работы, абсолютно идентичны по своим механизмам, – простой физике всякого сложного организма. Гармоничная и мощная философема, как и всякая конфессия, или неопровержимая гипотеза, живут жизнью свойственной всякому физическому живому организму. На этом, я подробнее остановлюсь в следующем разделе.
Иерархия. (Непримиримые противоречия)
Мир, и все составляющие его явления, с точки зрения незаинтересованного наблюдателя, (если попытаться посмотреть взглядом такого наблюдателя), не содержали бы в себе никакой глобальной иерархии. Ибо существуй таковая, должна была бы существовать и абсолютная доминанта. А такое положение вещей неминуемо уничтожило бы мир и всякую действительность. Ибо главное условие существующего вообще, – баланс сил.
Линейность нашего мышления, где всё, как «одно за другим», так и «одно выше другого», диктует нам порядок вещей, и порядок собственной осмысленности. Как бы мы не размышляли, наше воззрение всегда будет находиться в рамках парадигмы последовательности и пирамидальности. Как только мы открываем глаза, как только происходит первый удар молоточка в нашем среднем ухе, мир начинает выстраиваться в пирамидально-последовательную конструкцию. Требование формы – рождает эту форму.
Да, как и всякое феноменальное явление мира, всякое воззрение выстраивается в виде пирамиды, от основания к вершине. Но здесь я начну с «вершины», где повышенная облачность не позволяет рассмотреть всё чётко и определённо просто, и затем спущусь к основанию, к очевидному и простому.
С точки зрения биофизики, положение субъекта живой природы, на иерархической лестнице, зависит от его способности к накоплению энергии, и формативному построению гармоничной внутренней структуры, упорядочиванию и сохранению баланса сил. Говоря метафорически, упорядочиванию внутри себя отношения «грубого» с «тонким». А по сути, отношения «совершенного», с «несовершенным» в себе. То есть способности построить внутри себя, ту же иерархическую лестницу. Где в оценках действительности, доминантой должно быть «совершенное». И вот здесь, важнейшим вопрос должно было бы стать определение совершенства, как такового. Но кто мог бы это сделать достоверно? Бог? Может быть. Но только если бы он в действительности имел отношение к этому миру, и, если бы мы имели возможность вербального с ним общения. А так, «совершенное», в нашем случае, должно всегда выступать как «сильное». Эти понятия должны были бы быть синонимами. Но понятия рождаются в рациональном разуме, и потому выполняют интересы его стремлений и желаний. Кто, когда-нибудь, оценит по-настоящему, в какие дебри осмысления уводит нас веками, наш рациональный разум, тот перевернёт своё отношение не только к миру оценок, но и миру вообще.
На самой вершине должно стоять «совершенное». Так полагает справедливость. Но если бы в мире была справедливость, если он нёс в себе хоть каплю идеальной справедливости, он стал бы несправедлив к себе. Так полагает логика. И тем не менее, на самом деле, на верху всегда стоит самое сильное, а значит самое совершенное. То, что берёт на себя смелость и ответственность определять и оценивать всё вокруг. И справедливость, на самом деле, есть необходимый принцип существующего. Другое дело, оценивается справедливость, всегда предвзято и заинтересованно, всегда с точки зрения и интересов оценивающего субъекта. И для большинства стоящих вокруг, является недостаточной справедливостью, а часто и вопиющей несправедливостью. Так справедливость природы, идёт всегда вразрез справедливости отдельной её составляющей. Ибо интересы природы в целом, не могут быть втиснуты в рамки интересов единичного субъекта.
Так кто же ныне, является оценивающим субъектом? Кто, или что в нашем существе, берёт на себя всю полноту ответственности, а значит и власти, как законодательной, так и исполнительной? В случае с человеком, это должно быть непременно «рациональный разум». (Так уж сложилось). И вот что интересно, так как сама иерархия в своей аподиктической юрисдикции, есть плод его, неминуемо предвзятого осмысления, то эта иерархия, – в сути своей, односторонняя, и по большому счёту, надуманная. «Рациональный разум» узурпировал власть, и причислил себе всю полноту истинности всяких оценок. Это с его точки зрения, вершина иерархии «тонкого мира» принадлежит «рациональному». Но с точки зрения «инстинкта», с его утончённой стагнацией и глубинной интуицией, иерархия имеет иное строение, она – формально иная. В этой иерархической лестнице, вершину занимает «идеальное». Но сами отношения, на этой лестнице, оценивает именно «рациональный разум», в силу его доминанты, и мы не можем быть объективны, мы судим обо всём, с точки зрения его оценок, оценок его обзора видимости.
Но часто случается перевес сил, и мы замечаем в себе перемену. Когда главенствование в оценках собственного мировоззрения, переходит на другое поле. Идеальное восходит на трон нашей осознанности, переводя всё рациональное на низшую ступень. (Так рождается искусство). Ведь, в конце концов, наша осознанность в своих доминантах, исходит из того, на чьей стороне по – преимуществу, находится «маятник нашего осмысления» в данный момент. И наша «тонкая иерархия», зависит от того, в каком лагере осознанности в определённое время, находиться наш мечущийся между «рациональным» и «идеальным», разум. Это мы, выстраиваем эту лестницу, и делаем это так, как нам диктует доминанта нашего разумения. Самой же иерархической лестницы, как формы отношения субстанций, в природе – не существует. Ведь сама природа смотрит, на всё это, совершенно иначе.
Вообще, такие понятия как, высшее, и низшее, конечно очень близки нам, привыкшим оперировать категориями иерархических отношений. Разума, смотрящего на вещи в мире, и создающего образ некоей «пирамиды», некоего застывшего в пространстве, всеобъемлющего становления. Где высшее, должно быть непременно главнее и важнее низшего. Где всё вокруг должно быть уподоблено нашей внутренней организации, и петь в унисон нашей внутренней иерархичности, с царём в голове. Но если попытаться абстрагироваться от собственных догм относительно мира, (хотя это не просто, ведь как я уже говорил, как бы мы не пытались уйти от себя, мы всегда приходим опять к самому себе). Попытаться окунуться в некое противоречие, (противоречие не ради противоречия, но ради истины), то в мире разрушаться всякие пирамиды. Попытки взглянуть на мир глазами «стороннего наблюдателя», дают иногда ошеломляющие результаты. В разуме, начинают расти новые «ганглии», и мир разрывает изнутри «сшитое пальто», оголяя свои латентные члены.
Так вот, если всё же попытаться абстрагироваться в своём воззрении от привычного взгляда, то в мире исчезнет всякая иерархия. И останется только «грубая» и «тонкая» материи. А точнее «грубое» и «тонкое» состояние одной и той же материи. Где одно, ничем не хуже и не лучше другого. Где всё равнозначно, и не знает доминанты в своём сокровенном. Где у каждого состояния материи, свои преимущества и свои недостатки.
В метафорическом смысле, всякие отношения в мире, можно отнести либо к камню, либо к воде, либо к огню. Эти три стихии, несут в себе все отношения в нашей действительности. И в своём синтезе, порождают всякую иерархию в существующем. Что, для камня – вода? Но вода камень точит. Что для воды – огонь? Но вода кипит и испаряться. Что для огня, – вода и камень? Но он пасует перед ними. Между этими стихиями, как и за ними, огромное количество градаций, бесчисленное множество форм материи, где-то относительно тоньше, где-то относительно грубее. В этом синтезе, как метафоре существующего, – всё живое и неживое.
Условные отношения между стихиями, образующими всё сущее нашего мира, можно нарисовать в простой картине физического отношения предметов. Так камень – более инертен, более стабилен, а значит, менее уязвим и долговечен в своей форме. Вода же, более подвижна, более нестабильна, и свободна в своих возможных динамических трансформациях. Огонь, – самая агрессивная, из доступных нашему чувству, стихий. Она меняет свои формы с такой скоростью, её движение так произвольны, и в тоже время, осознанны, что это даже вызывает ощущение произвольной мыслящей субстанциональности. (Что вполне закономерно). У каждого из них, свои преимущества, каждый существует в своём мире. Тонкая, агрессивная материя (энергия), впитывается грубой материей, стабильной и основательной. Грубая, под воздействием тонкой и агрессивной, трансформируется в более тонкую. А в «синтезе противоречащих стихий», создаётся нечто метафизическое, некое синтетическое объединение, – «альянс тонкого и агрессивного, с грубым и инертным». – Нечто живое. Производя тем самым, на свет всевозможные системы, – целокупные синтетические упорядоченные конструкции, способные форматироваться в соответствии с окружающей средой в бесконечно возможные формы бытия, и образующие тем самым, всю нашу живую биодействительность.
И как тонкая материя может утончаться до бесконечности, принимая формы, не доступные нашему осмыслению, так и грубая материя, на пути своего огрубения уходит в перспективу, за границы нашей восприимчивости. К примеру, грубость эта, может воплощаться в такую почти мистическую, гипотетическую субстанцию, как «Чёрная дыра». Где «огрубение материи» таково, что внутренняя иерархия, теряет всякий смысл.
Мы, люди, как «материальные синтетические субстанции определённой структурности», не являемся вершиной мира. Мы лишь «относительная субстанция», – субстанция данной тонкости, и данной грубости». Мы – синтез определённого «грубого», и определённого «тонкого», в отношении нашей действительности. В нас имеет своё место, как всё грубое от мира, так и всё тонкое того же мира.
Произвольность нашего мышления, наша метафизическая произвольность, а также гибкость и долговечность, определяется именно «тонкостью» и «грубостью» материи нашей субстанциональности, и их сочетанию в собственных соотношениях. А наше преимущество, перед более грубой формой, только в нашей гибкости и агрессивности, в самом широком смысле слова. Недостаток же, в нашей уязвимости перед натиском из вне, наиболее грубой силы, в те моменты, когда мы волей-неволей попадаем на её поле ответственности.
Я ещё допускаю существование некоей пирамидальности мира от тонкого к грубому, или наоборот. Но никак не иерархичности. Повторяю, выстроенная иерархия, это побочный продукт нашего «линейного осмысления». Мы видим в мире то, что хотим видеть, подгоняя его под себя, под собственную «линейность», «трёх мерность», и соответствующую иерархичность. Мы делаем мир вокруг себя, удобным насколько, насколько он нам это позволяет. Мы выстраиваем в нём последовательность, причастность, и относительность. Мы смотрим на мир сверху вниз, и он предстаёт нашему взору таким, какова перспектива нашего воззрения, в силу нашего местоположения на полях собственной осознанности. Но взгляните на мир с другого угла зрения, и вся его пирамидальность перевернется.
«Вы хотите полной ясности? Тогда ищите «грубое и простое» … Ибо «тонкое и сложное» никогда не бывает достаточно ясным» …
Но вот вам, противоречие. Без пирамидальности и иерархичности, нет и быть не может существующего, как такового. Всё существующее в действительности, как и сама действительность, строго иерархичны и пирамидальны. Эти понятия неотделимы друг от друга, как неодолимы понятия материи и формы. В мире существует иерархия потому, что мир не существует без неё. Они одно целое. И только наш пытливый ум, всё стремиться разделить и обозначить, как и слить и размешать. Он словно дитя, играющее в песочнице.
Откуда же берётся эта иерархичность, так не присущая собственно, миру в себе? И где, на самом деле, находится человек в этой пирамиде? Риторические вопросы. Как я говорил в начале, как только открывается глаз, и происходят первые удары молоточков в среднем ухе, мир начинает выстраиваться в пирамидально-последовательную структуру, которая требует иерархичности, как требует всякая звуковая гамма, – гармонии. Почему мир таков? Потому, что мы таковы в своих внутренностях. Наша внутренняя устроенность, накладывает на весь внешний мир, свою печать. Мир существует в рамках нашей парадигмы осмысления, и в другой, существовать не может. Поэтому говорить; где-то там нет иерархии, всё равно, что говорить; где-то там нет мира.
Противопоставленные миры.
И так. Трансцендентальная причина существования «живого» и «неживого», лежит в самой возможности нашего осмысления. МЫ, своим строго зависимым от собственной природы, разумом, создаём всю последовательность, и всю категоричность алгоритмов, относительно «живого» и «не живого», на основании формы его мышления и созерцания. И всевозможные границы чертим, на основании той же формы. Ведь для нашего рассудка, без очерченных границ, нет ни целого, ни целокупного. А значит, нет ничего объектативного.
При всей кажущейся собственной наполненности, и нашего осмысления этой наполненности понятий «живого» и «не живого», наше определение и осмысление этих столпов-понятий, как существующих непримиримых объективно антиподов, имеют один корень с определениями столпов-понятий «добра» и «зла». Этот корень растёт из нашего биполярного разума. Из тех глубин нашего подсознания, где зарождается материальное, как нечто противостоящее в себе, нечто разноплановое и противопоставленное. Материя нашего разума, ничем не отличается от материи вообще. Материи, которая в сути своей, есть противостояние стихий, условно обозначенных мной, как сил гравитации и антигравитации. Баланс которых, с нарушением в сторону антигравитации, определяет наличие объектарности, то есть самой материальности, как таковой. И наш биполярный разум, для которого общая картина мира, всегда и во всём делилась, и будет делиться на две части, отражаясь в нашем разуме, как в склеенных обратными сторонами зеркалах, черпает такую динамическую конструкцию мира, именно из своей изначальной архаической природы.
И всякая философская доктрина, как «существо метафизической системности», живущее в мире трансцендентального опыта познания, и есть, по сути, это двойственное отражение. Отражение, хотя и у каждого под разными углами, но всё же, всегда в раздвоенности, порождающей и укрепляющий повсеместный дуализм мироздания. И каждая личность, рождаясь и развиваясь, порождает новое «зеркало», свой новый мир, не похожий на иные, в силу разности и непохожести «зеркального искривления». Прямых зеркал – не бывает. И каждый новый мир, есть новая доктрина, сама в себе истинная. Ведь, как не существует общего мира феномена, так и трансцендентального, идеально истинного мира, – не существует. Общий для всех мир, единое существующее независимо от наблюдателя пространство, – что может быть абсурднее? Каждый индивидуум, «рожает» новый, единственно существующий мир. Он – начало и конец всякого мира. Он – не отражает существующее, но порождает его, «продуцирующими ганглиями собственного сознания». Каждая из которых, неповторима и неповторяема.
Может быть, следующее покажется полным абсурдом, но всё же попробуйте представить себе на минутку такого наблюдателя, который не принадлежал бы ни к «живому», ни к «не живому» миру. И который, в силу этого, был бы полностью объективен, в своём взгляде на общий мир. (Если, опять же, представить себе существование такого.) Каким увидел бы он, наш мир?
Во-первых, я уверен, что он никогда не смог бы провести черту, между «живым» и «не живым». Для него вообще не существовало бы такого вопроса. Весь мир, слился бы в единый конгломерат, не имеющий никаких границ внутри себя. Мир, где блуждающие сгустки энергии, в бесконечно различных формах, сталкиваются в безграничном пространстве, образуя тем самым всё новые и новые формы, сохраняя старую, незыблемую сущность. Вся наша действительность в своей метафизике прошлого и будущего, верха и низа, живого и не живого, добра и зла, как воплощённое осмысливание собственной действительности, подобна сталактитам и сталагмитам в пещере. Некие формирующиеся в нашем трансцендентальном сознании «сущности», разделённые потолком и полом, но тянущиеся друг к другу всю жизнь, благодаря гравитации и падающим каплям «воды времени», и, в конце концов, сливающихся в сталогнаты, после смерти.
Если вы посмотрите на мир глазами этого «стороннего наблюдателя», то даже в наших социальных взаимоотношениях, вы найдёте отражение механизмов и принципов, присущих более «не живой» природе. Общие механистические формы движения, связывающие некоей божественной нитью природы, всё и вся в единый и неделимый мир. Где родственно всё, без исключения. Мы ведём себя так, как диктует нам наша общая со всем миром, глубинная субстанциональность. Эта «субстанциональность», уходит своими корнями далеко в древность, и далеко в сущность. Туда, где перестаёт существовать какое-либо деление, где стираются всякие признаки, по которым можно было бы что-либо делить. В ту глубину, где абсолютный баланс сил, создаёт лишь то единственно возможное при абсолютном балансе, – пустоту.
Я чувствую, где-то близко пещеры настоящей глубины, пещеры в которых захватывает дух у всякого путника. Где холод отрезвляет ум, и заставляет дрожать конечности, словно при встрече с громадным, ужасным и прекрасным чудовищем. При встрече с вашим самым потаённым, тонким, и в то же время, мощным разумением. Но не спешите, потихоньку, вам надо привыкнуть. Ведь здесь, на этом пути, таится самая коварная, и самая большая опасность.
Объектарность альянса
Мы, люди, наивно полагаем, что у нас есть свобода, что у нас есть выбор, что мы реагируем так, как нам вздумается. Уже в этих понятиях; реагируем, и свободно, – есть противоречие. Мы думаем, что мы свободны в своих поступках, что наше свободное поведение диктуется только нашим внутренним «я», находящемся глубоко внутри нас, и в сути своей, абсолютно произвольным. И это самая большая, и в тоже время самая великая, самая необходимая для жизни, иллюзия. Она даёт нам ощущение присутствия в нас, той независимой воли, которую мы придаём всему скрытому и изначальному в своей сакральной существенности, всему божественному, обладающему свободной волей и собственным независимым ни от чего, произволом. Она даёт нам иллюзию свободы собственной воли, без которой мы бы не смогли жить.
Надо отметить, что свобода, как нечто абсолютное, как нечто само в себе дифференцированное и самостоятельное – миф. Она не существует потому, что ей, в отличие от «не свободы», не на чем базироваться. Когда мы говорим о свободе, то мы всегда говорим относительно не свободы. Ведь в нашей действительности, освободившись от одного, тут же неминуемо, попадаешь в зависимость от другого, и никак иначе. Я ещё остановлюсь на этом вопросе подробнее, в следующих разделах.
Мы, как любая другая структура мира, только реагируем. И наши реакции так же необходимы, как и любые реакции «не живого мира». Другое дело наши реакции, в силу усложнённости нашей общей структурности, мета устроенности нашего организма, и не возможности упрощения, не осмысливаются нами трансцендентально, как нечто фатально-необходимое. Наше чувство собственного произвола, идёт из незнания, неосмысленности до конца, всех перипетий и хитросплетений, всех последовательно-объективных движений и их совокупностей. В силу того, что чаще всего, мы не в состоянии уловить и осознать до конца, все мотивы наших реакций, и их фатальных необходимостей. И не только в силу самой сложности, но и в силу того, что они в большинстве своём, происходят на недоступных к фиксированию нашим рациональным разумом, уровнях, глубоко внутри, под коркой нашего мозга. Наше осмысливание ограничено технически, если можно так выразиться. Но всё же мы реагируем на мотивы, (которые подчас скрыты от нас так же, как скрыты истинные мотивы возникновения природных катаклизмов), с такой же необходимостью и такой же фатальностью, как реагирует всякая природная структура «не живого мира».
Как реакция бильярдного шара, получившего удар другого шара, – фатально необходима, так и все наши поступки фатально зависят от мотивов. Мы уверенны, что моделируем мотивы сами в своём разуме, что эти мотивы рождаются в нас сами по себе, не зависимо ни от чего, что это наше внутреннее «я» рожает их, по своему независимому произволу. Да, наш разум обладает такой способностью, генерировать мотивы в себе, но не из воздуха, не из эфира проведения. Всякий мотив, рождённый в нашем разуме, имеет свою причину вовне. Каждый сложный мотив, рождающийся в нашем сознании, обязательно провоцируется предшествующим, и в конце цепочки, (если идти обратным путём), самый предшествующий, обязательно будет находить своё место вовне. По-другому и быть не может.
Как и всякое воззрение, каким бы оно не казалось самостоятельным и независимым, как спекулятивно-рационального характера, так и идеального, обязательно имеет своим началом внешний опыт. Все чистые трансцендентальные воззрения, таковы, – только условно. В противном случае, если считать их абсолютно «чистыми», не имеющими никакого начала в опыте, мы рискуем впасть в запредельность действительности, где становится возможным появление «чего-то» – из «ничего». Априори – в чистом виде. Такое, в действительности, – невозможно. Только сама действительность обладает такой возможностью, только она возникает из ничего, из пустоты, – из нарушения абсолютного баланса.
То, что мы чувствуем, как свободный выбор, на самом деле ощущаемый нами результат борьбы, – борьбы мотивов внутри нас. Эти мотивы, как правило, появляются в нашем разуме по нескольку – одновременно. Ибо наш разум так устроен, что имеет несколько основных «ганглий продуцирования», на каждой из которых, словно на ветвях «растёт» ещё несколько поменьше. На которых, в свою очередь, ещё несколько поменьше… Сильных мотивов, может быть сразу два, пять, но побеждает всегда – сильнейший. (По общему закону естественного отбора). И мы, совершенно фатально и необходимо реагируем на победивший мотив. Все остальные же отпадают как ненужный, сделавший своё дело материал. – Рудимент сознания. Именно победа воплощается в нашем сознании в чувство свободного выбора.
Все наши реакции идентичны по своим механизмам тем, что существуют повсюду в так называемом «неживом мире». Различия повторяю, лишь в формах. А такое различие не может определяться как основополагающее и фундаментальное, для классифицирования нами самих себя как чего-то сверх феноменального, чего-то совершенно иного, чего-то божественно-сущностного. Ведь различия этих форм между различными субстанциями «неживого», не менее разительны, чем между «живыми» и «неживыми» субстанциями мира. Я повторяюсь, но делаю это намеренно, чтобы при всей косности моего языка, было как можно яснее то, что я хочу сказать. Мы – не объективны. Мы плаваем в собственных иллюзиях, как в собственных фекалиях и не желаем выплывать на чистую воду.
Осмыслить и показать мир исходя из воззрения что мир весь живой, что в нём нет неживых субстанций, что в нем нет и быть не может, ничего мёртвого. Что его целостность в том и заключается, что вся его глобальная субстанциональность не содержит в себе мёртвого материала. И что деление его на живых и неживых, есть сугубо относительная парадигма нашего воображения, основывающаяся на том неоспоримом принципе, что мы, в сущности своей, отличаемся от относительно инертных так называемых неодушевлённых субстанций. Показать то, что с этой стороны умозрения, мир – целиком живой, в нём нет и быть не может неживых сущностей, и вообще нет ничего такого, что можно было бы отнести к «неживому материалу» с абсолютной достоверностью, = и это ещё полдела. Взгляд же с обратной стороны, насколько это возможно, насколько на то способен рассудок, насколько ему доступны парадоксальные суждения, выявляет такую же неоспоримую антагонистическую концепцию, при которой в мире не останется ничего по-настоящему живого. Это есть противоположная монада сознания, в которой мир выступает как зацикленная фатально-необходимая реакция, где все процессы и движения строго необходимы, где нет ничего произвольного, ничего по-настоящему свободного, а значит и по-настоящему живого.
С точки зрения физики наше тело, наш организм, как я уже отмечал, есть совокупный альянс отдельных единиц, взаимодействующих между собой. Наш организм, есть альянс, консенсус, паритет взаимоотношений упорядоченных электрохимических фабрик (клеток), образующий упорядоченную в определённую зацикленную последовательность, следующую строгим законам взаимоотношений и реакций, систему. И в своём взаимно-действительном соотношении, в паритете и синтетическом противостоянии внутри системы, образующий некую «единицу», – некую целокупность определённого уровня. И эта «единица», находясь в некоем балансе сил, в некоей внутренней слаженной гармонии, сохраняя определённое время относительную внутреннюю стабильность, вступая в сношение с внешней, такой же относительной стабильностью, продуцирует реальную действительность, как нечто взаимоотносительное во времени и пространстве. Паритет противоборствующих сторон, – в целокупности альянса. Что-то вроде «шаровой молнии», где внутреннее напряжение сил – сбалансировано, и какое-то время сохраняется в пространстве в виде идеальной формы шара. Или сказать ещё метафоричнее, словно «плясун на канате», смотрящий вниз и вверх и озирающийся по сторонам.
Нарушение паритета внутренних сил, в силу разбалансировки или нарушение общей стабильности, в силу усталости «плясуна», или непреодолимой силы шторма, либо иных причин, (коих масса), приводит к разрушению связей и как следствие разрушению «альянса» с последующим рассеиванием энергии. Всякая форма рано или поздно теряет свою целокупность и неминуемо рассеивается. В любом организме в своё время, наступает свой кризис и последующий распад. И даже в металле, сплавленном в определённую форму, со временем наступает «усталость».
Каждая «единица» мироздания ещё только формируясь, уже обречена на рассеивание. И не имеет никакого значения Звезда это, или Муравей. Кстати сказать, как Звезда, так и Муравей начинают своё рассеивание задолго до своей полной кончины. Этот процесс не одночастный, не ежесекундный, он не определяется тем, что мы называем смертью звезды или муравья. Ибо смерть, это всего лишь отчерченная нашим разумением граница, и она абсолютно условна. В нашем осмыслении она есть пик горы, но у всякой горы существуют склоны. И эти склоны – есть вечность.
Разрушается, как известно лишь конструкция, – форма в пределах нашего восприятия. Энергия же устремляется в пространство, чтобы через какое-то время вновь слиться в какую-нибудь форму, либо стать частью более мощного конгломерата. Вечное течение энергий. Концентрирование, приобретение форм и рассеивание, ускорение и замедление, – вечное движение материи, обречённой искать без конца своего успокоения, – абсолютного баланса сил. Мы же часть глобального миропорядка и все наши движения не выходят за рамки этого порядка. По всей видимости все наши иллюзии относительно нас же самих, придание себе исключительности, феноменальности, и отмежевания от всего остального мира, – всё это часть того же процесса, необходимо вытекающего из общего порядка вещей и явлений. И относиться к этому нужно по-видимому, как к чему-то естественному, и без излишней серьёзности.
Метафизика Воли
Что есть на самом деле то, что мы чувствуем и определяем, как воля? Мы наделяем особой волей «живые» существа, но в глубине своего сердца чувствуем, что этой же волей наделён весь окружающий нас мир, каждый неодушевлённый предмет этого мира. Эта особая воля, и жизнь как таковая, для нас – неразделимые понятия. Ведь как без воли не существует жизни, так и без жизни не существует воли, и это – абсолютно справедливо. Ведь на самом деле воля вечна и вездесуща, и в действительности – нет ничего кроме жизни. Вне жизни может быть только пустота, – «ничто». То, что не имеет в себе движения, не имеет ни пространства, ни времени, никакого-либо стремления. Поэтому воля и жизнь это одно и то же, обозначенное разными словами. И при всей изолированности этих понятий трудами рационально-аналитического разумения, в глубине нашего подсознания, в глубине нашего сердца, они всё же выступают, и вполне заслуженно, как практические синонимы. Нет ничего кроме жизни, а значит, нет ничего кроме воли в нашей действительности. В действительности, представляющей собой благодаря нашему сознанию бесконечную лестницу бытия, на каждой из ступенек которой находится «самосущный элемент» со своим ощущением собственной жизненности, собственного бытия и неповторимым собственным миром. Миром, который он сам же и создаёт вокруг себя, словно личинка Махаона, создающая свой «кокон». Что же за этим «коконом»? Иные миры? Может быть. Но для нас, для нашего существа, там – Великая пустота.
И повсюду, во всех плоскостях ощущаемого нами мира, в каждой мелочи, – как общая для всего сущего, так и своя неповторимая воля. Ибо волей можно назвать то сакральное сочетание формы и сути, то противостояние этих метафизических монад, на которых зиждется всё и вся в нашей реальной действительности. А по большому счёту в самой сакральной своей глубине, это сочетание можно обозначить как синтез действительности и небытия. Ибо самая сакральная суть всегда за пределами действительности. А форма всегда принадлежность этой действительности, и вне её – не несёт и не содержит никакого значения.
Мы заглядываем, насколько позволяет нам наш «глаз», как в микрокосмос, так и в макрокосмос. И как в трансцендентальных областях нашего воззрения, так и в реально-физических, в ту и в другую сторону, всюду находим «волю». Для нашего воззрения она вездесуща, повсеместна и непреодолима. Она – есть Бог! Никто никогда не видел её, но мы не можем даже на секунду допустить её отсутствие. Для нас её наличие в физических транскрипциях осознанности мироздания так же бесспорно и необсуждаемо, как наличие божественного начала в чисто метафизических транскрипциях нашего мышления.
Как для нашего действительного разума, представление себе наличия «пустоты», (не отсутствие предметов в пространстве, это было бы легко), но наличие без пространственного и безвременного бытия, совершенно невозможная апперцепция, ибо для него «пустоты» как таковой, просто не существует, так и невозможно представление существа воли, как чего-то действительно существующего. Её существо за пределами физики вещества, за пределами создаваемой и идентифицируемой нами действительности. Но что могла бы представлять собой воля и вся наша реальная действительность для самой «пустоты», с её абсолютным балансом сил? (Если представить себе на секунду, такую абсурдную гиперболу отношения). – Бессмысленная суета, бестолковое, по большей части хаотичное движение, где всё стремится к результату, к гармонии, уравновешиванию и успокоению, и, в конце концов, к абсолютному балансу сил, который неминуемо и абсолютно необходимо убьёт всякую действительность. Где всякое стремление к совершенству, по сути – «бег Буриданова осла». Где всё купается в тёплом океане иллюзии, в создаваемой и упорядочиваемой разумением действительности, и наслаждается собственной иллюзорной властью над ней. Где бег к иллюзорной цели, цели благоденствия и надёжности, всегда заканчивается только разочарованием. Где каждый ищет только собственное отражение, и в то же время не имеет никакой возможности посмотреть на себя со стороны.
То, что мы чувствуем и обозначаем как «воля», как нечто двигающее всё и вся, как нечто само, нечто из себя же вытекающее и самодостаточное, на самом деле не является тем, что мы чувствуем и что вкладываем в это понятие. Воля, это очередной фокус нашего воззрения и осмысления, фокус нашего сознания. Это фокус отражения в зеркале бытия, квазисущностной формы. Нечто, что существует только по вторичным, латентным признакам, и не существует как нечто непосредственное.
Что на самом деле порождает кого, = воля – существенность, или существенность – волю? Когда мы стоим перед зеркалом мира, мы не можем достоверно утверждать ни одно из следующих умозаключений. = Мы порождаем это отражение, или отражение порождает нас. Наше чувствование собственного существа не является доказательством для безоговорочного утверждения собственного независимого существования.
Что же с точки зрения трансцендентальной физики является тем генератором, который движет всем? Что за мистическая сила заставляет трансформироваться материю из одного состояния в другое? По моему глубокому убеждению, такой силы – не существует. Она всплывает в нашем сознании в виде отдельной от всей остальной материальной субстанциональности силы, так же как всплывает в нашем сознании само мышление, как отдельная от всего остального тела, функция. На самом деле дело обстоит следующим образом. Материя, в своём непрерывном движении, без какой-либо возможности остановится, рожает волю, (как некое своё тончайшее астральное тело), которое в свою очередь формирует и утверждает саму материальную субстанцию. (Физики называют это электромагнитной индукцией). Возникает отношение «тонкого» (мобильного), и «грубого» (костного), отношение агрессивного и инертного, повелевающего и повелеваемого. Кстати сказать, именно это разноплановое сочетание мироздания, отношение грубого и тонкого, инертного и агрессивного, и, в конце концов, упорядоченного и хаотичного, порождает в нашем разуме и определяет его основную функцию, главную парадигму для существования реальной действительности = субъект-объект.
И значение всё это имеет только для нас, и для самой действительности. Ибо для «пустоты» – воля – бессмысленна! Мы называем волей именно то сочетание формы и сути, для которых нежелание стоять на месте, отсутствие всякого покоя, является основой. А это и есть та сакральная мистическая не доступная для осмысления субстанция, называемая нами материя. С точки же зрения «пустоты», (если представить себе такую точку зрения), с точки зрения абсолютного баланса, никакого движения вообще – не существует. Для «пустоты», для абсолютного баланса сил не существует ни времени, ни пространства. Но для сущего, с точки зрения действительности, воля – это всё. Ведь она – воплощение этой действительности. Она то, что порождает движение, всякое желание и в то же время то, – что удовлетворяется. Она то, что продуцирует всякое стремление, и то, что получает награду. Она есть воплощение жизненности в самых запредельных, самых недосягаемых для осмысленности областях. «Ты – есмь всё» … Так воля говорит сама о себе.
Но вопрос в понимании истоков воли, их генетических берущих начало в так называемой «не живой» природе, корней. Где? Откуда в нас берётся этот повсеместный всеобъемлющий корень, символизирующий собой всю прелесть и всю скорбь бытия. Начнём с того, что с волей, в моём представлении, ассоциируется такое наглядное природное явление как «силы природы». Наше ошибочное понимание сил природы, исходит из противопоставления инертных и агрессивных форм одной и той же энергии. Обман воззрения, как и обман зрения, непременные условия существования, как зрения, так и воззрения. Наша архистатическая уверенность в том, что материя вообще, сама по себе инертна и для своего движения, и для собственных трансформаций нуждается в толчке, в некоем «погонщике» со стороны, имеет целый ряд архаических, ставших нашей кровью и плотью, логических умозаключений. Но дело в том, что эта уверенность, толкает наш разум на все последующие переворачивания истин, и подгонку всего мыслимого в рамки существующего многие века, заблуждения.
Ведь согласитесь, разные вещи, когда кто-то что-то двигает и называется «волей». И когда то, что двигается, и в своём движении не имеет никакой возможности остановиться, порождает наличие воли, как некоего магнитного поля, продуцируемого этим безостановочным движением. Мы определяем волю, как нечто изначальное, нечто первосущное, нечто над всем и вся, толкающее и заставляющее всё и вся двигаться, трансформироваться и выстраиваться в определённые формы. Но дело в том, что материя – самодостаточна, и не нуждается в подталкивании. За материей, над ней, и под ней, – нет ничего, что можно было бы причислить к этому миру, миру действительности. Как будто бы не будь воли, не толкай она всё вокруг, материя впала бы в полное бездействие, в некий глобальный анабиоз, сравнявшись тем самым, с «пустотой».
Мы как всегда переворачиваем всё с ног на голову. Повторяю, материя не может находиться в состоянии покоя, выжидая, когда её подтолкнет воля. Материя, в своей сути, сама и есть эта воля. Воля, которую мы ощущаем, как «генератор» и «контролёр» действительности. Это вовсе не стремление, заставляющее всё и вся двигаться, это отсутствие всякой возможности стоять на месте. Она – есть необходимость сущностного. Метафорически выражаясь, она, – есть выливающаяся из жерла вулкана, лава. Возникающее в двигающихся катушках, электромагнитное поле. Образующийся от столкновения инертных стихий, резонанс. Она, – самая тонкая и агрессивная форма материи. – Тоже самое, что мысль. Но мы уверенны, что она сама – есть то, что заставляет стихии сталкиваться. Её возникновение и проявление, такая же необходимая последовательность, как выделение тепла, в некоторых химических реакциях. Её существенность, – это электромагнитное поле, нечто лишь более тонкое и агрессивное, в той же материи. Мы отделили от материи силы природы, как отделяем от организма его волю, называя эту волю, изначальной великой сутью, и придали ей сверхъестественные свойства, наделяя её каким-то началом всего и вся. Неким «пастухом для материального стада», произволом в себе, – Богом для всего материального. Да, мы и не могли поступить иначе, в силу свойств нашего разума. Мы, как всегда отделяем явление, от самой вещи, точно так же, как отделяем нашу внутреннюю суть, от наших стремлений и нашего поведения, от нашего нрава. Отделяем нашу произвольную волю, от характера нашего организма. Наделяя тем самым, себя ответственностью за собственные поступки, придавая нашим проявлениям некий произвол, который наша воля, должна обуздывать. Мы даже думаем, что мы свободны в своих поступках, и можем поступать так, как нам вздумается, исходя из чистого желания, которое в сути своей, не имеет никаких оснований для собственного бытия.
Чем могло бы быть, чистое желание? Откуда оно могло бы браться? Мы полагаем, что наша «верховная воля», контролирует наши желания и поступки, исходя из собственного произвола. Что собственно, и включает в себя ту субстанциональную существенность противоречивого и спорного явления, которому мы придаём важность, и которое считаем главным, приоритетным положением для жизни, явления воплощающегося в понятие свободы. Но об этом, чуть позже.
Теперь несколько иной угол зрения. Взгляните чуть глубже и несколько в иной плоскости. Откуда, вероятнее всего, берётся наше чувство собственной воли. Может быть из того, что в нас, на самом глубоком уровне нашего существа, постоянно борются между собой, две основные воли мироздания. Одна – воля к сохранению, вторая, – воля к разрушению. Метафорических воплощениях, черпающих свои основы в противостоящих силах, присущих нашей действительности, – силах упорядочивания и силах хаоса. Где только зыбкий баланс сил удерживает мир в рамках действительности. Пока ни одна их фундаментальных стихий природы не ослабеет, мир будет сохранять свой баланс, воплощающийся в действительность бытия.
Наше чувство собственной воли, имеет началом уходящее своими корнями в запредельные макроуровни межмолекулярных связей, в общее для всего и вся, противостояние стихий мироздания. Противостояние «центробежных», и «центростремительных» сил. Противостояние «гравитации» и «антигравитации». Воплощающихся в нашей действительности, в противостояния сил «объединения» и «распада», сил слияния и рассеивания, и, в конце концов, сил жизни и смерти, как сакральных мифических сил, для нашего осмысления.
Сил «гравитации» и «антигравитации», «центростремительных» и «центробежных» сил, как неких стихий, имеющих свои основания вне действительности, и воплощающихся в нашей действительности, в виде противоположных полюсов природы, стремящихся каждая в своё лоно. Металлизирующиеся в каждом предмете действительности, в противостояние двух стремлений, = воли сохранения, и воли разрушения. Столкновение этих сил, чувствуемое нами в себе, в глубинах нашего существа, и некое определённое доминирование в этом противостоянии, порождает наше ощущение собственной воли.
Во что трансформируется в наших понятиях, эта, вытекающая из столкновения грубых (инертных) и тонких (агрессивных) стихий, воля. Мы полагаем, что научились управлять своими желаниями, стремлениями, добродетелями и пороками, мы уверенны, что в нас, в глубине нашей души, сидит некто, способный управлять всем нашим существом, всеми нашими поступками, и называем его, – волей. Но на самом деле, не существует никакого «царя в голове», обладающего абсолютной властью. То, что мы чувствуем, как воля, на самом деле есть лишь совокупность победоносных мотивов, доминирующих на определённом этапе нашего существования. Ибо существуй такой «царь», он должен был бы непременно обладать истинной в последней инстанции, а не только собственным мнением. Он должен был бы обладать абсолютной властью над нашей личностью. А ничего подобного в нас, – нет. Всё зависит от внешнего напора, от интенсивности внешних факторов. Изменись обстоятельства, и, только что кичащаяся своей верховной властью воля, сдаст свои позиции, уступая власть более древнему, и более основательному инстинкту. И на самом деле, в нас доминирует только одна воля, – воля к противоречию. Это она заставляет нас бороться с собой, создавая войну в себе. И для неё, не существует правых и левых мотивов, благородных возвышенных, и низменных целей. Всё что она желает, это войны, войны самой по себе. И на самом деле, первична в нас именно воля к войне, инстинкт войны, а потом уже к ней присоединяется мотив и цель, а не наоборот. Ведь мы уверены, что изначальны мотивы, которые в своём противоречии создают предпосылки для войны. Но на самом деле, изначальна война, и это она находит для себя предпосылки, мотивы и цели. И именно этот первопричинный инстинкт войны, берущий своё начало в сущностных основах всего материально-действительного, где война вообще не имеет, и не может иметь никаких иных целей кроме самого противостояния, определяет всё наше поведение. И воля, стоящая за противоположные лагеря, при всей своей необходимости, не имеет никакой власти над нашей личностью, над нашим существом, как только в локальных точках нашего сознания. И это положение, как я говорил выше, обеспечивает автономное развитие в нас, каждой из противостоящих воль, а значит и нас, как чего-то целокупного.
Вообще, чувствование собственной воли, возможно только тогда, когда одно, сталкивается с другим. Когда возникает противостояние примерно равных по мощи стремлений. Когда что-либо, встречает на своём пути противника, или преграду, которую ему необходимо преодолеть. Только в этом случае мы можем ощущать наличие в себе, воли. Сопротивление – вот основа всякого чувствования воли. Ибо, повторяю. – Воля как действительность, в сути своей, есть – война. Без войны её нет, как нет войны без неё. Война – как основа, обеспечивающая существование всякой воли. – Война, в самом широком смысле слова. Как некое изначальное противостояние сил центробежных, и сил центростремительных, обеспечивающих в своём сражении, существование всего существенного.
Вывод же, напрашивается сам собой. Вся наша действительность, вся наша жизнь, во всех без исключения проявлениях, как и суть всего сущего, его тело и душа, и, в конце концов, его истинная цель, – война. Другой цели, другого смысла у воли, – нет. Какую область ни возьми, в какой уголок не загляни, всюду ты найдёшь войну, и её необходимые проявления. Она являет себя повсюду, она – суть всего! Она в уродстве и в красоте, во лжи и в правде, в хотении и в нехотении, во всём, что ты способен ощущать, видеть и слышать. Прошу прощения за чрезмерную восторженность, но не каждый день встречаешь нечто вездесущее и всё определяющее, нечто основополагающее для всего и вся.
И так. Та воля, которую мы чувствуем в себе, на самом деле, вытекает из всеобъемлющей воли «Сущего». Мы, как часть этого «Сущего», чувствуем в себе, его всеохватывающее дыхание. Его фатальное движение, его все природную невозможность какого-либо абсолютного покоя.
Вы задаётесь вопросом; когда всё это начало двигаться? Что послужило толчком? Я же, абсолютно уверен, что этот вопрос, провоцируется нашим ограниченным сознанием, его специфичностью, особенностями его устройства, его пространственно-временной векторностью последовательного осмысления, его начало-конечной парадигмой, для всякого возможного существования, и всякого воззрения. Наше сознание ограничено своим полем восприятия, с такой же безусловностью, с какой безусловна безграничность пустоты. Мы никогда не осознаем и не поймём до конца, что всё, что мы видим вокруг себя, – никогда не начиналось, и потому никогда не закончиться. Ибо, всё это существует только в нашем разуме, и движется, только в нашем сознании, в нашем воззрении и представлении. И потому имеет своё начало и свой конец, только в нашем разуме. В действительности же, если представить себе на миг существование такого бытия самого в себе, бытия, не зависимого от нашего воззрения, то в нём всё и вся, будет необходимо инертно неподвижно, всё и вся будет стоять на месте, ничего не будет двигаться. А значит, ничего не будет начинаться, и заканчиваться, ни в пространстве, ни во времени. Ибо воли как таковой, здесь, – не будет, так как не будет никакого определения, никаких параметров этой воли. Только оценка способна порождать определённость, без которой всякое движение, есть лишь возможность, абстракция, предположение.
И как сама вечность, никогда не станет доступной для нашего понимания, так и само движение в своей сакральной действительности мига, никогда не осознается нами.
«Лишь вечность – неизменна, лишь миг – течёт и всё меняет, и только наше разумение, движение всякое воспринимает, а по большому счёту, лишь оно его рожает…»
Ведь то, что мы определяем, как вечность, на самом деле, есть «ничто», – отсутствие всякой действительности. То, что мы определяем, как движение существующего, есть – действительность, жизнь мига, то есть – нечто. И противостояние этих стихий, противостояние пустоты и действительности, порождает волю, как нечто стремящееся от одного, к другому, противоположному полюсу, как нечто попутно оценивающее, нечто законодательное, как нечто – повелевающее.
Стремление действительности к абсолютному балансу, есть стремление нарушенной природы, в своё изначальное лоно. Стремление её сакральных флюидов, к устранению нарушения абсолютного баланса природы, баланса, воплощающегося в нашем представлении, в пустоту, и является причиной и основанием существования воли, как таковой.
Метафизика Души
Придавать основательность рационального мышления тому, что в своей сущности, является чистым метафизическим, глубоко идеальным понятием, – бессмысленно. Ибо пытаться придавать черты основательности тому, что находится за гранью всякой основательности, в ином мире бытия, – нелепо! Но если бы я, стремился к основательности…
Сколько сказано о душе, сколько споров, разногласий, суждений, выходящих за всякие мыслимые и немыслимые границы! Каждый, кто когда-либо говорил о душе, был прав. По той простой причине, что опровергать воззрение в этом ключе, каким бы оно не казалось абсурдным, не найдётся достаточных оснований, в силу отсутствия высших авторитетов оценки, и общего для всех, фундамента всякой возможной основательности. Метафизические воззрения, воззрения идеального плана, вообще нет никакого смысла опровергать или подтверждать. Ведь на этих бескрайних просторах, всё что существует, уже имеет в себе достаточно подтверждения, и право на собственное основание. В этих полях, как в сказочной стране за семью морями и семью горами, может случиться всё, что угодно.
Имеет ли право тот, или иной человек, рассуждать о душе? Безусловно! Ведь каждый, кто о ней рассуждает, полагая, что рассуждает о чужих душах, на самом деле, рассуждает только о своей душе. А по поводу права на умозаключения, я абсолютно уверен, что каждый сам определяет своё право. На том простом основании, что всякое право индивидуально, и его даёт и определяет для себя, только сам человек. Усреднение права, право для всех, это право стада. Ибо нет на земле ни одного авторитета, который был бы вправе определять чужие права.
Чем же, на самом деле, является наша душа? Какой бы не была планомерной, дотошной и глубокой вивисекция в этом направлении, она, как правило не давала ничего, либо давала так мало, что это всё равно не имело большого значения для понимания душевного агрегата. Но мы так устроены, что обязательно будем и впредь наступать на одни и те же грабли. Мы любим препарировать, мы не можем без этого. Мы стремимся к этому всегда и везде. Всю свою сознательную жизнь, мы только и занимаемся вивисекцией всего и вся, что попадает нам под руку. Мы вскрываем, и начинаем отделять и соединять. И что бы не возникло на нашем горизонте, что бы мы не выхватили из темноты своим воззрением, мы всегда найдём что препарировать, разделить, и противопоставить. И я, со своим мятежным сознанием, не стану исключением. Но попытаюсь представить этот сверхсложный душевный агрегат, в метафоре физико-метафизического контекста.
Душевные радости и душевные невзгоды, тревоги и душевное умиротворение, её невероятная чувствительность ко всему, что нас окружает. Она, либо подобно воздушному шарику, наполняемому эфиром, поднимается над всем бренным и суетливым, и взмывает за облака, либо подобно тому же шарику, наполняется вязкой жидкостью, и с годами обременяется и тяжелеет от хлама. И человек тащит её за собой, словно собственное раздувшееся брюхо. Душа необходимо стареет вместе с телом, покрываясь морщинами, шрамами и гематомами. Но мы всегда чувствуем, что только она и живёт, что только ей доступны, только для неё достижимы все те переживания и чувства, составляющие саму суть жизни.
Когда вы поймёте и осмыслите, как зависит состояние нашей души, непосредственно от состояния физического здоровья, и в частности от пищеварения, от воздуха и потребляемой воды, когда вы почувствуете и осознаете всю слитность и неразделимость души и тела, = тогда для вас откроется банальная истина. – Вы отделили душу от тела только для того, чтобы она не умирала вместе с бренным телом.
Ваш разум так развился и устроил себя, что он никогда не согласится с тем, что душа умирает, а на самом деле, что он, разум – умирает. Ведь в таком случае, пропадает последний смысл его существования. И он, разум, не в состоянии жить в таком антижизненном убеждении. Ибо его смысл, – это собственное бессмертие. И по большому счёту, это всё, что у него есть. Только эта надежда позволяет ему идти дальше и прогрессировать на этом пути.
Смысл бессмертия души, – это разум сам для себя, и сам в себе. Он словно «царь», обладающий безграничной властью на земле, ни за что не желает оставлять эту власть, терять её, и сливаться со всеми смертными в единый род. Он не хочет ступать со всеми своими чреслами в чертог Валгаллы, где все равны между собой, где нет ни его, никакой иной власти.
Душа – вне тела. Как же такое возможно? Где лежит та причина, на основании которой мы отделили нашу душу от тела? Что за нелепость? – Жестокость, или безумие? Сначала душу отделили от тела, разум – от инстинкта, (то есть голову, от всего остального тела), затем весь мир разделили и противопоставили. Где же предел нашей воинственности? В том то и дело в том, что воинственность наша плоть и кровь. И в каких образах она бы не представлялась, её суть всегда остаётся одной.
Вы отделили душу от тела, и это уже стало само собой разумеющимся фактом. Но вот что интересно. Вы всегда представляете душу, в виде тела, вы не можем её представлять иначе. И это закономерно. Можете ли вы представить себе рождение души – вне тела, без телесного рождения? А может ли наша очарованная фантазия, представить себе существование живого тела – без души? Душа – отделённая и изолированная от тела. – Вечно живущая душа. Эта парадигма имеет свои причины и свои основания всё в той же «линейной векторности» нашего разумения. А именно: Появление души обязательно сопряжено с появлением тела. Душа зарождается вместе с телом, но существует вечно. И здесь скрывается непреодолимое противоречие, которое гнездится в алогичности самого умозаключения. В его несопоставимости с креативной динамикой мироздания. Ибо, при развороте «вектора осмысленности», возникает некая «яма». Ведь то, что существует вечно, – не может зарождаться! И это, пожалуй, самое явное затруднение, связанное с осмыслением бытия души, как чего-то бессмертного и вечного. Рождение души, и последующее её вечное бытие, это как наличие начала, и отсутствие конца. Невозможный, ни при каких обстоятельствах, парадокс. Положение, не вписывающееся ни в идеалистическое, ни в рациональное, ни в какое иное воззрение.
Все наши стремления, пороки и добродетели, все чувствования и оценки, всё, что включает в себя понятие души – есть вытекающая из нас полноводной рекой, субстанция тонкого мира. И берёт своё начало эта «река», в заоблачных высотах наших глубин, в неосознанных далях нашей биосистемы, в её сокровенных «нано областях недосягаемости», там, где живёт, всё изначальное в нас. По сути, она черпает свою великую полноводность из слияния миллиардов ручейков, вытекающих из каждой клетки нашего организма, и образующих в своём слиянии, поток, который несёт в своих водах всё, что подхватывает на своём пути. И этот поток, выливаясь из нас, выплёскиваясь на внешнюю реальность, своей «агрессивной сверх гармонией», форматирует и упорядочивает всё вокруг, на свой лад, в соответствии и адекватно собственной упорядоченности. Ведь мир вокруг, именно таков, каков душевный агрегат, какова его характерная субстанциональность, в самом широком смысле слова.
У каждой души есть своё русло и характер течения. Она может быть быстрой, бурлящей, с множеством водоворотов, не предсказуемой, коварной и опасной. А может быть спокойной, медлительной и ровной, но, в тоже время, скрывать в себе омуты. Душа, её паллиативность, есть императив выделенной миллионами клеток, энергии. Каждая клеточка нашего организма, имеет свою маленькую индивидуальную душу. И в результате слияния в один поток, образуется одна большая и сложная душа, – душа организма. Душа, как нечто целокупное, как нечто конгломератное, и потому проблематичное в себе – есть воплощённый синтез, порождающий некую архистатическую гармонию внутреннего общего резонанса миллиардов отдельных душ-клеток, как неких сущностей, организмов своего уровня и своего бытия. В своей синтетической гармонии они создают нечто физически совокупное, нечто целостное объективно слаженное, – нечто паритетное в себе. Но эта совокупность не только чисто физическая, но и метафизическая, трансцендентальная и идеальная.
Мы мистифицировали нашу душу, как мистифицируем всё, что не понимаем, что выходит за рамки рационально-аналитического мышления. Мы наделили её сверхъестественной сутью. Она же, живет по тем же, общим для всего сущего, законам. И умирает так же, как умирает тело. Рассеиваясь, растворяясь в водах энергетического океана. Суть её никуда не девается, как не девается никуда суть материи. Рассеивается, как известно, лишь форма. Но что может быть в нашей действительности кроме формы? На самом деле, – ничего. Только форма определяет саму существенность в нашей реальной действительности. И этот парадокс, является самым не разрешимым вопросом, ибо несёт в себе самую сокровенную тайну бытия.
Мы, в силу особенностей нашего мозга, склонны отделять одно от другого, наделяя самостоятельностью то, что не имеет таковой. Подобное происходит повсюду. Наша душа, в сущности, является только проявлением тонких высвобождений относительно грубого, основополагающего фундаментального тела. Она – есть лишь «утончение» этой относительно грубой субстанциональности. В его глубине, в глубине относительно «грубого бытия нашего организма», на недосягаемом рациональному разумению уровне, рождаются все наши стремления и движения, все наши пороки и добродетели, чувствования и оценки, воплощающиеся в вытекающие флюиды нашей души.
Наше душевное состояние складывается из миллиардов мельчайших факторов. Оно подобно всякой полноводной реке, образующейся из ручейков, имеет каждую секунду своего бытия, пропорциональное соотношение этих факторов. Мы чувствуем силу собственной души, лишь, когда она становится по-настоящему полноводной. И то, что мы называем нашей волей, то, что мы чувствуем в себе, как собственную произвольную волю, это как раз то фатальное движение реки, которое, просто физически не может остановиться, пока функционирует наше «грубое физическое тело». Она, в сути своей есть лишь динамика, – пар над котлом и пар в котле, несущего в себе силу динамического момента, словно в котле паровоза.
Желания и стремления, как воплощённые трансцендентальные мотивы, создаются именно этим безостановочным течением реки. Они, – есть нечто необходимое, нечто фатальное, некое явление, которое просто не может не являться, в силу уже существующих причин, в силу сложившейся динамики мироздания. Так же как не может, не воспламенится спичка, если причина уже имеет место. Так же как не имеет возможности, не испарятся вода, нагретая до определённой температуры.
Наш разум, это «отросток общей воли мироздания», – её утончённая локализованная субстанция, – вершина, точка, апогей…. Наша душа, это ещё более утончённая, уже почти эфемерная субстанция, растущая из нашего разума, словно цветок из кроны дерева. Субстанция, благодаря своей тонкости и изысканности, превратившаяся в противоречие для самой воли, для своего прародителя. Выражаясь физически-метафорически, = воля – биосфера, а душа – магнитное поле земли. Выражаясь метафизически-метафорически, = воля – «царь», угнетающий собственное «племя», а душа – парламент, контролирующий «Царя».
Наш разум, такая же искусственно отделённая субстанция от «общей воли», и наделённая самостоятельностью. И наша душа, возникающая от «совокупления» разума и воли, от этих разделённых и изолированных искусственно, стихий, несёт в себе всё самое тонкое и возвышенное от своих родителей, и в последующем синтезе собственных противоречий, порождает новый, не существующий до сих пор, – мир бессмертия, противостоящий миру разума и воли, – миру смертных.
Все эти рассуждения имеют значение в различных алгоритмах осмысления души. С одной стороны, под понятиями разума и воли, а вслед за ними, и под понятием души, мы подразумеваем нечто имеющее форму, нечто «трансцендентально-формативное», нечто объективное, локально определённое. С другой стороны, размышляя о душе, мы подразумеваем нечто вне формы, нечто вроде пресловутой «вещи в себе», нечто сугубо глубоко метафизическое, то, что в своём Абсолюте, есть всеобщая душа, – душа мира. И к нам, как к чему-то локально формальному, имеет отношение только постольку, поскольку мы являемся частью всеобщего мира, а значит, носим в себе, часть его души. В этом смысле душа, это мир в себе, не имеющий никакой формы, а значит не имеющий для нас, действительности. И таким образом, такая душа превращается в «сущность» иного мира, для нашего бытия, – в «ничто».
А может ли душа иметь своё существование в определённый промежуток времени, может ли она иметь свой фактор времени, – своё «сейчас»? Все наши стремления и желания, есть необходимые проявления нашей души, рождаемые безостановочными движениями нашего тела. Потоком, где всякое «сейчас», – обусловлено «до того», и «после того». Где «сейчас», само по себе, – просто не существует физически. Но лишь трансцендентально, и только как иллюзорное видение мифической границы, как некое разряженное поле между пропастями. Ибо «сейчас», – подразумевает остановку, а значит – невозможное, для нашей действительности.
Наши воззрения относительно души и воли, уходят в глубину веков. С самых истоков философской мысли, эти понятия не давали покоя мыслителям. У каждого из них, были свои критерии, свой, неповторимый взгляд на эти вещи. Ведь каждый судит, как в меру своего мировоззрения, чувствования и образования, так и в строгой зависимости от окружающей среды, в самом широком смысле слова, а также в силу собственной метаболистической усвояемости, и способности к перевариванию поступающей «разноплановой пищи».
На мой же взгляд, душа – это тончайшая физика тела. И то, что мы чувствуем в себе глубину и широту нашего внутреннего мира, этот необъятный космос, на самом деле, – чувственная совокупность всех грубых и тонких взаимоотношений и хитросплетений, синтетических противостояний и согласованностей нашего «громадного тела». Она, душа, – есть гармония взаимоотношений в нас, каждой клетки, – со всем организмом, и всего организма, – с каждой клеткой. Продукт целокупной синтетической организации разнонаправленных и разноплановых стихий и флюидов нашего тела. Гармония равновесия быстрых и медленных преобразований, сочетаний, контролируемых всплесков, и падений. Баланс – сидящий в каждой клеточке организма, и определяющий все сношения с внешним миром, и все наши оценки в отношении него. Ведь именно отражение этого баланса, – во вне, транслирование и транслитирование его порядков на внешние предметы, определяет всю разноцветную и разноплановую палитру реальности действительного мира.
Наша душа, своей сверх гармонией настраивает всё вокруг на свой лад. Она есть повелительница мира реальности, она выстраивает и подгоняет все формы и сочетания, она целокупирует и расчленяет, она – создаёт. Творец – воплощённый в метафизическую, почти мифическую субстанцию. Её субстанциональность ближе всего к божественному, потому её принадлежность во всех религиях относят к богу. – «Душа принадлежит богу!» …Так говорят все религии мира.
Её метафизическая субстанциональность, за пределами тела, может воплощаться в такое божественно мистическое явление, как музыка. Да, именно музыка является чистым воплощением в гармонию звуков, метафизики нашей души. В ней, в музыке, вы найдёте всё, что содержит в себе, наша безграничная душа. Она, музыка, есть наиболее полное отражение её латентной существенности. Сверх того, что мы уже могли бы обнаружить в музыке, в ней нет – ничего.
По моему глубокому убеждению, и в этом я не буду нов, не только мы, люди, животные и растения имеем свою душу, как нечто «тонкое» исходящее волнами из нас, но и любой предмет, обладающий формой, обладающий своим «телом» имеет свою индивидуальную душу. И то, что мы не замечаем этого, ещё не говорит в пользу отсутствия таковой. Мы, как всегда смотрим на всё, субъективно, наделяя душой лишь близкие нам по форме субстанции, лишь близкие нам по духу, природные образования. Мы очень хорошо чувствуем души животных, например, собаки. Чуть меньше растений, и почти не ощущаем душу, к примеру, металла, или камня. Хотя, всегда подспудно подозреваем душу в огне, или воде. А порою наделяем собственной душой организацией, так называемые природные катаклизмы. Например, «Торнадо». В силу очевидности его нрава, создающего впечатление некоей разумности. Мы совершенно не допускаем наличие души у Солнца, Луны, или нашей Земли. Хотя в последнее время, в отношении Земли-матушки, взгляды меняются, в силу очевидности наличия у неё разумности, а значит и души. Ведь мы склонны наделять душой только разумные, с нашей точки зрения, мыслящие в нашем спектре, субстанции.
Вообще, заметить проявление души, всё равно, что заметить разумение. Ведь это искусственно разделённые «флагманы» самого тонкого мира, в нашем воззрении, относительно всего фундаментально существенного. Для того, чтобы что-то заметить и определить, нашей душе требуется реакция, мы должны среагировать. То есть, наша душа должна получить некий «душевный резонанс» от соприкосновения с предметом. И если такого не происходит, мы заключаем, что души здесь – нет. Ну а так как, резонировать может только, условно говоря, близкие по «длине собственной волны» по схожей характерной волнообразности предметы, то всё, что далеко от нас характеристиками своей волны, что не может резонировать с нашей специфической душевной организацией, мы «омертвляем» и лишаем души.
Но если, всё же, всякий обозначаемый нами как «неодушевлённый предмет», имеет душу, что тогда? Ведь этот предмет, как бы там ни было, имеет внутреннюю структуризацию, собственную неповторимую систему, и собственный далёкий от нас, метаболизм. А значит в нём, существуют внутренние связи, и не осмысливаемые нами, внутренние взаимоотношения, некий внутренний своеобразный обмен, а значит «живость» своего плана. В конце концов, всякий предмет имеет своё электромагнитное поле. А значит, гипотетически, вполне способен мыслить в своих порядках.
Как я отмечал выше, наш организм, как собственно, любая другая структура, в своей сути, есть сцепленная в определённых пропорциях, и слаженная в определённых формах, система. И каждая клетка нашего организма, находится внутри себя, в таком же «балансе сил», что и организм в целом. И благодаря связям этих клеток, и колоний клеток, мы, представляем собой «целостную единицу». Метафизика же нашего существования во времени, как «целостной единицы», такова, какова метафизика всякой «единицы», всякой «целостной системы». Солнце живёт, постепенно высвобождая энергию, трансформирую в себе, водород – в гелий. И мы с вами, в сути своей, такие же «горящие звёзды», со своей скоростью, и формой высвобождения внутренней энергии. Мы трансформируем в себе всевозможные химические элементы, и высвобождаем энергию, в виде тепла, пара, и сверх организованной сверх упорядоченной энергии электромагнитного импульса, называемой нами, – мыслью. И эта высвобождённая энергия, вступает в реакцию с внешним миром, форматирует его на свой лад, превращая всё вокруг в реальную действительность, в обетованный мир расположенного существования.
Высвобождение, перетекание, концентрирование и рассеивание, всё – суть энергетические движения. И то, что мы называем душой, часть этого потока, форма пребывания энергии, пусть слишком тонкая, но отнюдь не выходящая за рамки общих законов движения. Душа, это чувствуемые нами индивидуальные формы энергетических образований внутри нас, взаимоотношения сгустков энергий, и их высвобождение. Душа, это некий порядок, некая форма внутреннего соразмерного гармоничного сочленения грубых и тонких энергий, высвобождающаяся из нас в виде некоего поля, вроде электромагнитного поля, с блуждающими по этому полю импульсами – мыслями. «Туманность андромеды»! «Музыка нрава», сочиняемая нашим телом, сливающаяся в полифонию и выливающаяся затем из нашего тела наружу. И оцениваем мы, как чужую душу, так и всё вокруг, исходя из неосознаваемой нами гармонизации с нашей душой, полифонии внешних предметов оценки. Музыка чужой души, резонирует ли она с нашей, звучит в унисон, или дисгармонирует. И мы говорим: Это – хорошо, а это – плохо. Это – «живое», а это – нет.
Наш общий духовный потенциал, – это совокупный потенциал разума нашего тела и разума нашей души. То есть гармоничное сочетание грубых и тонких форм разумения нашей сложной организации. Если сила разума нашего тела, нашей воли, также сильны как сила разума нашей души, то происходит – взрыв великого духа! Рождается так называемый Гений! На этом я подробнее остановлюсь чуть позже.
Психология как наука, занимающаяся нашей душой, раскладывает, классифицирует, идентифицирует и обозначает. То есть занимается, по сути тем же упрощением, для лучшего понимания и усвоения, всех аспектов движения нашей души. Ведь любое разделение на составляющие, классификация и идентификация, при всём кажущемся усложнении, на самом деле есть – упрощение.
Из этого стремления всё разложить, когда-то возникла Диалектика. Как наука, призванная разложить «пищу», поступающую в мозг в виде образов идеального. Для того чтобы эта «пища» стала пригодна для усваивания нашим «рационально-аналитическим разумом». Наш «идеальный разум» способен создавать и формировать такие образы осознанности, которые для «разума рационально-аналитического» – абсолютно недоступны. И потому ему, для усвоения остаётся лишь одно. – Разложить своей «ферментной секреторикой» поступающие образы и превратить эту «пищу» в доступную для собственного усвоения. Ведь даже «сервировка стола», где осуществляют свою «трапезу» эти различные плоскости нашего разумения, совершенно различна. Поэтому наш «рационально-аналитический разум» постоянно трансформирует «образы идеального» в последовательные ряды «рационально-аналитического». Как бы разлагая эту недоступную ему «пищу», с помощью своих «ферментов» и превращая в «кашу» для собственного усвоения.
Воля к жизни
И так. Ещё глубже, выше и шире. При всей своей мистичности и божественной сути «воля к жизни», как собственно и сама мысль, начинается, или сказать точнее имеет своей основой вполне доступную нашему пониманию, причину. Мы наделяем «волей к жизни» только живые субстанции. А между тем, если мыслить наиболее объективно и по возможности не заинтересованно, попытаться взглянуть на мир со стороны, так сказать взглядом «стороннего наблюдателя», то «воля к жизни» выявится как нечто вездесущее и повсеместное, и присущее не только так называемым «живым субстанциям». Как нечто исходящее не только из «имманентно живых», но из всего того, что причисляется нами к «неживому», в феноменальной транскрипции мироздания. Она берёт своё начало на такой глубине, где наш «глаз» не видит ни причинно-следственных связей, ни образов, ни даже фантомов. Но, на то нам и дана проникающая за границы, ломающая всякие преграды и видящая за всяким горизонтом – Великая интуиция. И мы, а priori можем достаточно достоверно судить о многих вещах, лежащих за пределами возможного опыта. И пусть как в рамках рационально-аналитического познания, так в интуитивном существуют свои ограничения, но всё же поля интуитивного шире, глубже и дальше, они ограничены лишь возможностями пространственно-временного континуума, и даже здесь порой не замечают пределов.
Так откуда же в нас эта «воля к жизни»? Что она? Имеет ли она своё, независимое бытие? Эта модифицированная и воплощённая нашим трансцендентальным мышлением в «главный инстинкт живого», диктующая свою волю всему архистатическому, архаическая концепция? На самом деле она есть повсеместная и присущая всему материальному, превращённая в нечто трансцендентальное в нашем сознании, всеобъемлющая воля к сохранению сложившейся структуры, как некое воплощённое противостояние порядка – хаосу. Именно в этом – её истинная сущность. Как только начинает образовываться новая упорядоченная структура, в ней, в тот же миг рождается Воля к сохранению. Структура, как некая упорядоченность, и воля к сохранению – нераздельные явления, как молния и гром. Разделение и изолирование одного, от другого, обусловлено нашим диалектическим мышлением, в силу действительной природы этого мышления, разделять и властвовать. Как не может существовать материя без тяжести, протяжённости, изменчивости и т. д. Так и «структурированный, упорядоченный в себе объект», не существует без Воли к сохранению, воли к собственному продолжительному существованию.
Та энергия, из которой состоим мы, и всё что нас окружает, (как я уже отмечал), не имеет никакой возможности, остановится, в силу собственной фундаментальной природы бытия. В силу изначальных материнских основ этого бытия, завязанных на безостановочном стремлении природы в своё лоно, к абсолютному балансу сил, и воплощающейся в нашей действительности в противостоящие стихии гравитации и антигравитации, как противостоящие архаичные стремления нарушения и сбалансированности. И это обстоятельство как мне кажется, имеет одно из основополагающих и решающих значений в нашем вопросе.
Как вы уже заметили, всё Сущее, всё то, что имеет «тело», некую феноменальную субстанциональность, а значит и форму, необходимо содержит в себе «баланс сил», который образовавшись однажды, стремится к собственному сохранению, как раз в силу этого баланса, в котором как кажется, не доминирует и не уступает ни одна из сил. Но в действительности материальность как таковая, а за ней и объектность, на самом деле есть некое преобладание нарушения над абсолютной сбалансированностью. Я назвал это – «балансом плюс». И всякий наблюдаемый нами объект в мире, всегда находится либо в состоянии «баланс плюс», (прогрессирование), либо в состоянии «баланс минус», (регрессирование) при котором доминировать начинает «абсолютная сбалансированность». На этом, более расширенно, я остановлюсь далее.
Так вот то, что мы чувствуем в себе как «воля к жизни» основывается на двух вещах. Первое: Не возможности той энергии (материи), из которой все мы состоим – остановится, так называемая динамика – её сакральная суть. И второе: Наличие баланса сил, стремящегося к собственному сохранению, сохранению образовавшегося порядка, – баланса на котором зиждется всё, и вся и в котором рождаются и существуют все сбалансированные упорядоченные системы.
То, что касается нас, так называемых «саморегулирующихся систем», эта формативность, эта субстанциональная упорядоченность на определённый лад, образует нас как некую законченную форму. Метафорически выражаясь, наша суть есть некий синтез, некий упорядоченный коллапс от столкновения двух стихий, – огня и воды. «Огня» и «воды» как модифицированных пантемид нашего тела, как неких воплощающихся в нас субстратов Солнца и Земли. Мы существуем как синтез и коллапс – одновременно. И в этом же контексте существуют все объекты для нашего восприятия и познания. И мы, и всякие объекты познаваемости, в сути своей есть «упорядоченные на определённый лад «синтетические конгломераты» образующийся в результате баланса, сопряженного с внутренним продолжительным напряжением.
Когда-то Земля, не упав на Солнце, и зависнув на своей орбите, сохранила с одной стороны свою индивидуальность, с другой – не ушла от зависимости. Перейдя тем самым, в своём сношении с Солнцем в тот же баланс, – баланс центростремительных и центробежных сил пространственно-временного континуума. И следуя этому балансу, как самостоятельный объект своего уровня, сама превратилась в «сбалансированное существо». Что дало начало всем «балансам» всплывающим и возникающим из её чрева и существующим на её поверхности ныне. И теперь, эта характерная особенность «балансирующего коллапса» присуща всем сущностям земной действительности. Всё, что мы называем «сущностным», по большому счёту, есть синтез двух изначальных противостояний – хаоса и порядка. А всё, что мы называем «живым», лишь более утончённое и агрессивное, упорядоченно-своеобразное, более мобильное модифицированное полярное синтетическое соединение этих стихий, на поверхностных полях перспективного матричного бытия. Как некоего пара над землёй, образующегося от противостояния энергии солнца и энергии воды, продуцирующего агрессивные упорядоченные синтетические сгустки, коллапсирующие, и так же как «родители», выжигающие собственное внутреннее, и получаемое извне, топливо.
То, что я назвал поверхностными полями перспективного матричного бытия, есть фауна земной поверхности. Всякая уравновешенная в себе и упорядоченная на определённый лад субстанция мира, существующая в этих полях, есть столкновение противоречий, – реакция, если хотите, в результате которой образуется баланс сил, то самое равновесие, сохраняющееся определённое для каждой субстанции, время. При этой протекающей относительно ровно реакции, выделяется энергия различного характера, интенсивности и плотности. И в том числе самая тонкая и агрессивная, имеющая определённый порядок электрической природы энергия, воплощающаяся в нашем восприятии в формы мысли, и формы сознания. Как воплощённых полей и импульсов электромагнитного поля и тока. Наитончайшая, упорядоченная на определённый лад и агрессивная форма энергии, экспансируемая нашим телом вовне, и выходящая своей сущностью, своей недоступной формой бытия, за пределы собственных возможностей. (Мысль, – не может себя осмысливать, она есть воплощённый ноумен, – вектор, нечто только лишь направленное своим взором вовне, и её реальная существенность возможна только в собственном отражении). Мысль, за счёт своей «агрессивности», доминирует в действительности, порождая всю палитру реальности бытия. Ведь это она строит и оценивает всё, исходя из собственной внутренней структуризации и собственной формы упорядоченности.
Всякая субстанция в этом мире ощущаемая нами, как нечто «материально-формативное», нечто сущностное в своей форме, необходимо обладает внутри себя «балансом сил». «Живое» же, лишь нечто утончённое гибкое и агрессивное в этом принципиальном повсеместно необходимом балансе. Некое естественное состояние природы, основанное на противостоянии стихий огня и воды, с обязательной примесью углерода и иных включений. Обладающее само в себе, неким противостоянием с одновременным альянсом, то есть – синтезом. Когда противодействие равных сил образуют некий «сплав», некий синтез противодействий, некое диалектическое единство противоположностей, образующих целое, – нечто целокупное.
Некоторые философы нового времени, в особенности философы теизма, считают «волю к жизни» первофеноменом, неким началом всего. Тем, – что всё, и вся толкает к организации, к формированию сущностных форм субъектарно-объектарного мира. Но они не учитывают то, что «волю к жизни», как таковую, мы ощущаем и оцениваем только субъективно, только по отношению к нашему же разуму, только в силу воздействия на нас, а значит, – неминуемо зеркально перевёрнуто. И непоколебимая изначальность «воли к жизни» и её берущая своё начало в божественном, основоположность, в сути своей есть лишь воплощённая в перевёрнутом зеркале сознания, апперцепция. Апперцепция, основанная на отражении в нашем сознании последовательности всех явлений, создаваемых присущей нашему разуму последовательности выстраиваемых впечатлений, – от причины к действию и к результату. То есть апперцепция, превращённая нашим разумением в дефиницию.
«Воля сама в себе», – такое же недоразумение, как «вещь сама в себе». Она, – не есть истинная действительность, она такая же дефиниция, основанная на чувстве нашего разума, как дефиниция, основанная на чувстве нашей воли. К примеру, желание, любовь, или ненависть. Эти аффекты не существуют вне нашей воли. Не она, воля – образует собой объекты, но объекты, образовавшись однажды, продуцируют её в нашем разумении. Не они из неё, но она из них. И в этом принципиальная разница.
На самом деле здесь как всегда и всюду перевёрнуто всё с ног на голову. «Воля к жизни» – не первопричина, она – последствие, - результат сношения стихий, образующих структурный симбиоз, называемый нами «живая саморегулирующаяся система». И «воля к жизни» не причина этого «взрыва», не причина стремления к «коллапсирующему синтезу» – но его последствие. Она – производная химико-структурных объединений, – их, если хотите, необходимая последовательность.
«Воля к жизни», – сестра нашей мысли! Она сохраняет в себе всю динамику этого явления, как чего-то лишь «утончённого», как вытекающей из грубой материальности, экспансии тонких агрессивных форм материи. Подобно тому, что происходит на солнце. Когда вытекает солнечная энергия в виде тонких лучей квантового потока, из сбалансированного синтеза тяжёлых и грубых субстанций. Вытекающая из «растянутого во времени взрыва», и имеющая свою индивидуальную упорядоченность энергия, и создающая в этом потоке такое почти мистическое в своей сути явления, как светящееся солнце, и являет собой воплощённую метафорическую картину действительности, и всякой субстанции этой действительности.
Возникновение «воли к жизни», так же, как и появление мысли, есть результат сложнейших преобразований в нашем организме, начинающихся на низких уровнях, (условно говоря). Начиная от окисления, метаболизма, и заканчивая сложнейшей форматированностью тонких электромагнитных импульсов, называемых нами мыслями. И точно так же как мысль, родившись от «грубой материи», являясь относительно более агрессивной, оказывает влияние на формирование этой грубой материи, являясь, по сути, авангардом в той же формативности, так и «воля к жизни», родившись от нашего «грубого тела», оказывает на него влияние, и даже контролирует его. Она – есть стремление к сохранению уже существующего, но не стремление к образованию.
Создаётся впечатление её повсеместности и вездесущности, и в то же время латентности, и парадоксальности. «Воли к жизни» – не существует, пока не образовалась структура, носитель этой «Воли к жизни». И в то же время, структура не может возникнуть как структура, без Воли к образованию. И в этом противоречии – ВСЁ! Мы, в силу устройства нашего разума, пытаемся найти непременно, начало и последствие. Но в глобальном миропорядке, нет ни «начала», ни «последствий». И то, и другое, является одновременно и началом, и последствием. Ибо, в аподиктическом и безусловном смысле, мир, – не имеет течения времени от точки к точке, в нём время, – не имеет «векторности», оно не соответствует прямой линии, так свойственной функциональности нашего познания. Линейное течение времени, это особенность нашего разума, его функциональная жизненная стезя, привносящая в мир последовательность, в соответствии с собственной структурной фикцией. Действительность, наша действительность, в самом широком смысле слова, не существует без этой фикции. Но мир сам по себе, – ей не подвластен. И в этом парадокс, абсолютное противоречие бытия.
В силу собственной природы, собственной генетической особенности, и порождённой этой особенностью, структурной фикции, наш разум всегда будет задаваться вопросами типа; Что на самом деле, является первичным, – яйцо, или курица? Как некая упрощённая транскрипция от вопроса: Что, на самом деле является первичным, – мысль, или материя? Или: Кто создаёт кого, – мы Бога, или Бог нас? И по большому счёту, никогда не найдёт ответ, ведь подобные вопросы, выходят за рамки действительности, за рамки линейного восприятия действительности, в которой только и может существовать наше разумение.
А чем собственно, отличается наша «Воля к жизни», от «Воли к сохранению структуры» всякого «неживого объекта» нашего познания? Ведь если отбросить предвзятость и посмотреть несколько глубже чем это привычно делается, то становится очевидным, что «Воля к сохранению сложившейся структуры» присущая всякому «неживому» объекту нашего мира, содержит в себе те же принципы, что мы находим и чувствуем в себе. В каждом, как «живом», так и «неживом» объекте, мы обязательно находим противостояние внешним агрессиям, и стремление к собственной устойчивости. И там, и там, сохранение структуры зависит от латентной силы энергии объекта, и её внутренней гармоничной и оптимизированной организации. К примеру: Кусок железа, при всей своей «Воли к сохранению структуры», разрушается в воде, в силу воздействия на него агрессивной энергии воды, разрушающей его внутреннюю организацию. Золото же, напротив, почти не поддаётся никаким внешним воздействиям кроме огня, его «воля к сохранению сложившейся внутренней структуры», (его молекулярная решетка в силу своей строгой упорядоченности) – воплощение «Воли к существованию». Организация, – упорядоченность в строгой последовательности во всех перспективах и направлениях, есть архипринцип всякой воли к сохранению. Воли к сохранению системы, присущей всякому неодушевлённому предмету реальной действительности, системы воплощающейся в нас, как в наиболее сложной упорядоченной структуре, – в непоколебимую волю к жизни.
Молекулярная решётка золота сформирована так, что противостоит многим факторам внешней агрессии. Ибо обладает в себе неким «формостатусом», неким противоположным и наиболее отдалённым от внешнего хаоса, положением. Её внутренняя сложившаяся организация, более упорядочена, чем в любом другом металле, в том числе и непосредственно в железе, хотя латентная сила энергии обоих, не далека друг от друга. Потому и имеет такое мистическое древнее влияние на нашу волю золото, что представляет собой некое воплощение устойчивости, основанное на внутренней упорядоченности, так близкое нашей сакральной сути.
Вообще, как я неоднократно отмечал выше, всякие материальные объекты, в любом своём виде, есть баланс внутренних сил. А баланс, его аподиктическая особенность и заключается в том, что он всегда стремиться к собственному сохранению. Материя, как воплощение этого внутреннего баланса сил, не возможна без формы. А форма, всегда стремится к упорядочиванию и собственному сохранению. И чем упорядоченнее эта внутренняя организация, тем устойчивее к внешнему агрессивному хаосу, эта структура. Наша реальность, наша действительность, по большому счёту, являет собой противостояние хаоса и порядка, как воплощённых запредельных стихий пустоты и действительности. И это противостояние отражается во всякой мелочи нашего действительно-реального мира. Всякая структура, воспринимаемая нами, всегда имеет внутренний баланс этих изначальных сил. Если этого баланса нет, то и структуры, как таковой – не будет. Она не будет иметь права, на существование! Появившись, она тут же исчезнет, как туман. «Появившись», я говорю для понимания, ведь на самом деле, она не сможет даже появиться.
Всякая субстанция, которую мы в состоянии ощутить и определить, как нечто, как объект нашего познания, обязательно должна иметь внутреннее противостояние сил хаоса, и сил порядка, должна иметь внутренний баланс противодействующих сил. Отдельно существующий хаос, как и отдельно существующий порядок, не могут воплощаться в нечто действительно-реальное. Ибо в самой сакральной своей глубине, каждая их этих стихий, возможна только в соотношении, по отношению друг к другу. И только синтез этих противоречий в определённом соотношении, рождает нашу действительность, с её «детьми», материальными объектами грубого и тонкого планов.
На более поверхностном уровне феномена, восприятие нами твёрдости, мягкости, или жидкости, по сути, зависит от характера сцепления внутренних латентных энергий, и интенсивности внутреннего противодействия, – «напряжения внутренней войны». В метафорически-трансцендентальном осмыслении реальности, восприятие объекта, наше идентифицирование его в определённой форме, зависит от соотношения в этом объекте, стихий пространственного воплощения, и стихий временного. То есть, в физическом осмыслении реальности, баланса взаимодействия внутри этого объекта, сил гравитации и сил антигравитации (пространство), с силами центробежными и центростремительными. Попросту сказать, силами разгона и торможения (время). И целокупного воздействие этого внутреннего баланса предмета, на нас, как на наблюдателей.
Это понять сложно, пока не начинаешь осознавать, что все, что тебя окружает, всё лишь – суть синтезированное воплощение времени и пространства. Их синтетическое единство, в собственном противостоянии. Ибо, как мир в целом, так и всякий ощущаемый нами объект, есть воплощённое синтетическое противостояние времени и пространства, (воплощённое в реальность), и противостояние хаоса и упорядоченности, (как воплощения действительности). И этот синтез, материализовавшийся в некие твёрдые и жидкие субстанции для нашего восприятия, знаменует собой всю принципиальную воззренческую парадигму действительности макрокинеза. Которая гласит: В мире – не существует ничего – фундаментально действительного, ибо нет ничего – окончательно сущего. И только противостояние, взаимодействие и соотношение, выступают как объективные причины действительно существующего. Лишь потенциальная война, выступает гарантом объективного существования. Ведь только лишь в противостоянии – возможна действительная реальность бытия.
Вещь в себе
Самая трансцендентальная тайна, манящая своей бездонностью, потусторонностью, своей тёмностью. Чем дальше мы в неё заглядываем, тем глубже смотрим в себя. Древние смотрели на это несколько иначе, они не делили суть, и её проявления. Их религия имела иные поля созерцания, их Бог находился в другом месте. Теперешние мудрецы стараются наделить этот предмет воззрения, некоей конкретикой, диалектически отделив от вещи, её проявления. А попросту сказать, отделив от явления, её сокровенную независимую суть. Придав этой сути мистически сакральный образ, и обозначив понятием «вещь в себе».
Здесь проявляется та же особенность нашего разумения, мы, следуя линейной пространственно-временной парадигме, как доминирующей векторности, и вивисекции, как единственно возможной для удовлетворения форме собственного разумения, разделяем то, что не раздельно, что не может быть отдельно. Но наш разум желает удовлетворяться, и он делает то, что приносит ему это удовлетворение.
Вдумайтесь, что есть «вещь в себе», чем она могла бы быть, в нашей феноменальной действительности, кроме как трансцендентальной, мифической субстанцией, находящей своё подтверждение лишь в вере, как единственно возможной антиаподиктической парадигме нашего сознания? То есть, мы подразумеваем, что она есть, что она должна быть. Но, что она? Чем она могла бы быть? Метафизика, даже в своих самых углублённых воззрениях должна всё же, иметь хоть какую-то наглядную определённость, пусть трансцендентальную.
Вещью мы называем то, что ощущаем, или хотя бы мыслим в виде формативно-отчерченного объекта познания. Ведь для того, чтобы мыслить нечто, должен быть образ того, что мыслишь. Как показывает опыт, в силу наличия в общем философском мировоззрении такой мифологемной существенности как «вещь в себе» – такое положение совсем не обязательно. Определяя наличие в вещи «вещь в себе», как чего-то отдельного, самостоятельного, с совершенно иными свойствами, чем у воспринимаемой вещи, мы тем самым отправляемся в мистику, в домыслы запредельного бытия. Мы ищем Бога – в материальном, как ищем метафизику всегда и всюду в трансцендентальном. Наш разум всегда стремиться найти первопричину всего сущего. Последнюю инстанцию, или сказать точнее самую первую, самую основательную. Тем самым, мы впадаем в антропоморфный мистицизм, и находим для себя плоскость запредельного мышления. И нас заставляет следовать этой плоскости наш жаждущий удовлетворения разум. Он хочет искать и находить, и снова искать. В том его генетическая основа, (воля, – не имеющая возможности остановиться).
Но посмотрите внимательнее, – где на самом деле мы её ищем, эту пресловутую «вещь в себе»? Мы ищем её там, где ее, и быть не может! Мы ищем её – во вне возможностей собственного миросозерцания. Мы словно бродим в лесах, где не растут не только «съедобные грибы», но и вообще всякие «грибы». Мы плутаем по изначально неправильно выбранным дорогам. Стремимся в моря без берегов, и тонем постоянно в собственных заблуждениях. Мы совершенно не желаем осознавать, что, углубляясь в суть вещи, в самую сакральную её глубину, мы обречены вечно опускаться в бездонную пропасть. Ибо никогда не найдём конечной точки, как бы глубоко не уходили. На каждом этапе мы обязательно будем находить причину, которая будет ещё первичнее, после которой ещё, и так далее. Поиск «вещи в себе», подобен бесконечному поиску неделимой точки пространства или времени. Суть всегда будет оставаться где-то там. «Вещь в себе» – это взгляд в бездну, в прямом смысле слова. Мы чувствуем, что она должна быть, но где она и что она, никогда не узнаем. И в этом нам не помогут ни трансцендентальная логика, ни аналитика, ни диалектика, ни чистое воззрение, ни фундаментальная физика. Ничто не в силах приблизить нас к «вещи в себе», как ничто не может приблизить нас к истине в последней инстанции. Мы никогда не коснёмся её, где бы ни искали, снаружи ли, смотря в отражение десницы, или внутри себя, смотря в саму десницу мира.
Если чертить параллели и переносить это архаическое положение на нашу психофизику, то становиться очевидным, что вся наша мораль и следующая за ней психология, имеют своей основой тот же принцип отделения сути, от явления. Ведь мы считаем наши поступки чем-то отдельным от нашей сущности, что мы тем самым способны контролировать наше поведение, что наше, ни от кого не зависимое внутреннее «Я», решает, как поступить в той или иной ситуации. Кто-то сидит в нас, кто-то совершенно самостоятельный, независимый от причин и мотивов, – «Великий карлик», тот, кто даже может по своему усмотрению реагировать на мотивы, не зависимо от силы мотива, произвольно, как ему вздумается? Некая сущность, которая решает и действует вопреки всем законам природы, существующим вокруг неё и в ней самой. Которая даже может нарушить «закон причинности», прервать цепь последовательности каузальных связей собственного душевного агрегатива. Эдакая совершенно самодостаточная абсолютная самосущность, обладающая полной свободой. В этом заключено как всё теологическое, так и всё мистическое. Ибо здесь чувствуется дыхание бога!
Я полагаю, что истоки всякой религии, её сакральные первопричины кроются именно здесь. Не в непонимании внешних явлений древними, но именно в самоощущении собственного произвольного «Я». Теологическая сторона нашего сознания, зарождалась из чувства, что в нас сидит нечто божественно-абсолютное в своей свободе, нечто абсолютно независимое и абстрагировано-самостоятельное. Что проявления нашей воли могут ни на чём не основываться, действовать сами из себя. Эдакая – автономность в Абсолюте. Это собственное внутреннее мироощущение постепенно укоренилось в нас, и мы естественным образом начали проецировать его на всё, что нас окружает, – все, что подвластно нашему разумению. И «вещь в себе», которую мы хотим найти в каждом объекте феноменального мира, нечто отдельное от проявлений этой вещи, некое – абсолютно само, – Бог, сидящий в каждой вещи, и решающий по своему усмотрению, как ей, этой вещи проявляться.
В силу строения нашего разума, в силу его генетической организации, ему очень этого бы хотелось. В самых укромных своих глубинах, нам хочется думать, что мы абсолютно свободны в собственных действиях. И мы получаем эту иллюзию, удовлетворяясь ей. И эта главная иллюзия нашего сознания, проецируется на весь окружающий нас мир. В поиске «вещи в себе», мы жаждем той же, но лишь спроецированной вовне иллюзии, что находим в себе. И всё лишь для того, чтобы найти подтверждение нашей уверенности в том, что в нас, в глубине нашего сердца, существует произвольное в своей сути зерно, самостоятельная субстанция, абсолютно свободная в проявлениях, независящая даже от мотивов и условий собственного бытия. Что это, в конце концов, не иллюзия нашего сознания, что она существует вовне, в действительной реальности феноменального мира. Это в сути своей тот же Теизм, лишь находящий своё воплощение и свои монады в физике вещей. «Вещь в себе» это – нирвана нашего сознания, запредельность перспективного осмысления и различных плоскостей мировоззрения. То место, и то пространство, где на самом деле не должно быть ничего, – «полная пустота», как воплощение абсолютной гармонии мира. (К этому я ещё вернусь).
Кто посмотрит глубоко на то, как образуются многие утверждения, касающиеся не столько метафизики духа, сколько научного мира, тот поймёт насколько важное значение имеет Теизм, во всяких кругах нашего мировоззрения, включая и научных круги, – научные в первую очередь. Какое влияние теистическая, по сути, форма осмысления всяких явлений мира, оказывает на все умозаключения философов и учёных всякого ранга, и различного поля деятельности.
Я начинаю думать, до каких пределов мы можем дойти в нашем познании мира. Что на самом деле иллюзорно, а что достоверно? Может статься, что весь окружающий нас мир – только иллюзия? И всякая философия так же не выходит из этого круга? Очень даже может быть. Ведь достоверность, какой бы она не казалась аподиктической и совершенной, всегда глубоко относительна и сакрально антропоморфна. Никто и ничто в этом мире не может быть истиной в последней инстанции.
Что же есть в действительности, – что на самом деле существует? Судить о всякой вещи мы можем только в контексте её проявлений. Всякая вещь проявляет себя строго в определённой последовательности, в строгой характерности, реагируя с абсолютной необходимостью на оказываемые на неё внешние воздействия. Самый наглядный пример в этом смысле это простая химическая реакция, которая в определённых условиях будет протекать именно так, и никак иначе. Сущность всякой вещи и её реакции – едины. Они есть суть одно, и не разделимы ни в феноменально физическом, ни метафизическом, ни трансцендентальном смысле.
Мы, люди, реагируем и проявляемся точно с такой же строгой последовательностью, как и простейшая химическая реакция. Вся разница лишь в сложности, вытекающей из сложенности организма. Но необходимость проявлений при определённых условиях, – всегда однозначна. И ни о какой свободе, или произволе не может быть и речи. Если опустить «сверх – возможности» нашего разумения, (которые являются таковыми, только в наших же оценках), то мы найдём, что, по сути, мало отличаемся от всякой простейшей системы феноменального мира. Как я уже не раз отмечал, все наши механизмы идентичны механизмам присущим всякой структуре как «живого», так и «неживого» мира. Всякая вещь в этом мире формируется в индивидуальную характерность в зависимости от оказываемых воздействий на неё извне. И складывается в нечто «сложенное», сугубо благодаря этим воздействиям, и адекватно их характерным особенностям. И то, что иная вещь при всей своей схожести, реагирует на воздействие внешнего мира по-другому, говорит лишь о том, что её внутренняя структура формировалась в иных условиях. Метафорически выражаясь, её форма, её характер есть сложенные пластами условия пребывания. Выложенные в сложную мозаику условия бытия.
Посмотрите, какие свойства являет нам, каким характером обладает, к примеру, «клинок Хонзе Масамунэ» изготовленный мастером Горо Нюдо 700 лет назад. Его характер складывался из тех нескольких десятков слоёв его «тела», каждый из которых имел свои условия бытия, свои неповторимые особенности становления. И вот его общим свойствам, его целокупному характеру уже придают мистические качества, он уже почти – «Я», почти личность!
Так всякая вещь нашего мира несёт в себе характер в соответствии с теми воздействиями, которые затронули её в процессе существования. В ней происходит некий синтез накопленных исторических воздействий, с настоящими, которые воплощаются в соответствующие изменения в структуре и характере этой вещи. Столкновение прошлого и настоящего, как сакральных мотивов действительности, воплощают реальную существенность всякой вещи. В ней, вступает в конфликт прошлое и настоящее. В результате формируются определённые векторы её становления, то есть перспективы будущего.
Но мы, наблюдая всё это, не придаём значения хронометрическим наложениям бытия, и влиянию естественного конфликта прошлого и настоящего на всю палитру характерности предмета воззрения, всё же решаем, что вещь проявляет себя иначе, благодаря какой-то внутренней неизменной сути, что в ней есть нечто истинное, – некая «вещь в себе». Если бы у нас была возможность проследить все этапы становления конкретной вещи, всю динамику этого становления до последней мелочи и каждого мига, то, скорее всего для нас открылась бы тайна всего мироздания.
Мы существуем в мире, который постоянно изменяется, постоянно движется. Наш мозг устроен так, что, пребывая наполовину в реалиях, наполовину в иллюзиях, порой не в состоянии отличить первое от второго. Проникая в те области познания, где не ступала «нога человека», где наш разум ещё не обжился, ещё не научился видеть, и словно в потёмках следует на ощупь, совершенно естественно путает дороги, попадая на тропинки, ведущие к заблуждению. И даже идя по выверенной реальной тропе, мы через какое-то время вдруг замечаем, что шли по иллюзорной дороге. Никто и никогда не определит, и не обозначит четкой границы между реальностью и иллюзией. Мир для нас всегда будет наполовину иллюзорным, наполовину реальным. Ибо, всё это олицетворение свойственной нашему разуму особенности, его сакральной парадигмы собственного бытия. И изменить что-либо здесь, нам не под силу. Так давайте же не будем питать иллюзий и на этот счёт.
Теперь сначала. Нечто непонятное, не досягаемое, – вершина метафизики! Где уже нет ничего физического, и в то же время есть «Сущностное». Подчас всплывающая концепция «вещи в себе», на мой взгляд, есть не что иное, как желание разума зацепится хоть за какую-нибудь соломинку в моменты проваливания его в эту архаическую бездну, в пустоту. Желание пытливого и смелого разума, наступившего вдруг на тонкий лёд, ухватиться хоть за что-нибудь. Найти трансцендентальную основу, пусть совершенно неопределённую, бесформенную, выходящую за всякие рамки формативной разумности, но всё же сущностную, имеющую свой определённый образ. Обозначить для себя хоть какую-то изначальность, хоть какую-нибудь первопричинность. Не может быть, чтобы всё заканчивалось явлением. Это слишком просто! Не может быть, чтобы мы, люди, воспринимали мир действительности в полной его мере. Должно быть что-то, в этой таинственной материальности, что-то не досягаемое для нашего разумения. Нечто, что подвластно лишь Богу, нечто, что исходит из него, что им производится, что не может быть замечено и осмысленно нашим плоским ограниченным разумом. И это что-то, необходимо всплывает в нашем сознании в образе «вещи в себе». Весь мир может и должен быть сконцентрирован в этом понятии. Вся его существенность может и должна быть сконденсирована и воплощена в нечто, что можно «положить в карман», и при случае пользоваться для разрешения собственных всевозможных затруднений. Так полагает наш рационально-аналитический разум.
Эта концепция вполне естественна, если где-то в глубине собственной осознанности мира, ты всё же не можешь расстаться с мыслью, что мир существует сам по себе, что он, всё же не до конца твоё представление. В таком случае ты неминуемо будешь искать его источник вовне, и обязательно придёшь к «вещи в себе». Ведь если он, – мир, существует сам по себе, если действительность есть фундаментальная достоверность мира, то у него должна быть основа. Некая фундаментальная первопричина, за которой бы уже не было ничего. Некая субстанция вне времени и пространства, абсолютно свободная и всё же сущностная. То есть противоречивая в своих самых невероятных сочетаниях. – Парадокс. (Ведь быть сущностной, и в тоже время быть вне времени и пространства – абсолютная аподиктическая невероятность). «Свободная сущность», – чувствуете, чем пахнет? Да, именно теизмом. Ибо представить себе некую абсолютно свободную первоистинность в физике материального, то же самое что представлять себе Бога в метафизическом. Но дело всё в том, что наша природа, наш разум так устроен, что мы никогда не осмыслим то, что вне времени и пространства. А значит «вещь в себе» для нас навсегда останется за семью печатями, и мы никогда не осмыслим её истинную суть.
Мало того говорить о бесконечности времени и пространства, о бесконечности познаваемости этого пространства, и одновременно о «вещи в себе» которая являться по сути конечной инстанцией всего пространственного, по моему глубокому убеждению самое парадоксальное для нашего разумения противоречие. И только лишь под антиномию это, подвести нельзя. Антиномия подразумевает «объект» и «субъект», вытекающие друг из друга. Что же могло бы являться антиномией для «вещи в себе»? Здесь нет и быть не может ни того, ни другого.
По моему глубокому убеждению, последнее, что мы можем осознать на пути в глубину материального, это лишь «субстанциональность». Пусть эта субстанциональность «утончается» до бесконечности в одну сторону нашего осмысления, и «огрубляется» в другую, но всё же она остаётся субстанциональностью, – действительной формативной существенностью. – То, что, не имея никакой возможности остановится, пока существует её сакральная причина, (нарушение абсолютного баланса), движется и движет всё и вся. – То, что и есть это – всё и вся. Да, на пути регрессивного проникновения в сущность материального, подойдя к собственной границе познаваемости, наш разум требует сделать следующий шаг, но этот шаг будет уже в пропасть, – в «Великую пустоту». Где нет ничего, ни стремления, ни движения, ни пространства, ни времени, никакой-либо возможной существенности. Ибо там всё находится в абсолютном балансе сил, а значит – в «гипперанабиозе». Повторяю, «пустота», присущая абсолютному балансу стихий, – это единственное условие для полной и абсолютной свободы. Когда начинаешь в неё вглядываться, становится не по себе, ощущение мистического разрушения всего и вся. Какой-то психоз, – растворение сознания. Хочется, как можно быстрее вытащить голову из этого омута.
Далее. Различие форм, которое есть лишь наше эмпирическое воззрение, и субъективное трансцендентальное осмысление, имеет своей причиной свойства бесконечно растущей и расширяющей свои горизонты «оценочной ганглии» нашего разума. Все параметры мира, как то; твёрдость, жидкость, проницаемость, всё лишь её взгляд, – её продукт воззрения. Раскладываемая её «ферментами» внешняя реальная действительность, с её фундаментальной основой, – материей. Материей, что для возможных перспектив нашего разумения не исчезает и не появляется, но лишь образуя сгустки, и растворяясь в пространстве, принимает для нашего глаза и нашего трансцендентального разумения различные до бесконечности облики. Её можно было бы назвать «вещью в себе», но её главная характеристика отлична от оной, ибо она – не свободна. И в отличие от «вещи в себе» она всегда находится в реальности, она всегда имеет форму, продолжительность в пространстве и всегда своё чувство времени.
Субстанциональность материи, есть такое же феноменально-трансцендентальное представление, как всякая форма действительности. Хоть это представление и исходит из самых глубин нашего разума и далеко от феноменальных поверхностных представлений, – оттуда, где существует ноумен сознания. Нечто, что мы можем определить лишь косвенно, лишь по вторичным признакам, (так как туда не в состоянии дотянутся своими «щупальцами» «оценочная ганглия» нашего сознания), но определить вполне достоверно. Ибо ноумен существует потому, что не может не существовать, так как внешняя реальность должна в чём-то непременно отражаться. В противном случае не существовало бы и внешней реальности.
В самой сути противопоставления «явления» и «вещи в себе», как чего-то с одной стороны; познаваемого нами, с другой; – недоступного для познания, противоречия на самом деле – не существует. И в том утверждении, что то, что является нам, совершенно отлично от того, что мы подразумеваем как «вещь в себе», на самом деле нет противопоставления. То есть в идеальном смысле в том умозаключении, что явление совершенно отличается от сути являющейся вещи, – есть конечно некий парадокс, но нет противоречия. Ведь вещь являясь нам намеренно, либо не намеренно не тем, чем в своей сущности есть, на самом деле скрадывает не свою существенность, но лишь свою глубинную формативность. Но в силу природы нашего ноумена, мы уверенны, что она просто лжёт, скрывая свою действительную суть. И вот здесь вскрывается колоссальное противоречие. Нечто, почему-то проявляет себя не тем, чем является на самом деле? Что-то вроде зверька, который вместо того, чтобы показать свою мордочку, показывает «фигушку». То есть её объективация есть завеса, – иллюзия, называемая явлением. А она, эта вещь, на самом деле совершенно иная в своей сакральной природе.
А не думали ли вы, что эта фикция, заложенная в форме нашего «синтетического мышления» как оборотная сторона познания, что она есть причинность нашего раздвоенного и сталкивающегося внутри себя разума. Только наш изощрённый разум способен из природы сделать лгуна, показывающего не то, что есть на самом деле. Причём показывающего самому себе! Ведь как мы в целом, так и наш изощрённый разум в отдельности, есть часть этой природы. До какого же предела изощрённости надо дойти, чтобы втиснуть в наше сознание, его же, сознания – совершенный антипод? – «Вещь в себе», не зависимая от пространства и времени, и всё же сущностная, объективная реальность. Ведь пространство и время составляют главную основу нашего сознания и консистенциальную основу нашего алгоритмического мышления. И всё, что вне этих первопричинных стихий, – значило бы, – вне мира вообще.
«Вещь в себе» как некая фундаментальная существенность мира является перманентной бездной, – свищем нашего сознания. Она есть некое место, где должны исчезать все физические законы мироздания. Где свобода, некая полная свобода выступает как само собой разумеющийся объективный факт. В отличие от присущей нашему разуму реальности, от фундаментальных основ действительности, для которых свобода всегда лишь относительность, – лишь иллюзия.
Две «инертные стихии», пространство и время, каждая из которых в отдельности представляет собой ничто, – пустоту, в своём синтезе порождают материю, некую основу нашей действительности. Материю, которая становиться антиинертной в своей сути, которая воплощает, – материализует собой стремление, и, приобретая реальность действительности, наделяется нашим разумом неким «синтетическим посредником» висящим между инертными стихиями пустоты, - материальностью. С присущей как будто бы ей, той самой пресловутой «вещью в себе», которая необходимо включает в себя качества, как первого, так и второго. То есть содержит в себе как инертность отдельно взятых стихий пространства и времени, так и обладает существенностью бытия реальной действительности.
Так как же так получилось, что природа стала нам лгать, что она стала лгать самой себе, выдавая себя за то, чем не является на самом деле. Одеваясь в явление и скрывая свою сакральную наготу, она вдруг стала придавать себе те черты, которые ей вовсе не принадлежат. Я полагаю, что корень всего этого лежит в той неистребимой глубокой религиозности человеческого рассудка, веками вбивавшейся в него и набившей оскомину величиной с сам разум, теистической формы осознанности, которая пробивается повсюду, как сорняк пробивается сквозь асфальт. Наш взгляд на действительность, каким бы он не казался атеистичным, всегда будет нести в себе зерно религиозности. И даже такое, казалось бы, не имеющее никакого отношения к теистическим воззрениям понятие как «вещь в себе», если посмотреть глубже, имеет источником всё ту же глубокую религиозность человеческого сознания. Что же это, – как не Бог, как не его трансцендентная завуалированная пантемида, эта воплощённая в понятие независимая ни от кого и ни от чего субстанциональность. Бестелесная в своей сути, и уже потому – абсолютно свободная. Субстанциональность, произвол которой диктуется лишь самой этой субстанциональностью. В ней, – в «вещи в себе» проявляются те основы, те критерии религиозности, которые свойственны всякому теистическому воззрению.
Это глубочайшее понятие возникло как необходимая последовательная «законченность мира как представления». Как только мы обозначили «явление», тут же по принципиальному закону нашего линейного парадоксального разума, появилось и нечто противоположное. Ведь если есть явление, то должно быть что-то на чём это явление зиждется, – нечто вне явления, и в то же время, сохраняющее все признаки явления, – нечто закулисное.
Осмысление мира как явления, неминуемо приводит к понятию «вещи в себе». Это закономерность нашего мышления, его архаическая парадигма, приводящая его всегда к истокам, со всеми вытекающими из этого последствиями. И сколько бы наш «рационально-аналитический разум» не убеждал наш «идеальный разум» в том, что за явлением нет ничего что мы могли бы мыслить, что Природа – не лжёт и не прячет своей сущности, что она есть именно то, чем является нам, что её явление и есть её суть, и за этим явлением лишь полная пустота, – «Великая пустота без времени и без пространства», – пустота, не имеющая даже своей бездны, это никогда не убедит его, ищущего всегда и во всём свой собственный источник в возможностях осмысления мира.
Я прекрасно понимаю, каким образом возникло такое понятие как «вещь в себе». Оно возникло из того колоссального затруднения, с которым сталкивались Великие умы прошлого. Их безграничный, и в то же самое время ограниченный своим полем воззрения разум, в какой-то момент вдруг подошёл к неразрешимой проблеме. Он шагнул к тому пределу, за которым таилось «НЕВОЗМОЖНОЕ». И уходя всё дальше в эти немыслимые пределы, он начал проваливаться под лёд, он стал сваливаться в бездну, и разумеется, стал искать опоры. Проникнув на такую глубину мира, где уже кончаются не только всякие дороги, но где просто-напросто идти дальше некуда, он встал перед выбором, либо провалиться в эту бездонную пропасть, либо зацепиться за любую возможность остаться на плаву. И он сделал, и делает до сих пор свой правильный выбор. Он оставляет себя в «пределах возможного».
Вещь в себе» появилась тогда, когда наш разум, подойдя к границе собственного осмысления, в силу своей природы, не смог остановиться и пошёл дальше. Но пропасть, возникшая перед ним и напугавшая его, спровоцировала поиски «мостка», который мог бы служить опорой его поступи. И он был вынужден найти нечто более-менее твёрдое, а по сути, наделить «невозможное» понятием, придать ему образность, присущую осмыслению своей собственной бытовой действительности. И обозначив её, как «вещь в себе», наградил бытием.
Зачатие этого понятия, как водится, произошло гораздо раньше, ещё в глубокой древности, когда только начали происходить первые «совокупления» теологии и науки. В результате этих «совокуплений», рождались совершенно новые направления в осмысливании мира. Где наряду с научными генетическими зачатками, присутствовали и религиозные мотивы. Ибо тогда, всякая наука имела своими основаниями, как строго научные факты, так и теологические догмы, и религиозные воззрения. И до сих пор наука сохранила в себе этот глубоко завуалированный теизм. Ведь если копнуть глубже, то всякая наука основана в первую очередь на веровании. Кем бы был учёный, не верь он в затвердевшие фундаментальные истины собственного познания. И если ты, во всеуслышание кричишь о своей атеистической натуре, это ещё не говорит о том, что в тебе нет теизма. Скорее наоборот. Как раз то, что ты кричишь во всё горло, говорит о твоей неуверенности и жажде этой веры, и безоговорочному пиетету к ней. И на самом деле выявляет твою глубоко теистическую кровь.
«Вещь в себе» как догмат, является закономерностью, вытекающей из самого строения нашего разума, из его архаической природы. Эта запредельная парадигма заполнила ту нишу, которая образовалась в результате роста нашего сознания, в результате его расширения. В какой-то момент возник кризис, некий «диссонанс сознания», после которого необходимо стало расти общее напряжение. Наш разум должен был получить разрешение этого напряжения, то есть получить свой «консонанс». Его природа, природа его воли, требовала этого разрешения, и оно не заставило себя ждать. Наш разум получил один из самых запредельных «консонансов». – Главное удовлетворение разума, пусть мифическое, запредельное, не доступное пониманию, но всё же – удовлетворение. И не разрешись он этим «консонансом», кто знает, чем ещё он мог бы разрешиться, может быть чем-нибудь совершенно катастрофическим.
Рождение Вселенной. Взгляд изнутри
Далее моё повествование почти не будет отличаться от классической фантастики, и в своей метафорической форме может показаться несерьёзной игрой слов и воображения. Для умов, придерживающихся выверенного классического порядка умозаключений, последующее глубокое исследование, скорее всего не произведёт никакого впечатления. И я отдаю себе в этом отчёт. Но практическая невозможность в ином контексте выражать в своём наиболее полном глубоком образе то, что я пытаюсь выразить, толкает меня на этот шаг. Ибо описать в алгоритмах эмпирики чистой физики, с помощью простых рациональных инструментов, этот глубочайший и эфемерный образ моего сознания и воображения, не представляется возможным. Всю возможную критику выбранной формы я оставляю вам.
Для того чтобы представить себе пусть приблизительно, рождение Вселенной из «ничего», её рост и формирование, и убедиться в резонности такого воззрения, достаточно посмотреть трансцендентно-образным взором на возникновение и рост человека как индивидуума, как сверх слаженной системы, из невидимого человеческим глазом сперматозоида. Ибо если отбросить условности и посмотреть обобщающим глазом, здесь так же как в случае с Вселенной, практически из ничего вырастает «огромное тело» со сложнейшей внутренней организацией. Заполняющее собой пространство в тысячи раз большее, чем изначальная завязь.
Как известно из последних гипотез, и, если следовать их логики, Вселенная родилась из мельчайшей «флуктуирующей точки», размером в 10(-37) степени нанометра. И в результате «инфляционного расширения», достигла невероятных размеров своего сегодняшнего бытия. Так вот как я всё это себе представляю. Вообразите, что существовал некий «абсолютный баланс», который для нашей действительности есть – ничто. Где не было ни материи, ни времени, ни пространства, ни объектов, ни субъектов, ни каких-либо стремлений и движений. И вот этот «абсолютный баланс», который можно себе представить лишь теоретически как полное отсутствие, как «ноль», как некое «антибытие», в котором потенциальные противостоящие силы разноплановых стихий совершенно равны, абсолютно сбалансированы, а значит, нет никакого движения, никакой возможной динамики, ни в каком возможном направлении, вдруг – нарушается. То есть в силу ряда латентных причин, условно говоря, центр тяжести смещается со своего абсолютного сбалансированного зенита, и этот «абсолютный баланс» нарушается в пользу одной из пока не существующих, или сказать для ясности «спящих» сил. Условно говоря, в пользу «центробежной силы», (антигравитации), в ущерб центростремительной силы (гравитации), что провоцирует объективирование пространственно-временного континуума, и последующее появление Сущего. То есть происходит некая «мутация пустоты», – видоизменение «абсолютного баланса». И вместе с этим, как только начинает объективироваться Сущее, возникает стремление, как произвольное желание архаической природы вернутся в своё лоно, – к своему «абсолютному балансу». И далее возникает соответствующая и адекватная этому стремлению динамика, во всех возможных плоскостях распространяющегося пространственно-временного континуума. То есть синтезируется время и пространство, как отдельные изолированные друг от друга монады, как неотъемлемые условия существования материальности. Назовём это явление, (опять же условно) «положительный баланс», или «баланс плюс». Почему «баланс плюс», да потому что в природе существует и альтернативный «баланс минус», которого мы до поры до времени не знаем, будучи уверенными в том, что материя вечна и никуда не исчезает. Но гипотетическое существование, которого, не оставляет у меня никаких сомнений. Он должен олицетворять собой необходимый переход от условных доминант антигравитации, к доминантам гравитации, с последующим полным упразднением материальности.
Так вот в результате этого нарушения абсолютного баланса природы и возникает материя, а с ней и действительность как таковая. И генетика этого архаического изначального глобального явления, проявляется во всём, что существует в нашей сегодняшней действительности, и конкретно на нашей Земле-матушке. «Флюиды» этого архаического фундаментального явления, отражаются в алгоритмах всякой динамики, всякого бытового движения на нашей планете. И самый наглядный пример, это именно то зачатие и рост биологического организма из мельчайшей клетки, основанное и черпающее всю свою патетику в первую очередь, из нарушения архаики природного естества.
Вообще материя как таковая, – то, что мы называем «Сущим», для нашего воззрения есть «спекулятивная форма синтеза пространства и времени». Как я обозначил выше, это объективированный в ощущаемые предметы, синтез противостояния не существующих по-отдельности монад пространства и времени. И это именно то, что позволяет существовать нашей действительности и разнообразным объектам реального бытия. Но с точки зрения трансцендентального опыта, Сущее (материя), – в своём естественном объектарном существе, есть наша – чистая иллюзия. Ибо пространство и время – сугубо дефиниции нашего разума, и вне его – не существуют. Сам же механизм восприятия, есть взаимоотношение скоростей и форм динамики внутри воспринимаемого нами объекта, с нашими внутренними скоростями и формами динамики ноумена. То есть отношение скоростей внешних со скоростями воспринимающего субъекта, (наблюдателя). (в алгоритмах разумения ноумен-феномен, как единственно возможной сублимации воспринимаемой действительности). Скорость же, – есть отношение времени и пространства, воплощающийся в динамику, адекватную стремлению. Ведь не случайно, скорость как таковая, обозначается нами как отношение времени к пространству. (М/с, км/ч.). То есть всякая «субстанциональность», в сути своей, – есть лишь отношение пространства к времени, то есть, в конечном счете, лишь – функция. Функция, существующая лишь на разнице, на соотношении движения – к пространству, и более никак. И в тоже время, она есть сублимация иллюзии нашего сознания, по отношению к феноменальному, и по сути воображаемому миру. А значит иллюзия, является единственной достоверной реальностью нашего бытия.
Далее. Мы, люди, как всякие иные субстанции мира, в своём становлении и своей стагнации, до определённого времени, находимся в том же «балансе плюс», реального пространственно-временного паритета собственного становления. Мы, возникая и накапливая энергию, расширяясь во все стороны феноменального, трансцендентального и метафизического миров, возникаем в пространстве как некий конгломерат внутренних динамик, противостоящий внешним динамикам мира. Затем происходит разворот на «баланс минус», и мы начинаем потихоньку разрушаться. То же самое когда-нибудь произойдёт и с нашей Вселенной. Она неминуемо развернётся в «баланс минус» и в ней начнут преобладать кризисно «центростремительные силы», взяв курс на полное уравновешивание, – на «абсолютный баланс сил» в глобальной архаической природе мира. И тогда наш действительный мир начнёт потихоньку исчезать. Материя как таковая, неминуемо начнёт самоуничтожаться. Мир фатально и необратимо станет «само упразднятся». Его основа, – нарушение, дисбаланс, будет постепенно уравновешиваться, тем самым уничтожая нашу реальную действительность бытия. Начнёт пропадать, как форма этой действительности в том виде в каком мы её теперь воспринимаем, так и сама существенность. Условно говоря энергия, постепенно перейдёт в такое качество, которое не будет доступно никакому восприятию, ибо не будет иметь в себе нарушения, а значит и движения. И мир перейдёт в своё архаическое состояние, – в «качество пустоты», чтобы когда-нибудь снова нарушится и тем самым воплотится в виде какой-нибудь действительности. Хотя, может статься, что этот разворот уже произошёл. И мы со своей ограниченной сенсорикой умозрения, просто этого не замечаем.
Что же такое в своей сакральной сути выведенный и обозначенный мною – «Баланс плюс»? Попытаюсь объяснить ещё более наглядно, что я собственно вкладываю в это понятие. Ведь это – нечто сверх образное, нечто глубоко метафорическое и запредельно метафизическое в самой своей сути.
Итак, начну из самого далека, – из самой сакральной относительности. Всякая «организованная система» нашего мира, имеет общее для систем действительности, свойство. Она, в процессе своего становления поглощает и отдаёт определённое количество энергии, а сказать точнее она пропускает через себя эту энергию, трансформируя её. И существование всякой «организованной системы» обеспечивается неким преобладанием «положительного механизма» над «отрицательным», (Условно, так как всякое понятие положительного и отрицательного есть проблематическая условность осмысления). Назовём его неким доминированием плюсового характера. То есть, условно говоря «доход» такой системы, немного превышает «расход». И за счёт этого мизерного, казалось бы, незначительного преобладания, не замечаемого нашим взором, (а будь он хоть немногим большим, то перестал бы существовать сам баланс), строятся и существуют все объектные структуры и системы нашего мира. Начиная с атомных структур, белковых соединений, и кончая самой Вселенной. Этот механизм обязателен для всякой системности нашего мира.
Далее. Как я отмечал выше, твёрдость, жидкость, непроницаемость, и т.д. Как и объём оцениваемого объекта, всё это только по отношению к нам являет свою определённость и достоверность. Всё это не имеет вовне нас, никакой объективности, никакой самостоятельной реальности. Ибо всякая формативность и субстанциональность, на самом деле есть отражённая вовне способность и возможность продуцирования нашим ноуменом, иллюзорно чувствуемая нами и оцениваемая, как восприятие форм. Но всякая оценка есть лишь отношение, – впечатление, построенное на контрасте, и никогда объективность. Впечатление, основывающееся лишь на разнице потенциалов, разнице собственных внутренних объёмов и движений ноумена, как некоей целокупной формы его собственных сцепленных потенциалов, с формами внешних блуждающих потенциалов, где реальность первого зависит от второго так же, как второго – от первого. Наш ноумен, а конкретнее его рассудок, исходя из собственной возможности и возможности организма в целом, основанной на форме, объёме, и скорости своего собственного «общего метаболизма», выстраивает реальную действительность, как некую целокупность отношения к себе внешних объектов. И затем передаёт в аналитический разум, сложенную в мозаику целокупную палитру разнообразия внешнего мира. Где с помощью «ферментной секреторики» аналитического разума, происходит «переваривание», разложение, обобщение и синтез поступающего материала. И выводятся, как некие «выжимки», как некие «рафинированные сути», соответствующие существующим транскрипциям ноумена, трансцендентальные определения и оценки.
А теперь попробуйте посмотреть на те же объекты внешнего мира, с точки зрения иной возможности. С точки зрения иного субъекта, иного ноумена. К примеру, для такого живого организма как «электрон», – металл, так же, или почти также проницаем, как для нас проницаем воздух. Для живого фотона, – стекло, как известно, не препятствие. Для нейтрона гамма излучения, – вообще сложно найти какое-либо препятствие и т.п. Всякие оценки внешнего мира возможны – лишь по отношению, лишь исходя из собственной архаичной агрегатности. И всякое определение истинности внешнего мира, всегда лишь только субъективно. Объективности, (в собственном смысле истинности), – вообще не существует в этом мире.
Для того чтобы представить себе, что есть «Ничто», (пустота), и что есть «Действительность», (реальность), с точки зрения трансцендентального опыта, и в рамках чистой метафизики, я нарисую три возможные картины бытия.
Первая, это «Нулевой баланс». Абсолютно уравновешенные потенциалы. Когда, условно говоря «доход», – равен «расходу». Этот «абсолютный баланс» характеризует само «ничто», – пустоту. «Сущее», – всегда в некотором дисбалансе, оно есть продукт, – дитя нарушения, в нём всегда есть дисгармония, а значит, есть стремление. И это стремление провоцирует непрерывное общее для всего и вся движение. Условно, либо прогрессивное, либо регрессивное, которые невозможны в «абсолютном балансе». Ведь «Сущее», как дитя нарушения, в силу внутреннего дисбаланса, стремиться обрести изначальный баланс, тем самым продуцируя безостановочное движение, воплощающееся в нашем представлении в материю, в нечто сублимированное, – в субстанциональность. «Сущее», всегда имеет в себе стремление, оно не может находиться в покое именно потому, что в нём наличествует нарушение, – дисбаланс, непрерывно стремящийся к своему балансу. Пока в нём существует нарушение, – дисбаланс противостоящих стихий, которые я обозначил для наглядности условно, как антигравитационные и гравитационные, силы центростремительные и силы центробежные, оно всегда будет представлять собой нечто объективированное, – «материально-сублимированное». Повторяю, в полном абсолютном балансе, нет и быть не может никакого движения, ибо невозможно никакое стремление. «Абсолютный баланс» это стопор, – коллапс, – бездействие, – состояние бытия, противоположное всякой действительности. Некий противоположный полюс бытия, предкреационистическое состояние этого бытия, как его полное отсутствие.
Вторая картина. – Положительное нарушение баланса (условно). Это когда «доход» немного превышает «расход». Это то, что мы видим и чувствуем вокруг себя, – действительность, где материя возникает и находится в прогрессивном, либо регрессивном стремлении сбалансированной последовательности. И если «доход» вдруг начал бы в разы превышать «расход», то произошло бы нечто вроде цепной реакции противоположного качества. Неминуемо образовалась бы «раковая опухоль природы». Стремительная неконтролируемая разбалансировка, и нарушение устойчивости мирового макрокинеза. Действительность – взорвалась бы, распухнув от чрезмерного «дохода». Произошло бы нечто генетически напоминающее взрыв. Макрокинезный взрыв, и последующий коллапс, хаос – как последствие перенасыщения определённого пространства. То, что случилось на первичных этапах мироздания, – то, что называют «Большим взрывом». Инфляционное расширение мира.
Кстати, если меня правильно поняли, всякий «взрыв» в моём понимании, это та же форма жизни, которая присуща и нам с вами. Мы так близки по сакральным принципам внутренней динамики, что, когда начинаешь это осознавать, мистицизм всей своей несравнимой ни с чем образностью, расширяет воззрение в разные стороны, с той же скоростью, с какой «живёт» всякий взрыв. Его динамика заложена в нашей природе, мы генетически являемся «взрывом, растянутым во времени», (сбалансированным взрывом, если хотите). И всякий «взрыв» родственен нашей сакральной организации. Пусть совершенно отдалённая от нашего осмысления и понимания, но всё же та же форма жизни.
И третья картина. – Отрицательное нарушение баланса, (также условно). Это когда «расход» превышает «доход». Так называемое «регрессивное движение». Это то, что ожидает всякую структуру нашей действительности, впрочем, как и саму действительность. Этот процесс необратим. И время разрушения, а значит, время существования разрушающегося объекта, зависит от общих законов мироздания, и от простой механики сакральных основ бытия. Насколько «расход» превышает «доход» в объекте, и от произведения массы этого объекта на пространственно-временной эквивалент (то есть скорость движений внутри). Чем крупнее и плотнее сформировавшийся материальный объект, тем сильнее его «силы существования», сила сохранения. И тем адекватно сильнее в нём, противоположная сила «антисуществования», – сила разрушения. Ведь инерционные силы свойственны как одной стороне мира, так и другой. А по всеобщему «закону баланса сил», воплощённого в физический закон действительности, = сила действия, должна соответствовать силе противодействия.
Возвращаясь к первой картине. Небольшое преобладание (условно говоря), доминирование «антигравитации» над «гравитацией», «центробежной силы» над «центростремительной», в результате нарушения покоя присущего абсолютному балансу, и условно говоря, доминирование положительной энергии над отрицательной, и есть тот краеугольный камень существования материи как таковой, в том виде, в котором мы её фиксируем своими органами чувств и своим разумом. Проще говоря, здесь выступает в своей непреодолимости преобладание энергии материализации (энергии существенного), над энергией антиматериализации (энергии пустоты). Где перевес сил со временем, обязательно должен перейти от «сил материализации», (сил существования), к «силам антиматериализации», (силам пустоты). То есть к полюсу абсолютного уравновешивания, – полюсу абсолютного баланса пустоты. По общему для всякого бытия, закону цикличности. Единственному абсолютному закону для мира, как пустоты, так и действительности.
Что интересно. Все законы нашего социума диктуются этими первородными законами мироздания. Вся наша социальная жизнь, пронизана этими физическими законами, как бетонная плита арматурой. Всякая структура в нашем социуме, существует и развивается по этим же вездесущим законам изначальной сакральной природы. Мы полагаем, что изобретаем правила бизнеса, правила построения систем, создаём кодекс общения, но на самом деле все эти правила и законы исходят из единого «закона существующего». Законы социума диктуются нам нашей же сакральной глубинной сущностью, которая неотрывна во всех своих «подробностях», от глобального миропорядка природы. Мы, не осознавая того строим всё вокруг себя по образу и подобию метафизических и трансцендентальных законов образования и существования Вселенной, по законам общей для всего и вся, действительности. По законам «природного доминирования», где для всякого существования необходим – баланс противосил, плюс небольшое преимущество, - (Нарушение). Видящий, да увидит! Насколько мы, во всех своих проявлениях без исключения, близки по характерным динамическим алгоритмам, по своим глубинным архаическим свойствам, ко всей глобальной природе, к Вселенной, с её непостижимыми пространственно-временными характеристиками.
Итак, ещё раз. Главным, и непременным условием для существования в действительности, является то, что я назвал «Балансом плюс». То есть, с одной стороны; сложившимся балансом внутренних сил, с другой; балансом поступившей и выделенной энергии, плюс «небольшой остаток», который и обеспечивает накопление «сцепленной энергии» (материи), а значит, само существование этой материи, во времени и пространстве. За счёт этого небольшого преобладания существует вообще, весь материальный мир. Другое дело, все процессы происходят либо под флагом прогресса, либо регресса, в условных транскрипциях наших оценок бытия. И это вопрос относительного направления движения, в рамках линейности нашего мышления, и в соответствии с «интересом» оценивающего наблюдателя.
Кстати сказать, обозначенные «прогресс» и «регресс», при всей условности их оценки, являются единственно существующими направлениями трансформативной действительности. Других направлений у нашей действительности просто – нет. Все остальные – надуманны. Все объекты нашего мира имеют стадию прогресса, и стадию регресса, повторяю, в условных транскрипциях оценки нами бытия. Мы, люди, накапливаем энергию очень быстро и быстро же её рассеиваем. Наш век – короток, в сравнении с какой-нибудь звездой, которая накапливает и затем рассеивает энергию миллиарды наших лет. И надо сказать, что именно это прогрессивно – регрессивное движение рожает и определяет параметры времени, как таковые.
Как бы мы не думали о себе, как о чем-то сверхсущем, как бы ни абстрагировали себя от всего остального, мы всегда останемся лишь крохотной частицей Вселенной, маленьким её воплощением, и унифицированной в собственном масштабе, транскрипцией её законов.
И главным недостатком нашего сознания, (а может и достоинством, кто знает), является то, что мы пока не в состоянии обнаружить, и тем более зафиксировать того пика разворота с прогрессивного движения, на регрессивное, в масштабах общего макрокинеза бытия. У нас нет органа, способного обнаружить этот переход, этот «горизонт событий». Но сами процессы «прогресса» и «регресса» в бытовой осознанности нашей жизни, мы ощущаем и осознаём довольно чётко и явно.
Метафора отношения сил
Вся динамика нашей жизни воплощена в бессмертной греческой мифологии, где сын повелителя ветров Эолы, строитель и царь Коринфа, после смерти принужден был в Аиде вкатывать на гору тяжёлый камень, который едва достигнув вершины, каждый раз скатывался обратно. В этом мифе заключена вся суть не только нашей жизни, но всего мира. И не только в непосредственной трактовке, как бессмысленности всякого труда, присущего нашей жизни, но и в метафорических транскрипциях отношения всевозможных порядков нашей действительности. Необходимость кризиса, и необходимость возвращения к началу, как аподиктической невозможности для действительности бесконечного прогресса, бесконечного восхождения, бесконечной дороги бытия. Зарождение, формирование и расцвет всякой системы нашей действительности, фатально обречено на кризис и последующий распад. Иного наша действительность, – не имеет.
Саму динамику кризиса противостояния и последующих необходимых разворотов от «баланса плюс» на «баланс минус» в метафорах простых бытовых явлений нашей реальности, как пусть не совсем подходящей, но наиболее наглядной форме, можно представить себе в следующих аллегориях. Первая аллегория, с преимущественным отклонением к полюсу временн`ого.
Представьте себе, что вы закатываете большую глыбу на гору. Вы будете катить её до того момента, пока у вас не кончатся силы и не наступит перелом, – кризис. Глыба покатится обратно с трудом сдерживаемая вашими усилиями, дабы не сорваться и не уйти в разнос. Пока мы катили глыбу наверх, преобладала «энергия антигравитации», (энергия материализации), доминировал «баланс плюс». Затем – кризис, и стала преобладать «энергия гравитации», (энергия уничтожения). Стал преобладать, условно говоря «баланс минус».
Вторая аллегория, с отклонением к полюсу преимущественно пространственного. Представьте себе, что вы надуваете воздушный шар. Пока вы качаете воздух, процесс противодействия внутренней энергии, – «энергии антигравитации», доминирует над «энергией гравитации», стремящейся его схлопнуть. (Воплощённый в реальность, – «баланс плюс»). Где внутреннее напряжение «сил антигравитации», доминируя над «силами гравитации», позволяют шару – объективироваться. Но вот наступает кризис, и «энергия гравитации» давящая на шар, начинает преобладать. Из этого шара начинает выходить воздух. «Напряжённость противосил», – образно говоря, меняет доминанту. И динамика разворачивается с «прогресса» на «регресс».
Ещё более условный пример. Поставьте для сравнения рядом два существующих объекта, к примеру, Солнце и Землю. И посмотрите на них трансцендентальным взором метафизика, исследующего сущность природы выше обозначенных трансформаций. Нарисуйте в своём воображении образ динамики их существования в контексте вышесказанного. Условно говоря Солнце находиться в «балансе минус», в нём доминирует «гравитация», провоцируя внутриядерные реакции, и выжимая его словно губку, превращая содержащуюся в нём материю в поток фотонов, рассеивающихся в разные стороны. В силу внутреннего синтеза, Солнце постепенно превращается в «ничто», его материальность разрушается, его объектарность рассеивается в пространстве. В Земле же напротив, преобладают «силы антигравитации». Земля – в «балансе плюс». Она впитывает словно губка лучи Солнца, превращая их в объекты на своей поверхности. Она поглощает космический мусор, она набирает массу. Но кто из этих космических гигантов на самом деле доминирует? Полагаю, – вопрос риторический.
Это не самый верный для понимания сути материализации, сути объективирования пространственно-временного континуума, но, пожалуй, самый наглядный пример того, что значит – объективирование, и что значит – разрушение. И пусть самого уничтожения материи как такового, в этом примере не наблюдается, но то проблемное архетипическое состояние одной и той же материи в различных перспективных векторах своей трансформации, – на лицо. Земля и Солнце, как нечто противоположное в собственной динамике, своим существованием отражают повсеместную динамику процессов объективирования и уничтожения материи, а значит действительности. И логикопоследовательная форма этого процесса, – всюду идентична. Всякий объект материального мира находится либо в «балансе плюс», либо в «балансе минус». Среднее состояние, здесь не имеет собственной продолжительности, как не имеет его миг времени. Ведь в нашей действительности, на самом деле – нет остановок, как не существует абсолютного анабиоза. В противном случае, случись такое, и в момент такой остановки действительность стала бы – пустотой. Нам только кажется, что в определённый момент нечто – останавливается. Но как я уже отмечал, энергия (материя), не останавливается ни на секунду, ни на миллионную долю секунды, ни на триллионную… В тот момент, когда нам кажется, будто произошла остановка, что нечто уравновесилось абсолютно, на самом деле динамика движения лишь вышла за пределы возможностей нашего фиксирования, и дисбаланс стал настолько тонок, что мы его просто не замечаем.
Наше Солнце, находясь в стадии «баланса минус», подобно тому воздушному шару, отдаёт свою энергию под давлением гравитации, стремящейся удалить очаг напряжённости. И хотя по нашим меркам ему ещё долго, около пяти миллиардов лет, всё же его кончина предопределена и необходима. Оно постепенно превратится в труп, – «Белый карлик». Отдав свою энергию тому, кто находится в «балансе плюс» в рамках нашей Вселенной. Вы можете возразить, сказав, что ведь Солнце не исчезнет совсем? Да. Пока сама Вселенная находится в «балансе плюс», все, что в ней содержится, не может исчезать. Ибо «баланс плюс» самой материальности – сохраняется.
И так. Этот процесс повсеместен, и я здесь не открываю ничего нового, я лишь строю параллели, обобщаю и идентифицирую. Я стараюсь проникнуть в самую суть явления. Я вижу мир таким, каким его описываю. И он представляется мне адекватно моему познанию, в силу мощности его «ног» – эксплицитного и имплицитного знания, которые опираясь друг на друга, шагают по планете неизведанного. В силу «рационального» и «идеального разумения» моего разума, которые в своём непримиримом синтетическом противодействии рождают некую всепроникающую «молнию разумения», – силу интуиции.
Что хорошо, а что плохо, что, на самом деле является утверждающим для нашей действительности, а что разрушающим и уничтожающим её, – большой вопрос. Ибо, на самом деле мы не знаем и не хотим знать, что является действительным злом, а что добром для нашего бытия, природы и жизни. Мы плаваем в собственных заблуждениях, словно в живительном растворе. То, что упорядочивает природу, успокаивает её, что ведёт к её абсолютной гармонизации, равенству сил, мы инстинктивно относим к добру. То, что разбалансирует её, раскачивает и приводит к хаосу, увеличивая общее нарушение природы, мы относим к злу. Но на самом деле всякая упорядоченность ведёт к абсолютному балансу, к уничтожению материальности, а значит, уничтожению действительности как таковой. А всякая разбалансировка, увеличение дисбалансов и амплитуд колебаний, разрыв упорядоченности, так или иначе, ведет напротив к укреплению позиций этой действительности.
Наша уверенность в аподиктической истинности и правильности созидания, как единственной цели для сохранения сферы нашего обитания, – обманывает нас. Созидания, как уравновешивания, как возможно наиболее тонкого сбалансирования природы, и всех её явлений, ведёт по пути к полному коллапсу, к остановке действительности, к стагнации её бастиона. И для нашего зеркального осмысления действительности, для нашего заинтересованного взгляда, заинтересованного в сохранении материализации природы, по большому счёту, должны быть обратные цели и противоположные ценности. Мы должны быть заинтересованы в укреплении вектора материализации, а значит в разбалансированности, в увеличении нарушения, как единственного оплота нашей действительности. Ведь наша суть, если она не стремится к собственной смерти, к собственному уничтожению, (а такое впечатление вызывают все наши векторы в жизни), должна стремиться к пользе для себя, к увеличению собственной платформы, к расширению поля, ареала обитания и должна выстраивать всё внешнее, исходя из этого алгоритма.
Как? Значит, на самом деле, чтобы стремится к добру, мы должны стремиться к злу?? И когда мы уверены, что ведём свой путь к созиданию, на самом деле мы идём по пути, который кончается пропастью, полным уничтожением основ действительности?
То, что для всего частного является злом, для общего непременно предстаёт добром. И наоборот. Такова природа, такова необходимая парадигма действительности, таков сущностный парадокс бытия.
Здесь столько ошибок, столько несуразицы, столько чистой фантазии, не подкреплённой ничем, что создаётся впечатление общей неразумности твоих пасквилей! Да. Но на это можно ответить следующим образом: что касается ошибок мировоззрения и вообще всяких ошибок и недоразумений, взгляните в историю. Сколько раз ошибки оказывались со временем истинами. – И наоборот. Нет! Уж лучше идти по собственным ошибкам, чем из страха сделать неверный шаг, утонуть в болоте сомнения. Я отдаю себе отчёт в том, что пишу иногда то, что выходит за рамки рациональной разумности, что подчас моё повествование граничит с фантазией играющего ребёнка. А собственно, почему бы нет? Фантазия, – бьющая ключом изнутри, – первая открывает всякие двери. Авангард, – идущий впереди всех наук! Она, – подобно лучу мощного прожектора выхватывает из темноты куски прозрения! И именно эти «куски», выхватываемые нашими воззрениями и нашими разумениями из окружающей тёмной действительности, со временем складываются в удивительную и грандиозную мозаику мира. Да, именно мозаику. Ведь в нашем воззрении, в нашем прогрессивном миро построении, отдельные кусочки – воззрения людей, должны совпадать по своей конфигурации с уже выложенными ранее. В противном случае «мозаика» не соберётся в гармоничное целое. Для общей мозаики нашей действительности всё, что изобретается и открывается умными головами, должно непременно гармонировать с уже сложенным полем исторической фундаментальной действительности. Все «фантомные», не вписывающиеся куски, будут отторгнуты, выброшены действительностью как чужеродные, либо отпадут сами собой как рудименты. И не важно, действительно они фантомные, фальшивые, или просто не вписывающиеся в общую динамику, в утвердившуюся последовательную доминанту обобщённого сознания и представления общего выстраиваемого мироздания. Ибо только гармонирующее с уже созданным, имеет право на существование в осмысливаемой нами действительности. И этими дорогами следует не только простое феноменальное умопостижение действительности, но и всякая наука, и всякое трансцендентальное знание.
Повелевает то, что организовалось и выстроилось ранее, что имеет свою историю, свои мощные корни и крепкие консоли. Доминирует всегда гармонично слаженное, целокупно-упорядоченное и устоявшееся. Это повсеместный закон природы. = Слаженные в мелодию ноты, гармонично сочетающиеся диссонансы и консонансы, общая полифония агрегата, основательно выложенная молекулярная решётка, законченный алгоритм умозрения, и т.д. вписывающиеся в общую историческую «симфонию мира», сложатся и впишутся в единую мозаику, единую полифонию этого мироздания, создав тем самым лишь «дополнительный этаж» в законченности мироздания, в законченности мира человеческого представления. Где красота, как лейтмотив всякой упорядоченной действительности, займёт свой трон, держа в руке жезл гармонии и повелевая этим миром.
И если наша интуиция, как «синтетическое дитя инстинкта и разума» в своём свободном полёте родит мысль интуитивную, тонкую, идущую изнутри, как бы навеянную божественным, чем-то неосознанным, чем-то всеобъемлющим и вездесущим, то наш «аналитический», «рациональный и практический разум», обработает её, разложит по баночкам, и расставит по полочкам в чулане, как некий запас для собственного усвоения, осмысления и удовлетворения. Мысль интуитивная, вышедшая из пещер идеального сознания, переложенная на упрощённый язык рационально-практического сознания, а по сути приведённая к своим собственным алгоритмам божественная тайна мысли, есть умерщвлённая субстанция. Лишив её изначальной свежести, первородности, приправив солью или сахаром разумности и целесообразности, фактически изуродовав её, законсервировав и лишив «витаминов», оно лишает её собственной природы, живости и естественности полёта, прибивая «гвоздями собственной упорядоченности» её рвущееся за облака, тело. Трансформирует её в нечто иное, в иную форму пребывания – в «рациональность бытовой и практической пригодности. И оно, это рационально-практическое сознание, называет это превращение в разумную последовательность, – осмыслением.
Верно говорят: Первый взгляд – всегда правильнее, первая мысль – самая истинная. Пока её не обработал наш рациональный практический разум, пока его не оскопила наша целесообразность.
Параллели
Природа – от природы глуха и слепа! Но поступает всегда – педантично правильно. Её мощнейшая интуиция – бесспорна! Причём, при полном отсутствии в ней какого-либо анализа. И как раз в силу отсутствия в её глубинных недрах этого анализа, она собственно, почти никогда не ошибается.
Природа присутствует здесь всюду и каждое мгновение. И в то же время она не имеет своего «тела», отсутствуя как нечто законченное, а значит, как нечто объективно сущностное. Она – метафора бытия, пар над бездной, монада действительности, в облаке которой всё и вся существует. Её мудрость соизмерима только с её равнодушием ко всему, что она же и создаёт. Её целеустремлённость, – соизмерима с её же бесцельностью. Она подобна ветру, дующему то в одном направлении, то в другом, то в обоих направлениях сразу. Она, – река без берегов, без истока и устья. Мой разум не в состоянии охватить и постичь её целиком, в силу её безграничности и многогранности, в силу отсутствия в ней какой-либо законченности, в силу её расплывающейся и растворяющейся в океане бесконечности, телесности.
Человеческое мировоззрение складывалось по кирпичику веками. Оно подобно формирующемуся организму, растёт и развивается из поколения в поколение, на полях трансцендентального бытия, в дремучих лесах запределья сознания. Словно «величественный буйвол», пасущийся в закордонных долинах человеческого разумения, человеческое сознание незаметно трансформируется в «Мамонта», который, в свою очередь постепенно превращается в «змею» и «кролика».
Человечество, если представить его как нечто целое, как «организм» родившись около пяти миллионов лет назад, (исходя из научных гипотез), в своём становлении, как и всякий иной организм, сам формировал собственное тело, освобождаясь от отработавших своё «клеток», и строя новые поколения, новые небывалые колонии клеток, молодые и сильные организации. Человечество в целом, в своём становлении совершенствуется как всякий вид «Дарвиновского зверинца». Утончая собственную душу, всё более одухотворяется, называя это одухотворение прогрессом. Совершенствую свой разум, оно истощает тем самым свою волю. Ведь закон сохранения энергии повсеместен и вездесущ. Приобретаемая сила и мощь в одном, должна черпать эту силу и мощь в другом. Развитие корневой системы, как правило, позволяет развиваться стволу и кроне. Но чрезмерное разветвление корней, истощает ствол и крону, превращая их в рудименты. То же относится и к кроне. Человек уже почти забыл о своих корнях, он превратился в «перекати поле». Тем самым он многое приобрёл, но многое и потерял.
Всякая динамика нашей действительности, какого бы она не была характера, – волнообразна. Человечество, как всякий организм, как всякая иная природная организация, имеет в своём развитии как «всплески прогресса», так и «откаты регресса». Но так ли на самом деле обстоит дело, как мы то, оцениваем? Не меняются ли наши оценки этих волн, местами? Не происходит ли подмены истинных целей природы, в нашем рационально-оценочном разумении? Ведь мы всегда – глубоко предвзяты в своих оценках всего, с чем нам суждено сталкиваться. И надо признать, что по большому счёту недостаточно разумны для чистой объективности воззрения. Нам не хватает остроты и глубины созерцания, воззрения и осмысления. Мы всё ещё дети, в своих потребностях и оценках, в своих стремлениях и пожеланиях.
Моё «Генеалогическое древо» уходит своими корнями вглубь веков. И эта «цепь» никогда не прерывалась. В противном случае, как бы мог я существовать здесь и сейчас? Но каковы истинные корни этого древа, каковы причины моего становления и развития? Каковы цели этого становления? Если мы когда-нибудь найдём истинные сакральные цели природы, всех её трансформаций, преобразований и течений, то мы автоматически поймём цели нашей цивилизации. Ибо цивилизация социума, в своей сакральной природе ничем не отличается от природы феноменального мира.
Схожесть динамики процессов глобальной истории социума, с процессами течений и преобразований физического феноменального мира, в рамках широты восприятия одного человеческого разумения, и в рамках его время ощущения. Все исторические человеческие отношения, война, мир, политические столкновения и взаимодействия, и т. д. В глобальном смысле отражают своей агрегатной динамикой все латентные движения физического мироздания. Как в простых трансформациях отдельного материального тела, так и в метафизической и трансцендентальной воззренческих областях разумения. Улавливаемая не вооружённым взором, удивительная идентичность форм динамики трансформаций в исторических процессах социальной плоскости, с «каузальными цепями» трансформаций физического мира феномена, всё, что способен идентифицировать и оценивать наш разум, трансформируется и развивается по одним лекалам. Рождение, жизнь и смерть государств, «кланов» и «подкланов». Всё происходят по тем же динамическим законам, что и рождение, жизнь и смерть всякой «структуры» физического феноменального мира. Будь то Кварк, Молекула, Животное, планета, Галактика, или Вселенная. Вся история мироздания, с этого угла зрения, представляет собой одно глобальное повсеместное становление, с входящими в него разноплановыми мелкими и крупными становлениями. При абсолютной невозможности становления самой природы, как чего-то целого и законченного.
История человечества, в собственной целокупной динамики всех процессов, представляет собой зеркальное отражение физики простых природных явлений. Всякая наша «социальная система», своей агрегатной динамикой повторяет креативную систему физических процессов, присущих как всем органическим «саморегулирующимся системам» биологического мира, так и системам электроплазматического и химикомеханического. (Идентификация определённой причастности – условна). В её формосплетениях, её последовательных коллизиях я нахожу схожесть со всеми динамическими процессами всякой «живой» и «неживой» структуры, занимающей своё место в природе. Фатальная непрерывность «каузальных цепей», зависимость синтезов и преобразований, трансформаций и метаморфоз, присущих как индивидууму, так и «клану» «общего природного макрокинеза», имеют своё олицетворение как в полях чисто физических явлений, так и в полях трансцендентальных сфер бытия, сфер нашего безграничного сознания. Становление, рост, кризис и распад. Рост влияния, набирающий и расширяющий свои позиции, пропорционально росту общей массивности, агрессивности и упорядоченности. И т. д. и т. п. Неразрывная связь всех этих процессов, в единый отрегулированный макрокинез. Что в своей совокупности составляет единый неделимый организм, – природу, в которой нет ничего лишнего, ничего чужеродного. – Нет ничего «неживого» в своей сакральной существенности.
«Всё, – от мала до велика
Единой нитью сообразности прошито.
От грязи древней, вековой
До построений умной головой…»
Особенности молекулярных отношений физического мира, транслируются на отношения сложных агрегатов, в объёмах нашего простого созерцания и его перспектив. Проявление волевых качеств отдельного человека, транслируются на поведение целого государства. Эти качества, воплощаются в государстве и отражаются в нашем воззрении, словно в перевёрнутом зеркале. Менталитет народа, его обобщённый характер, копирует характер индивидуума. Все реакции, присущие отдельной личности присущи так же и государству как «клану», как организму, как целокупной личности, наконец. У этого «клана», в силу его структурного строения, объёма и индивидуального метаболизма, иная инерция, иная скорость, но суть – та же. Ведь сами механизмы, формы механики, в своих динамических возможностях нисколько не отличаются от общих для организмов и систем всего феноменального мира.
«Закаливание», – присуще как биологической системе, так и физической. «Упорядочивание», служащее противостоянию агрессии внешнего мира. Сама «агрессия», как необходимое последствие накопленной энергии, стремящейся вылиться наружу. И даже «болезни», присущие «организму – человеку», присущие «организму – государству», так же присущи всякой системе неодухотворённого, физического мира. К примеру, коррозия, или окисление, стремящиеся разрушить сложенную в определённый порядок, систему. И в какой уголок не загляни, всюду просматриваются аналогии, всюду находишь схожесть механики процессов.
Мир, – словно бесконечный океан, создаёт внутри себя – «сгустки–абстракции». Которые рассеиваются, и снова образуются в новые формы. И всё это, не зависимо от уровня, происходит повсюду, во всех возможных широтах. Начиная с Вселенной, образовавшейся как «нарушение абсолютного баланса стихий», объективировавшийся в результате этого нарушения, и превратившейся в сложную, слаженную структуру, – в организм, плавающий в Великой пустоте», и кончая самой мелкой структурой, «существующей» в рамках этой Вселенной.
И вот что важно. Продолжительность существования, то есть жизнь планеты, и даже Вселенной, нисколько не отличается от продолжительности жизни молекулы, в строгом трансцендентальном смысле отношения времени и пространства. Ибо общего для всех и вся времени, – не существует. И каждая продолжительность, только с нашей точки зрения мала или велика. По отношению к Вечности, что ни возьми, – всё будет мигом. Область нашего восприятия ограничена, в одну сторону; – Галактиками, Скоплениями галактик, и Вселенной. В другую; – Молекулами, ядрами, и кварками. Вот собственно, наш диапазон пространственного восприятия, и соответствующих этим объектам временных параметров. Ведь всё, что здесь происходит в пространственном смысле, то же самое происходит и во временн’ом. Мы ограничены нашим восприятием времени, его динамикой, и всё, что выходит за рамки этой динамики, выходит за рамки нашего понимания и нашего осмысления, а значит, выходит за рамки нашего мира.
Перспектива осмысления
Заканчивая первую главу, хочу подвести некий итог всего вышесказанного. Но сначала, предвосхищая один из проблемных вопросов относительно «живого» и «неживого», а именно в отношении присущей якобы только «живому» репродуктивности, хочу отметить следующее: Воспроизведение себе подобного только на первый взгляд является особенностью сугубо «живого». Если же посмотреть на этот вопрос несколько шире, то в так называемой «неживой агрегатности природы», обязательно найдёшь признаки той же репродуктивности, лишь с иными модальностями. И эти процессы, если посмотреть на них не предвзятым взглядом, окажутся идентичными динамикам и модуляциям природной субстанциональности «живого». И наоборот. Репродуктивность «живого», так или иначе, повторяет динамику процессов в так называемой «неживой природе». То есть всё те же механизмы, но в своих временных, перспективно-формативных и модульных параметрах. Наиболее известные и близкие нам по чувству времени и формам модуляций, бесспорно принадлежащие к «миру неживого», это всевозможные кристаллические структуры природы.
В сущности, то сакральное, не осмысливаемое нами до конца явление, которое мы позиционируем как репродукция, есть естественный ход сущностной основы всего материального. Некий лейтмотив его главной архаической особенности, берущей своё начало в самом рождении сущностного, как такового. Следствие той изначальной метаморфозы, послужившей предикатом нарушения природного абсолютного баланса, (именуемого флуктуацией). А именно вытекающей из последствия этого нарушения, названного мною «балансом плюс», материализации пространственно-временного континуума, объективирование его как некоего зачатия для всего сущностного. Нарушения, после которого с неимоверной скоростью начало возникать всё материальное, как нечто «продуктивное» от потерявшего равновесие «абсолютного баланса природы». Нарушения, воплотившегося в некую «Материнскую платформу» для действительности, как таковой.
Ко всякой структуре материального свойства, и не только содержащей в себе углерод, мы являемся ближайшими родственниками. У нас, как бы мы не были далеки друг от друга, обязательно найдутся механизмы идентичного характера и динамики. Ведь даже сама суть «Баланса плюс», как некоей изначальной причинности существования материи, заключает в себе некое постоянное преобладание антигравитационных сил, над гравитационными. Как в широком смысле мироздания и его сущностной материальности, так и в узком, относительно некоего постоянного прироста на всех уровнях, и расширения полей. Я говорю сейчас о том, что наш разум часто оценивает, как одну из сторон становления, некоего «прогрессивного» заполнения пространства морфокинезными объектами. На этом строится наше умозрение прогресса и регресса как таковых. Материя не исчезает и не появляется для нашего восприятия, только в силу того, что она в сути своей, есть «ничто», и только нарушение абсолютного баланса позволяет ей объективироваться. Но формы её, в силу генетической основы «Баланса плюс», для нашей действительности всегда находятся либо в регрессе, либо в прогрессе. Ибо здесь царствует стремление.
Понятие «живая ткань» на самом деле гораздо шире, чем мы привыкли себе представлять. Я знаю, что многие светлые умы бились и бьются над этой проблемой, и у каждого свой неповторимый взгляд. Я же пытаюсь сформулировать свой. Если попытаться суммировать необъятное, и постараться в одном тезисе отразить мой взгляд на жизнь как таковую, и определить некую точку отсчёта для «живого», то получится примерно следующее: По моему глубокому убеждению жизнь как таковая, начинается именно с того нарушения «абсолютного баланса», которое предшествовало возникновению материи. Нарушения абсолютной гармонии пустоты и последующей флуктуации и инерционных разрастаний этого нарушения. И потому я отношу к «живому» всё, что можно отнести к материальному. И этот тезис, скорее всего будет мало кому понятен, в силу укоренившегося поверхностного убеждения большинства умных голов, в существовании изолированных форм бытия, в нашей целокупной действительности. Где я нахожу лишь глубоко антропогенное разделение общей материальной неделимой субстанциональности, на «живое» и «неживое», исходящее из общих принципов деления мира, и абстрагирования образовавшихся составляющих, основывающееся на природных субъективных принципах «заинтересованного ноумена-наблюдателя» – нашего разума, способного оценивать нечто, и имеющего эту способность, как некую экстраполярную неотъемлемую от своего существования, суть.
Как я уже отмечал, крайне сложно передать то, что в сути своей так образно, так абстрактно и так тонко, что почти не доступно для всяких возможностей нашего языка. Но других способов у нашей рефлексии нет. Мы можем осознать и передать только то, что сами форматируем в некие цепи, копирующие наше по–преимуществу линейное сознание, и объективирующие его, на страницах. Пусть неловко, уродливо, неточно и формально, но всё же «воплощено-передаваемо». И как я уже отмечал ранее, слава Богу, существуют возможности художественного, поэтического и музыкального плана. И хотя у них свои плоскости, им доступно гораздо больше, чем самому совершенному языку как рационально-аналитического, так и трансцендентно – рефлективного.
Мои мысли чистыми образами идеального, всплывают в моей голове. И мой «рефлексивный разум» со своими «рационально-аналитическими ганглиями» из этого материала, неуклюже грубо, пытается лепить доступные для других разумов, (как ему кажется), формы.
Я не строю своих мыслей на основе чужих гипотез, в смысле опровержения или продолжения их. Я так думаю, – как пишу. Я так вижу, – как говорю. И все ошибки, и заблуждения, – это мои заблуждения, не навеянные кем-то, но сформированные во мне. Хотя, скорее всего это, так же иллюзия. И все, так называемые мои мысли на самом деле плод пережёвывания чужих, прочитанных когда-то и отложившихся в подсознании. Может статься, что всё это, – лишь продукт переваривания? Но как бы там ни было, я чувствую, что пишу своей кровью, и стараюсь не употреблять чужих высказываний и умозаключений. Только лишь – мой взгляд. Я очень часто сталкивался с тем что апостериори, уже после того как написал и выразил свой взгляд, вдруг обнаруживал нечто подобное у мыслителей прошлых поколений. И эти совпадения, да, именно совпадения, я встречал довольно часто. Но я не собираюсь вычёркивать мои мысли из сотканных мною пасквилей только в силу того, что обнаружил нечто схожее у других мыслителей. Меня нисколько не тревожит, что меня могут обвинить в плагиате, ибо я знаю, – как рождались эти мысли. А совпадения мыслей встречаются даже чаще, чем перекрещивания прямых линий в геометрии феноменального мира.
Возвращаясь к осмыслению «живого» и «неживого». Хочу несколько остановиться на том, как вообще мы смотрим на вещи, чем руководствуемся в своих умозаключениях относительно того, или иного состояния материи, только ли правдой своих чувств и истинной своих умозаключений? Может быть, не маловажную роль играет та всосавшаяся нам в кровь условность? А может она играет главную роль в нашей оценке всех явлений и вещей в мире?
Вся противоречивость нашего вглядывания в мир, (и эта противоречивость, есть отражённая и олицетворённая сущность самого мира), все наши старания найти единую для всего и вся истину, – ломаются этой противоречивостью. Как только мы находим какую-нибудь более-менее «стабильную истину», как в ту же секунду, она начинает противоречить сама себе. В сущности, она и возникает в результате архаического противоречия, но мы часто этого не замечаем, в силу свойств нашего разума. Нас мало интересует «папа» и «мама», когда мы смотрим на «совершенное дитя». – Мы во власти экзальтированной восторженности!
Я ещё раз убеждаюсь, что в этом противоречии, вся суть Сущего, вся его глубина и необъятность, – его единственно возможная фундаментальная природа. Мы, люди, оцениваем мир и сущее в этом мире с точки зрения собственной формы, с точки зрения своего сакраментального устройства, с точки зрения веками выложенных в нас, форм и порядков. Ведь по большому счёту, мы подобны той же мозаике, в которую с каждым новым поколением, и даже с каждым новым индивидуумом вкладываются несколько новых «кубиков». Новизна этих «кубиков», возникает как результат воздействия на нас ежесекундного момента условий внешней природы, и последующей нашей реакции на это воздействие. Мы трансформируемся в нечто своеобразное, и обогащаем тем самым палитру общего человеческого мозаичного полотна, своими индивидуальными красками и оттенками. Мир меняет нас, и тем самым меняется сам. Ведь с «новыми кубиками», мы смотрим на мир уже несколько иначе. А значит любая, даже самая «стабильная истина мира», когда-нибудь необходимо постареет и потеряет свою актуальность.
Когда-нибудь мы совершенно по-иному посмотрим на «живое» и «неживое» в этом мире. На те законы и определения, которые сейчас для нас являются незыблемыми. Нам откроется нечто потаённое, нечто лежащее пока за гранью нашего понимания, и тогда мы воскликнем; Нет неживого! В мире – есть только живое! Отметём все наши старые заблуждения, чтобы приобрести новые. Отбросим все наши условности и увидим так ясно, всю сущность противопоставления «живого» и «неживого»! Осознаем всё наше неразрывное родство со всей «неживой природой», и глубоко созерцая, осмыслим свою единую сущность не только с нашей планетой, но и со всем миром, с каждой крупинкой песка и с каждой каплей воды. Наше экзальтированное отношение смениться трезвым, непредвзятым отношением ко всему миру и к самим себе.
Когда-нибудь мы увидим такие просторы, и нам откроются такие тонкости, что все мои размышления на этих страницах покажутся детским лепетом, не заслуживающим никакого внимания. Но я абсолютно уверен, что мы никогда не найдём ту грань, ту чёткую черту, которая бы отделила «живое» – от «неживого». Чем дальше мы будем уходить в этом направлении, тем дальше будет уходить перспектива. Ведь по большому счёту любой переход из одного состояния в другое, любой скачок, это цепь последовательных изменений. Физика – неумолима. А наш взгляд на это, наши оценки и определения есть необходимое деление, обозначение и сопоставление, исходящее из присущего только нам чувства времени и пространства. Как в пространстве, – невозможно найти последней неделимой точки, как во времени, – невозможна точка отчёта, так и здесь, – невозможно найти той черты, которая бы отделила чётко одно от другого. Что ни возьми, каждое из этих высказанных положений, при глубоком рассмотрении всегда будет воплощением пропасти. Ибо всё это лишь разные стороны нашего разумения. Разумения, которое есть – суть пропасть.
В своём образном мышлении, балансирующем на грани подсознания и интуиции, я представляю живую ткань как некую лишь более гибкую, более пластичную, существующую в более мобильном состоянии, «синтезированную формальную модуляцию», сочетающую в себе отношения грубых и тонких форм энергетической материальности. «Альянс инертных и агрессивных стихий», находящихся в соотношении баланса противостояний. Баланса, создающего близкую нашему созерцанию трансформацию, оцененную по родственным критериям формомодуляцию, со всеми внутренними сочетаниями и движениями. Я осознаю её появление, как необходимую последовательность утончения баланса материальной субстанциональности, в изменившихся условиях узких амплитудных колебаний природного макрокинеза.
Относительно небольшой диапазон колебаний общей природной среды, некая стабильная ровная волна климатических изменений, спровоцировала вытягивание из инертного материального монолита, тонких пластичных формаций, существующих в поле этих экстраполяций и колебаний и играющих в такт этим общим колебаниям. «Живая ткань», – выросла из «неживой материи», как вырастают нежные тонкие побеги, из твёрдого инертного ствола дерева. Её появление абсолютная закономерность, необходимое изменение формы, под воздействием изменившихся условий и обстоятельств. Так на почве нашего первобытном разума, когда-то начали вырастать и расцветать более «тонкие ганглии сознания». Так в нашей душе вырастают и расцветают «изощрённые ганглии» восприятия и ощущения более тонкого, запредельного мира. Именно амплитуда климатических и иных колебаний природы, её относительное внешнее успокоение, её гармоничное уравновешивание по всем фронтам, позволило расцвести на «теле грубой материальности» – «изысканным цветам утончённого полигенеза».
Те суперкатаклизмы природы, бушующие на нашей планете миллионы лет до, так называемого «возникновения жизни», воплощали в себе некую относительную «сверх амплитудность» колебаний природного естества. Но можно ли то состояние природы определить и обозначить как отсутствие жизни? Бушующая жизнь планеты, во времена своей гиперреактивности, не позволяла расцвести «цветам тонких мета организованных структур», чья внутренняя организованность и гармония не могла существовать в этом бушующем океане. В такой атмосфере могли быть только соответствующие морфоструктурные модуляции, со своими критериями организации и гармонии. И всё дело в том, что организация и гармония как таковые, могут иметь бесконечно различные амплитуды колебаний, могут существовать в различных несопоставимых модуляциях, а значит иметь собственную жизненную форму оргахаотики. И на самом деле, гармония бушующей штормами и вулканами планеты, в сути своей, ничем не отличается от гармонии бьющегося сердца. Да, в большом шуме не рождаются тонкие переливы музыкальной флуктуации… Во время грандиозного шторма невозможно рождение тонких переливов свирели… Большой взрыв – сметает горящие костры… Но значит ли это, что большой взрыв или грандиозный шторм являют собой нечто противоположное, нечто инти, – нечто враждебное вообще «живому»? Да. Враждебное нашей сакральной организации, нашей форме бытия, нашим тонким ритмам, и всему для нас близко родственному, но никак не – «вообще живому».
Скажу больше. Тот, кто способен достаточно глубоко опуститься в колодец познания идеальности природы, поймёт, насколько сам «взрыв» как таковой, родственен нашей биологической природе, нашему сакральному естеству. Ведь как я отмечал выше, мы с вами представляем собой тот же «взрыв химических реакций», лишь сбалансированный, – лишь растянутый во времени. И только поэтому он представляется нам чем-то чужеродным «хрестоматийному взрыву», как таковому. Мы, своей субстанциональностью, своими механизмами напоминаем нечто вроде реакции в атомном реакторе, заторможенном графитовыми стержнями. – Текущий сбалансированный взрыв.
Феноменизирование одной составляющей мира, и противопоставление её другой, только потому, что эта составляющая ближе нам по своим механизмам, по морфодинамической модуляции и скоростям, есть естественная потребность нашего разума, основанная на генетической природе его архаического дуализма. Она зиждется на разделении и противопоставлении всего, что попадает в его поле зрения, и последующего определения и назначения «близкого», «родного», с обязательным определением противоположного – «чуждого», «далёкого» и «чужеродного». Основанном на необходимом для жизни делении бытия и мира на «родной», – расположенный, и «чужой», – враждебный. И критерием истины здесь, как и в любых иных исследованиях, возбуждающих и удовлетворяющих наш разум, – служит заключенная в динамической музыкальной гармонии для нашего слуха и нашего глаза, общая полифония мироздания. Ведь по большому счёту, истина, какими путями она бы нас не водила, в какие дебри не заводила, её утверждаемая схоластическая основа всегда гнездится в музыкальной орнаментике и выверенной фразировке, основополагающим принципом которой является законченность диссонансно-консонансного континуума нашего сознания. Повсеместно воплощающегося континуума, присущего нашей воли, и отраженного наиболее непосредственно в глубинной музыкальности всякой воспринимаемой и изучаемой вещи нашего бытия. Ведь музыка, есть воплощённая в звуках суть не только жизни, но и бытия действительности. И в том числе поэтому, она так завораживает нашу душу. И как сама полифония всякого музыкального произведения противопоставлена каденции, так жизнь в нашем бытии противопоставлена смерти. И как каденция – важна и необходима для музыкального произведения, так и неопровержимо важна смерть – для нашей жизни.
Религии, на нашей многострадальной земле, рождались в том числе и на почве одушевления неодушевлённых предметов. В каждом предмете феноменального мира есть душа. Люди всегда подсознательно глубоко чувствовали это, особенно древние. Ибо тогда, на заре расцвета идеального познания, все их мысли были ещё слишком близки к инстинктам, и почти не были «отформатированы» на лад разумной полезности и целесообразности. Они были менее конъюнктивными, а значит были более близки к самой истинности мира. И поэтому мы находим в древнейших религиях то, чего и в помине нет в более поздних. К примеру «Синтоизм». Где одушевляются всякие предметы, имеющие свою форму, и в особенности необычную форму. Где Бог гнездится в каждом листочке, не зависимо от того, висящем ли на дереве, или уже упавшем на землю и засохшем. Наши предки чувствовали мир иначе. Их глубочайшая интуиция, их инстинктивно-идеальный разум, в своих запредельных возможностях – доминировал над всем остальным сознанием. И я не случайно для примера привёл именно «Синтоизм», как религию идеального самопознания. Как не только одну из древнейших религий, но в первую очередь как некую теистическую дисциплину сверх соматического восприятия природы. Зародившуюся в том месте на нашей планете, в том социуме, где утончённость, гибкость, глубина и изысканность имели и имеют поныне, важнейшее значение для жизни. В противоположность относительной грубости форм присущих древним религиям запада, их инертность и закостенелость, – их поверхностность.
Вообще, всякая религия имеет своим началом, своим фундаментом – подсознание. Но подсознание имеет разные глубины, и то, во что развивается та или иная религиозная дисциплина, всегда говорит о том, на каких глубинах она имела своё начало. И на какой глубине созерцания находилось общество, породившее её. Я не стану здесь вдаваться в теологические аспекты и религиозные лабиринты, это отдельный огромный пласт нашего разумения, который в сути своей, как всё Великое, является сложным в своём развитии и становлении, и достаточно простым в своих истоках. Но именно поэтому требует к себе серьёзного подхода, углублённого обдумывания и строгого аподиктического и даже ассерторического анализа.
И так. Для того, кто настроился на мою волну размышления, кто встал рядом с моим углом зрения, для того уже не должно остаться «неживых предметов» в действительном мире феноменальной реальности нашего бытия. Для нас – «неживой» – значит лишь другой формы жизни. Ведь по большому счёту материя, в каком виде она бы не находилась, никогда не будет в состоянии полного покоя, и даже в камне происходит своя динамика, свой сакральный метаболизм, а значит своя жизнь. Но «человек поверхностного суждения» всегда будет расценивать камень, – как нечто мёртвое. Ведь он никогда не осмыслит то, что может быть совершенно иная, не похожая на нашу, форма жизни. Что она может опираться на абсолютно иной пространственно-временной континуум существования. Для такого «поверхностного наблюдателя», как мир – един для всего и вся, так и форма жизни единая для всего и вся. И там, где он её не видит, там её и не существует. Для него лишь иерархия является основополагающим аспектом существующего. Для него не существует никаких параллельных миров. Для него только неопровержимая очевидность, есть единственно возможное для умопостижения ремесло и цель. Для него истинность – в разумности большинства. Большинства, чья разумность полагает обозначенное только им живое, – единственно возможным феноменом жизненности, и в то же время неким божественно-чудесным произволом природы. Он ставит собственную жизненность во главу угла, веря в неё, и не оставляя и тени сомнения для своей сакраментальной веры. Он сам водрузил себя на пьедестал мироздания, возвёл себя в культ, и превратил всё отнесённое им к «неживому» в плаценту, в атрибут лишь обеспечения собственной власти.
Чувствуете, как глубоко скрыты наши психологические воззрения, откуда исходит наш психотип в целом. Как умело скрывается за латентными покрывалами суть нашего сакраментального стремления к власти, к покорению природы. Без разделения и изолирования, – невозможно покорение, не возможна власть «сильного» над «слабым», как невозможна была бы сама иерархия мироздания.
Каждый, кто когда-либо задумывался над этим коварным, сложным для осмысления, но очень важным вопросом, подходил к нему со своей точки зрения, улавливая во внешнем мире свои, родственные только ему, резонирующие только с его подсознанием флюиды. Большинство из которых сосед, – просто не в состоянии заметить, идентифицировать и оценить. Ведь если у каждого «живого существа» свой неповторимый мир, то у каждого мыслителя, ещё и своя неповторимая оценка. Ведь каждый из них, обладая уходящими в запредельность «ганглиями» собственного единственно существующего мировоззрения, ещё обладает своей градационной живой утончённостью тонких простраций созерцания.
Суждения разных людей очень часто противоречат друг другу. И это противоречие – вечно, как само бытие. Но часто замечается некоторая схожесть в самой сути вопроса, хотя и подход с совершенно разных сторон.
Взгляд физика на проблему «живого и неживого», – всегда будет оставаться за пределами взгляда эзотерика. И оба эти взгляда всегда будут вразрез взгляду метафизика. Каждый создаёт свой неповторимый, в своей утончённости непохожий мир. И оценивает затем этот мир, через призму своего мировоззрения, граней у которой может быть бесконечное множество. И здесь немало зависит от окружения, в котором находился тот или иной мыслитель во время своего созревания. Ведь созревание плодов разумения, в своей сакральной основе нисколько не отличаются от созревания яблок на дереве. Всякое созревание строго зависит от условий окружающего ландшафта, в самом широком смысле слова, от климата внешней действительности. Которые либо позволяют, либо не позволяют развиваться определённым «ганглиям сознания». И «ландшафт» этот включает в себя многие условия. Одно из таких условий это – образование. Другое – воспитание. Третье – гены, переданные от предков, и вскормленные личностью, несущие в себе некие особенности разумения, и т. д. И в зависимости от условий, каждая из образующихся граней созревающего сознания, уходит в перспективу собственного бесконечного гранения.
И в этом смысле самым светлым взглядом, был бы тот, что не имел бы груза налипших на него вместе с образованием и воспитанием предрассудков и недоразумений. Но это чревато другими недоразумениями. Ведь для обеспечения абсолютной чистоты, он не должен иметь никакого образования? А в этом случае, он, хотя и будет свободен от «налипания», но в то же время пуст, свободен и от материала, из которого он смог бы строить свои умозаключения. И его взгляд, лишенный этого материала, не будет иметь никакой возможности для формирования гармоничных цепей умозрения. Он не будет способен к построению вовне архитектоники и музыкальной гармонии собственного гения. Некоей Полифонии, единственно с помощью которой, может достигаться формирование истинности, как в образах идеального, так и в последовательных согласованных алгоритмах рационально-аналитического.
Что мог бы написать художник, не будь у него под рукой палитры разноцветных красок? Что мог бы построить зодчий, не будь у него под рукой кирпичей? Что мог бы создать философ, не будь у него под рукой инструментариев языка и понятий? Здесь, как нигде важна дозированность, воплощающаяся в гармонию соотношений образования и собственного идеального знания, собственного ума. Сколько ты готов, сколько способен нести груза образования, не в ущерб собственному глубинному умопостижению. И сколько ты способен вынести свободы собственного умопостижения, не в ущерб здравому смыслу, – дисциплине чистого разума. Вопрос, который своей серьёзностью и важностью уступает лишь вопросу соотношения в твоём разуме, рационального и идеального полей воззрения.
Невозможная объективность
Посмотрите внимательнее на наше отношение к окружающему миру. Мы, практически никогда не бываем по-настоящему объективны. Мы, в своих обобщённых апперцепциях и дефинициях придаём чудесный ореол появлению жизни на земле, считая это тайной за семью печатями. И в то же самое время в своих локальных восприятиях её реальности, обывательски смотрим на такие, по-настоящему чудесные вещи, как развитие из яйцеклетки, оплодотворённой сперматозоидом, такого грандиозного явления как человек, с его колоссальными возможностями, и необузданными желаниями в познании. Мы даже не пытаемся достаточно глубоко вдуматься в суть оплодотворения как такового, в его непостижимую тайну.
Что есть оплодотворение? Я знаю, что здесь таится вся суть вещей, здесь скрывается тайна всего «живого». Но что оно могло бы представлять собой с точки зрения глубокого проницательного разума, стремящегося как к истокам, так и к обобщённому анализу совокупного воззрения, где параллели не менее важны, чем устоявшиеся хреоды осмысленности.
Мы назвали появление жизни на земле феноменом, а её последующее развитие – естественным процессом. Но ведь, по сути, эти явления одного плана, одной цепи превращений. Отличие лишь в нашем подходе к осознанию явления, в нашей субъективной оценке. Наш разум способен лишь знать начало, иметь его, но не понимать его. Ведь чтобы его понять, необходимо знать и понимать то, что до начала, а это – невозможно. И поэтому как «начало человека», так и «начало природы», всегда будут уходить от нашего сознания, в перспективу трансцендентальных облаков, где наше разумение, попадая в разряженное поле собственной осознанности, отворачивается, и стремиться как можно быстрее вырваться из этого белого тумана, на прозрачные и понятные просторы обывательского бытия.
Мы привыкли к этике, как к чему-то естественному, чему-то вроде самого бытия человека, но её зачатие и последующее развитие, с филигранной точностью повторяет зачатие и развитие человеческого плода. «Метафизические и трансцендентальные сущности», как бы они не казались далеки от «физических», имеют ту же последовательность, и ту же принципиальную схему, и динамику своего зарождения и становления.
Где находится, то зерно? На каком уровне? Где та точка отсчёта, которую мы вправе назвать, – началом жизни? Она так глубоко, что нам её, никогда не достать. Где-то, на недосягаемом уровне, в недрах «неживой» материи, на самом деле, гнездится наша жизнь. И как бы мы не пытались проникнуть в глубины, как бы ни пытались отыскать эту точку отсчёта, мы никогда не достигнем её, ибо это всё равно, что достигнуть крайней точки фундаментальности материи. Ибо, это всё равно, что найти неделимую точку пространства, или времени. И это, пожалуй, единственное доказательство того, что мир вокруг нас, создаётся нашим разумом. В противном случае, он имел бы свою собственную изначальность, свою непосредственную аподиктическую законченность.
Вы скажете, что отличие «живой» материи от «неживой», – очевидны, к чему вся эта демагогия? Но постарайтесь посмотреть не предвзято, глубже, с несколько иного угла зрения. Ведь то, что очевидно, – на самом деле является большой иллюзией. Мы видим то, что хотим видеть. – Истина, всегда где-то там. Очевидность эта, явна – лишь на «полюсах». Как только ты начинаешь смотреть в суть, искать границы и пересечения, всякая очевидность – пропадает.
Наше отношение к «живому», это отношение «сына к матери». То есть, вне всякой хладнокровности, где нет, и быть не может никакой объективности. Но когда мы пытаемся, насколько возможно, смотреть на мир хладнокровно, мы начинаем видеть несколько иную картину. От нашего созерцания, одно за другим, начинают отпадать старые заблуждения, мы постепенно прозреваем, и мир вокруг нас, становится иным. А по сути, лишь готовым к обрастанию новыми заблуждениями. Ибо он не может существовать без «чешуи». Мир – словно змея скидывает старую шкуру, и его новая, такая нежная, светящаяся молодостью и новизной, кажется абсолютно истинной, абсолютно совершенной. Но и ей суждено задеревенеть в своё время, и так же отвалиться.
Резюме
Возвращаясь к вопросу появления «живой ткани» на «безжизненной планете», я хочу попытаться посмотреть на эту проблему сквозь призму происходящих во всей природе доступных нашему оку, процессов. В частности, переход энергии из одного состояния в другое, повсеместное перевоплощение материи, её трансформации на всех без исключения, уровнях. Нет никакого сомнения, что динамика появления «живой ткани» обусловлена этими повсеместными, присущими всему материальному, каузальными цепями, и перевоплощениями материи из одного состояния, в другое. Упрощённо: Как вода превращается в лёд, камень – в лаву, всевозможные кристаллы в гибкое, хаотичное, или твёрдое, организованное состояние, а при появлении необходимых благоприятных условий начинают расти, продуцируя и умножая собственное тело, как материя металла, под воздействием собственных агрессивных форм, превращается в нечто сверхтонкое, своеобразно упорядоченное, определённо организованное и сверх агрессивное и мобильное, в магнитное поле, так и «живая ткань», – суть необходимая последовательная трансформация «неживого мира», и её появление обусловлено стечением обстоятельств, возникновением тех условий, при которых она – не могла не появиться. Банально? Может быть. Но вот, собственно, к чему я.
Как было сказано выше, совершенно невозможно появление из определённой материи, чего-то совершенно чужеродного, чего-то – вне его существенности, или сверх его существенности. «Живая ткань», это естественная последовательность перевоплощения грубой инертной и хаотической формы материи, в относительно агрессивную, гибкую и упорядоченную на определённый лад, – лад зацикленной динамики круговых и повторяющихся обменов, в строгой последовательной и целокупной форме определённого характера, (суть организма), и лоббирующего и закрепляющего собственные критерии и оценки, во внешней среде пребывания. Её утончённая сбалансированная форма, её доминанта, – в синтезе противостоящих грубых, инертных, и агрессивных мобильных материальных тканей. А главное, это её особенная, «палеокинезная упорядоченность».
По большому счёту, все её свойства, не выходят за рамки общих свойств всякого вида материи, принадлежащего нашему феноменальному миру. Если только ты сам, не причисляешь эти свойства, – к сверхъестественным и чудесным. Наше отношение к «живой ткани», как к чему-то «сверх сущему», чему-то «над всем», это лишь вопрос восторженности её возможностями, и её способностями. Благодаря, в частности, её невероятной гибкости, агрессивности и мобильности, её сверх упорядоченности, и сохранению системности, – вызывающих полную уверенность даже в произволе, как в чём-то действительно реально возможном, и существующем в природе. Уверенность, впитавшаяся нам в кровь, черпающая свои силы, не столько в восторге её возможностями, сколько в убеждённости в отсутствии таковых, – у «посторонних», чужеродных субстанций, не имеющих подобных возможностей, обозначаемых нами, как «неживые системы», или «неодушевлённые предметы».
Тот, кто посмотрит глубже, кто отбросит ложную скромность, кто попытается выйти из привычной векторности осмысления, – тот увидит, как мы неразрывно слиты со всем, так называемым, «неживым миром». Как мы вытекаем из него, течём вместе с ним, являясь одной с ним рекой. И как втекаем обратно, в мир пустоты, – лоно изначальной истинной природы.
Я часто слышу разговоры о занесении на нашу планету «жизни» из космоса. То, что отнесено к так называемым гипотезам «Панспермии», или «Псевдопанспермии». И меня смешит этот бред поверхностно смотрящих и по-детски думающих мыслителей. Когда я слышу подобное, возникает чувство какой-то идиосинкразии. Скажите на милость, «Великие мыслители современности»! Что? Наша планета, – не часть того же космоса? Разве наша земля не имеет права быть колыбелью жизни? Почему вы думаете, что «жизнь» непременно должна зародиться где-то? Почему собственно не здесь? Какая разница между нашей планетой и любой другой в глобальном космосе? Может это отголосок вашего недоверия к самим себе, недоверие к правильности своего собственного бытия? Такое Великое совершенство как «жизнь», должно было появиться где угодно, только не у нас?? Проблемы детской незрелости, или зрелого инфантилизма? А может и того и другого? Это ваше плебейское совковое воззрение в мир, – портит всякую реальную картинку мира.
А иногда я слышу ещё изощрённее и смешнее. Что, дескать, вся природа «местная», и всё, что мы видим вокруг себя, родилось и развилось здесь, но только мы, люди, занесены сюда из космоса. Этот бред, – ещё более сильный! Здесь даже комментировать нечего.
По большому счёту всё и вся, от песчинки, до «скопления галактик», являют собой единую субстанцию. Это наше нелепое, плоское само осмысление, толкает нас на подобные глупости. Фантазировать можно как угодно, но надо следить за собой, дабы не заносило.
Живые, мы или нет, – все мы дети одной матери, – (материи). Мы, – дети единой действительной Вселенной. Наше существование обязано своим появлением, не только Солнцу, но всей Вселенной. «Живая ткань» на нашей планете, имеет своим предикатом, своей сущностной основой, «неживую» материю космоса, – это неоспоримо. И для того, чтобы это понимать, не нужно быть «семи пядей во лбу», достаточно взглянуть вокруг непредвзятым, проницательным, и обобщающим взглядом. «Живое», на само деле, не является феноменом, по крайней мере, таким, каким его выставляют. Гораздо феноменальнее, – сама материя. Вот это, действительно бездна для исследователя. А тот, кто зацикливается на тайнах «живого», ищет цель там, где её нет, ищет не существующие феномены, копается в фантомах собственного иллюзорного, в своей сути, разумения. Ибо все эти феномены, – лишь надуманы.
Как появилась «живая ткань», благодаря чему, каким стечениям обстоятельств, это произошло, – знает каждый школьник. Но что она, – не знает ни один Великий учёный. Он может только выставлять на обсуждение собственные апперцепции и дефиниции. Ибо феноменальность «живого», как чего-то «сверх всего», чего-то абсолютно божественного в отличие от «неживой ткани», – сфабрикована нашим, восторженным собственными возможностями, и собственной упорядоченностью, разумом. Произвол, в котором мы так уверенны, личность, чувства, и т. д. никак не дают нам покоя. Мы надумали в «живом» некое сверхбытие, и теперь ищем его сущность, словно Бога.
Стечение ряда обстоятельств, по закону причинности и в силу необходимости, появилась «видоизменённая материя», в которой, все известные присущие «неживой» материи процессы, происходят в ином порядке, с иной скоростью, с иными параметрами. Где «баланс противостояний», – «коллапс», «взрыв» – превращается в нечто относительно стабильное, в «зацикленную целокупную саморегулирующуюся систему», с неким характерным упорядоченным размеренным течением процессов. В котором трансформация энергии, происходит в своих пространственных масштабах, и своей временной диаграмме. Условно говоря, в некоей серединной плоскости параметров временных коллизий, находящейся между течениями в камне, и течением в простом взрыве, как условных полюсов. Где в силу синтеза «грубой» и «тонкой» материи, инертной и агрессивной энергии, возникает некий баланс взаимодействия различных сил, различных динамик и свойств, и возникают «объекты пространственно-временной стабильности», с гармоничным взаимодействием в себе, «тонкого» и «грубого». И тем самым, сформировывая сбалансированные в определённой последовательности, так называемые «биологические саморегулирующиеся единицы». Метафизическая суть которых, сводится лишь к гармоничному балансу взаимоотношения «грубой» и «тонкой» форм материи. И эта «ткань», в силу благоприятных условий, прогрессирует, растёт, образуя всё новые, и новые формы. Утончая и усложняя своё «тело» до такой степени, что, получая возможность само осмысления, готова абстрагировать и изолировать себя, от всего остального мира.
Многие преобразования, происходящие с тканью вообще, будь то «живая» или «неживая», мы не в состоянии уловить. Переход материи, из одного состояния в другое, для нас, подчас, даже не миг, но нечто гораздо меньшее. Мы не в силах уловить и осознать некоторые промежуточные состояния материи. Тот миг, в который, к примеру, происходит возгорание спички, можно гипотетически разделить, на бесчисленное количество переходов материи из одного состояния, в другое. Это возгорание, мы можем делить бесконечно, ведь для нашего глаза, оно происходит во времени, а время, как известно, – делимо до бесконечности. И для какого-нибудь «микро-субъекта», некоего «нано-наблюдателя», каждый из этих переходов, будет представляться вечностью. Как для нас, к примеру, представляется «возгорание», и последующее угасание Солнца.
Все переходы и изменения материи, мы определяем с точки зрения нашего чувства времени и пространства. И на самом деле, в соответствии нашего условного представления о форме и её трансформировании, все возникновения и исчезновения, являются для нас, лишь как условные. Ибо мы абсолютно уверенны, что в этом мире ничего не появляется, и ничего не исчезает. Но почему-то только не в отношении «Живого». Здесь мы готовы спорить даже со своим собственным рассудком. Мы уверенны, мы абсолютно убеждены, что «живая материя», как сакральная божественная субстанция, появилась как нечто сверх феноменальное. Что её глубинная сущность не связана с миром «неживых» предметов. Что она, имеет совершенно иные миры для своего изначального существа. Что она явилась сюда из облаков, и представляет собой непримиримое противоречие «неживой ткани». И поэтому само трансформирование «неживой материи», – в «живую ткань», определяется нами, – как невозможное. Ведь мы, не в состоянии, ни понять её истинную существенность, ни даже уловить границы перехода, сущностные границы её трансформирования, как во временном плане, так и в пространственном.
Наше возвеличивание и обожествление собственной сути, доходит до абсурда. Но мы никогда не сдадим своих позиций. Ибо, это – сама природа диктует нам подобное поведение. Но дело в том, что меняется всё, – без исключения. И наши взгляды, и осмысления будут меняться, несмотря ни на что. И как всякой догме, этой, отведено определённое время существования.
Итак, ещё раз, сначала. Взгляните глубже, с точки зрения метафизики познания бытия, что мы собственно вкладываем в понятие «живое»? Помимо того, что с точки зрения нашего я, с точки зрения нас как «живых сущностей», мы представляем собой феномен, – нечто отличное, нечто принадлежащее сверх бытию. Что мы ещё можем предъявить сами себе в качестве неоспоримого подтверждения, кроме убеждённости в собственном божественном существе, в собственной неоспоримой изолированности от мира явлений, мира так называемой неживой природы? Что значит, на самом деле быть живым? Вопрос не такой праздный, как может показаться. Суть «живого», как бы ты не пытался её ухватить за хвост, всегда выскакивает, и, помахав хвостом, уходит, словно кит на глубину.
Мы в полной мере осознаём наш произвол и нашу доминирующую волю, как по отношению к самим себе, так и по отношению к «неживому» миру. Но ведь так же чувствуем произвол этого мира по отношению к себе. И все наши критерии, и оценки в этой плоскости умопостижения, опираются на собственную латентно заинтересованную воззренческую парадигму, как на некую представляемую нами абсолютную истинную оценку мироздания. Но дело всё в том, что так же как мы смотрим на мир со своей стороны, – мир смотрит на нас со своей. И вся невозможность объективного воззрения остаётся таковой в силу, прежде всего того, что мы не имеем никакой возможности посмотреть на себя и на мир глазами стороннего наблюдателя, – посмотреть, так сказать с «той стороны». Мы словно на «суде Линча», судим мир и принимаем во внимание только одну из сторон. Неважно обвиняем, или благословляем его в данную минуту. И потому все критерии наших оценок, это критерии только «этой стороны». А значит, не имеют абсолютной объективности, не несут в себе идеальной легитимности для истинности собственного суждения.
В чём же принципиальное отличие «живой ткани», от «неживой»? – Вот вопрос из вопросов! При всей кажущейся простоте и очевидности, на самом деле не имеющий своего разрешения. Если отбросить общепринятый догматический взгляд на мир, то абсолютно достоверно никто и никогда не ответит в чём принципиальное, то есть вне формативное, субстанционально-фундаментальное отличие этих противопоставленных нами монад действительного бытия. По этой же причине нет никакой возможности провести достаточно чёткие границы. Ибо всегда и всюду одно вытекает из другого, и втекает в первое. – «Змея, поглощающая свой хвост». Этот древний символ, как нельзя лучше иллюстрирует отношение «живого» и «неживого» в нашем мире.
Невероятная гибкость «живой» структуры, её функциональная приспосабливаемость, её антиинертность, в сравнении с другими относительно грубыми структурами, – вот единственный аргумент, в пользу её принципиального отличия от «неживой». Но и фундаментальность этого отличия, как чего-то, что является прерогативой сугубо «живого», также вызывает сомнение. То, из чего мы как форма состоим, – «углеродные цепочки», – невероятно гибки в своих соединениях, своих сочетаниях и в своих образованиях. Невероятно приспосабливаемы к внешним условиям, синтетичны, и форма–эстетичны, то есть гармонично упорядочены. Но и это так же в известном смысле вопрос нашего восприятия действительности, вопрос формы пребывания, самоощущения и самоидентификации себя в пространстве и во времени. Ведь гибкость, это всегда по отношению ко времени, и в связи со временем. Как всякая объектарность, всегда по отношению к пространству, и в связи с пространством.
Я – живу. – И это самый веский аргумент. Он же, – единственный, предъявляемый для разумного рассмотрения. Но его достоверность, есть лишь достоверность моих чувств, и не более того. Его достоверность есть утвердившийся палеокреоцентризм.
Любой аргумент в пользу того, что те или иные характеристики «живого», принадлежат только «живому», и что они абсолютны, тут же вызывают сомнение, как только ты начинаешь смотреть на вещи чуть глубже, и не предвзятым взглядом. Вся устоявшаяся и закрепившаяся основательность живого, – рассеивается, словно утренний туман.
Способность мыслить? Но мы знаем, что не всякому «живому организму» дана эта функция. Способность к регенерации и к само воспроизводству? Но это так же не является собственной способностью «живого», и абсолютной прерогативой «саморегулирующихся систем». «Чувственность»? А это, вообще абсолютная субъективность, и не имеет в себе ничего того, что можно было бы отнести к неоспоримым аффектам природы, так как в ней нет собственных критериев, как только относительных и сравнительных. Ведь даже определение цвета или запаха, всегда выдаётся нами, как нечто лишь сравнительное, и никогда само по себе. Реакция на раздражение? Аналогичные реакции происходят и в «неживой» природе, только в своих временных и своих структурных плоскостях. И так далее и тому подобное…
Наконец – произвол воли, дающий ощущение свободы, – Абсолютная иллюзия! И вот мы подошли к самому краю, и упёрлись в единственную прерогативу «живого» – в иллюзию, как единственно возможную отличительную особенность «живого». Круг замкнулся. Иллюзия, – единственная монада присущая только «живому». Она же определяет и положение «живого», как чего-то сверхсущного.
Все наши стремления, внутренняя воля, произвол, оценка и кажущаяся свобода действий, – всё суть усложнённая реакция. Где реакция, накладывается на реакцию, создавая многослойность, тем самым усложняя общий образ взаимодействий, порождающий иллюзию сверхсложного бытия. Бытия, в котором непререкаемой истинностью вырастает и самоутверждается личность, как неоспоримая вера в зерно собственного божественного проведения.
Столкновение разнополярных энергетических потоков, вызывает в нашем разуме всплески искр и волн, с целой радугой иллюзий. Которые в сути своей, являются продуктами «синтеза» и «распада» различного уровня форм внутренних «субстанций», как физического плана, так и метафизического. Субстанций, относительно грубых и относительно тонких форм материи. Как всякое столкновение во внешней природе вызывает либо «взрыв», либо «синтез» с целым букетом излияний, продуцированием целых рядов метаморфоз и экстраполяций, так и в нашем разуме, и в нашей душе, всякое столкновение вызывает взрыв разлетающихся флюидов, либо синтез и рождение метаморфоз тонкого мира сверх гибких и сверхагрессивных субстанций. Наш разум, словно Вселенная, – бескрайнее поле, для столкновения различных стихий. И при этих столкновениях внутренних стихий, а затем и столкновениях разлетающихся флюидов с внешними стихиями, происходит синтезирование чувств и впечатлений, мыслей и умозаключений, распространяющих свою «органистическую упорядоченность», на относительно инертный мир природы. Так рождается Действительность. – Внешний мир слаженного, упорядоченного целокупного гармонично выверенного мироздания.
И с метафизической точки зрения, каждый из нас, живёт как некий «взрыв, растянутый во времени», с вкраплениями в него, более мелких внутренних «взрывов». И как следствие этих «взрывов», в результате «синтезов» и «распадов», лишь как побочный аффект, возникают всякого рода стремления, и желания.
Наш организм, является сложнейшим механизмом, настолько сложным и утончённым, что мы, неосознанно его мистифицируем. Мы сами, в понимании себя, не ушли дальше, чем, к примеру, простой электрик третьего разряда, в понимании устройства и работы компьютера. Человек, знающий досконально, как работает компьютер, человек способный мысленно проследить становление этого компьютера, который в состоянии осмыслить каждый этап этого становления, разложить мысленно всю его работу и функционирование по деталям, скажет: – Это очень просто! Также и с нашим внутренним устройством. Если бы мы могли проследить от самого начала его становление, и по всем этапам его развития, полно осмыслить все причины его изменений и трансформаций в целостной форме, то, наверное, он стал бы для нас также прост. Но мы не в состоянии этого сделать, мы не можем проследить ни начало, ни последующие этапы его становления. Для нас, всё это – «тёмный лес»! Мы не помним и не знаем ничего, что относиться к нашему общему становлению. И тем загадочнее и волшебнее для нас предстаёт вся наша сущность. А вместе с тем, и вся окружающая нас природа. Ибо она есть лишь отражение в зеркале нашего существа.
Появление «белковых соединений» на нашей земле было такой же необходимостью, как появление, при определённых условиях, кристалла иприта, или иного кристалла, возникновение и рост которых, так близок нашему телу, при всей отдалённости камня вообще, от всего живого. Этого не могло не произойти, ибо воедино собрались все необходимые предпосылки. При сочетании ряда ингредиентов, наш «неживой мир», обречён был стать «живым». И главным ингредиентом в этом сочетании я считаю не воду, как это принято считать, но электромагнитное поле. Ибо именно электромагнитное поле земли, является средой разумности, колыбелью мысли. А что, как не мысль, что как не разумность является фундаментом нашего тела, и вообще фундаментом всего так называемого «живого». Так вот, наличие у нашей планеты электромагнитного поля во-первых, наличие воды во-вторых, и достаточное количество углерода и всевозможных иных форм грубого материального ресурса, предопределили появление так называемых «живых организмов». Но на самом деле надо говорить, что жизнь повсеместна, и не ограничивается нашей формой и близкими нам формами. Ибо её основа электромагнитное поле, способное выстраивать и упорядочивать все относительно инертные состояния материи, в определённые цепочки, с саморегулятивными свойствами.
Последующее повсеместное распространение этих «белковых соединений», их подчас невероятная усложняемость, обусловлены тем, что наравне с постоянно меняющимися средами пребывания, сохранялись необходимые для существования нашей формы жизни, общие глобальные внешние условия. Сохранялся общий тончайший баланс природных взаимодействий. (Макрокинез). Относительно благоприятный, ровный, без особых катаклизмов, общий «протяжённый штиль природы». Спокойствие природы, тонкий уравновешенный баланс всех стихий, сохраняющийся достаточно продолжительное время, позволил расцвести «цветку жизни» на нашей бушующей планете.
Наравне с этим, развитие отдельных видов «живого царства» обуславливалось не только внешней средой, но и внутренней реакцией, каждого отдельного соединения, в силу его внутреннего сложившегося содержания. «Утончающегося» внутреннего взаимодействия, сбалансированной пропорциональности «тонкого» уровня внутреннего метаболизма. Ибо в нашем представлении, на «грубом» уровне всякое содержание – одинаково и все процессы здесь – идентичны. С точки зрения «грубого» никаких различий ни между видами, ни между всеми субстанциями природы – не существует. Ибо для «грубого», самого по себе «тонкого» – не существует.
Итак, трансформация «неживой» материи в «живую» была предопределена сложившимися условиями. А «мистифицировали» мы это явление, уже апостериори, наделив это естественное для природы явление мистическими причинами, придав собственным свойствам архибожественную основательность, и обременив бытие собственными мифическими целями. Наградили сами себя отличными от всей остальной природы свойствами, «орденами особенности», и вывели свою суть за границы обыденной природы мироздания.
В сущности, говоря метафорически, всё природное разнообразие живого, – есть лишь «утончение природного камня», его вытягивание в тонкие нити, и формирование на поверхности инертной грубой материи, субстанций утончённого и гибкого мира. Под воздействием агрессивной формы электромагнитного поля, выстраивающего разнообразные фигурки, и наделяющего эти фигурки сознанием, возник новый небывалый мир. В котором, в результате эволюционирования и сверх утончённого упорядочивания, возникло своё собственное разумение, с его сверхагрессивной способностью упорядочивать на свой лад внешний мир, превращая его в целесообразную действительность. И всё относительно инертное и грубое приводить к своему порядку, создавать в своём разуме и классифицировать всякое явление окружающего мира. А главное, способностью к оценке и вердикту, как главному принципу «утончающегося разумения», на пути к завладению и доминированию, по всем фронтам собственного мировоззрения.
«Живое» и «неживое», лишь различные перспективы осмысления одной и той же субстанции, в оценочных и вердиктных областях нашего сознания, определяющих и классифицирующих мир в пределах собственных возможностей и особенностей, и наделяющих нейтральную целокупность природы, собственной дуалистической последовательностью, и порождающих парадоксальную Вселенную бытия.
Ткань инертной природы трансформировалась в нечто утончённое и упорядоченное, превратив хаос бытия в нечто слаженно действительное. Но возникает вопрос: Была ли эта трансформация, это волшебное превращение в «одухотворённую ткань», совершенно «бездушного материала»? И если так, откуда могла взяться эта одухотворённость, где она могла черпать критерии этой одухотворённости, кроме как не из нашего же воззрения, не из нашего разума, смотрящего на всё и оценивающего всё, глубоко субъективно и одухотворённо?
С одной стороны, всё это лишь отражение игр нашего разума. С другой, – воплощение этих игр в реальность ощущаемой действительности, и придание этому воплощению непоколебимой истинности, зиждущейся на вере в собственное воззрение.
Физика мышления
«Только стремление к тому, чего на самом деле не осознаёшь и не понимаешь, должно быть достойной целью и высшей ценностью для твоего творческого разума…»
Динамическая возможность
Теперь, после разбросанного, словно после взрыва рассуждения, я постараюсь несколько упорядочить своё повествование, придав ему хоть какую-то последовательность и более-менее приличную гармоничность. Человеческий разум, мысль, при всей своей невероятной мистичности, на самом деле имеет вполне осознаваемые нами причины, и достаточно осмысливаемые корни. Наша восторженность своими способностями и возможностями, своим как будто бы состоявшимся умом, наша вера в состоятельность собственного разумения, в его истинность и законченность, вполне обоснована и логична. Всё здесь положено на алтарь само собой разумеющейся константы, в которой сплетено и завязано в некий узел заинтересованность, убеждённость и соответствие, в оценках нашего разумения собственных лейтмотивов и паллиативов. Но если попытаться абстрагироваться от само собой разумеющихся фактов, и попробовать усомнится в искренности нашего разума в отношении самого себя, то рано или поздно откроется не замечаемая ранее долина, которую наш разум целенаправленно игнорировал, обходил стороной, боясь уличить себя же самого в преднамеренности, заинтересованности и даже в каком-то смысле в корысти по отношению к собственным серьёзным апперцепциям и дефинициям.
По большому счёту в нашей обыденной жизни мы заняты только тем, что любуемся и восторгаемся собой, гордимся собственными способностями и возможностями, воплощающимися в дела и поступки, в постройки и открытия, превращающие хаос архаического мира в нечто радующее наш глаз, в нечто близкое и родное, в нечто адекватное и соразмерное нашему внутреннему порядку, порядку нашего установившего свою волю, разумения. Во-первых, тем, что можно увидеть в простых зеркалах, отражающих поверхность наших чувствований и воззрений, перенесённых на внешние объекты. – Тем, что строит и выдаёт за внешнюю божественную гармонию наш рассудок, то, что обозначается как феноменальное мировоззрение. Во-вторых, тем, что, хотя так же переносится на внешние объекты созерцания, но не доступно нашему простому обыденному взору, ибо слишком тонко, и скрыто внутри нас, в нашей душе, на полях трансцендентального опыта, в областях идеального умопостижения душевного агрегата. То, что в силу своей латентности, может быть замечено нами и осмысленно, только будучи воплощённым в образы метафизических транскрипций созерцания. – То, что называют Идеальным миром, что в первую очередь воплощается в сакральную сущность всякого настоящего искусства.
Что, как не возможность любования своей душой, как не возможность удовлетворения собственной внутренней гармонией, перенесённой на внешние разноплановые полотна, и отражённой от этих внешних зеркал, заключено и является главенствующим мотивом нашего стремления к искусству? Наша внутренняя гармония, полифония нашего душевного агрегата олицетворяется во всевозможных произведениях искусства. И возможность слышать, созерцать и чувствовать недоступные простому взору монады собственного духа, является первопричинным мотивом для возникновения и становления всевозможных форм искусства. Построение искусственной гармонии, в виде продуцирования и воплощения вовне сакрального существа тонкой душевной структурности собственного органоида, есть самое простое основание и самая простая условность для существования искусства как такового. Ведь даже когда мы восторгаемся произведениями чужого искусства, (не говоря уже о своём собственном), мы, на самом деле восторгаемся собой, своей внутренней организацией, её тонкостью, гармоничностью и совершенством. Мы радуемся неким откликом тонких флюидов собственной воли душевного органоида, резонирующего и поющего в унисон с воплощённой вовне гармонией произведений искусства.
Словно кусок древесины, поддающийся ножу, камень, поддающийся алмазному зубилу, или кусок глины, слушающийся пальцев, – наша творческая воля выбирает вовне материал для своей реализации. Наша воля ищет в первую очередь такой материал, который способен наиболее легко и в унисон резонировать с переливами характерной волны нашей целокупной личности, с гармонией наших внутренних тонких диссонансов и консонансов, парабол и гипербол душевной волны, ускорений и затуханий душевного метаболизма. Она ищет вовне нечто предрасположенное, нечто сугубо близкое, нечто родное. И находя, вступает в связь и оплодотворяется. И оплодотворённая, и отражённая от внешних предметов созерцания, радуется своему собственному порядку, и совершенству рождённых от сношения с внешней природой «детей», и обоготворяет их доводящие до возвышенного экстаза форм сплетения и нравы.
В искусстве, в его сакральной мотивации латентно укрыта движущая сила всей архаической природы мира, и главная причина его возникновения, – это вездесущая цель воли самой природы, стремящейся всегда и во всём – к обладанию. Здесь воплощается та изначальная сакральная сущность всего живого, как наиболее организованного, гибкого и агрессивного состояния материи, в которой воля к власти является кровью и плотью.
Мы, не осмысливая того, продуцируем и телепортируем свою чувственность и свою осмысленность вовне, мы телепортируем свою волю вовне, воплощая её в формы внешнего мира, отражающие наиболее ясно произвол нашего творчества. Мы создаём вовне «парк развлечений» с разнообразными фигурами фантастических сказочных скульптур, с колесом обозрения и различными аттракционами для собственного удовлетворения нашего ноумена. Мы подчиняем себе хаос природы, мы выстраиваем порядки присущие нашему ноумену, мы образуем свою гармонию вовне и беззаветно радуемся, если получается нечто по-настоящему слаженное, нечто гениальное в своей форме.
Что есть с точки зрения физики простого, наш мозг, с его квинтэссенцией – трансцендентальным разумом? Как он появился и зачем? Этот вопрос требует к себе как рефлексивно-рационального, так и трансцендентно-метафизического подхода. А также недюжинной фантазии идеального. Для того чтобы хоть как-то разрешить по сути не разрешимую проблему, я прибегну к смешанному синтетическому анализу, критерии которого будут исходить как из рационализма химии, физики, биологии, так из метафизики тонкого трансцендентализма, экстраполированного в аллегории идеальных образов. Ибо иначе осмыслить хоть что-то, будет крайне затруднительно. Хотя и такой подход не гарантирует общего ясного понимания и скорее всего, мало добавит ясности тем головам, которые ещё не встали на поле моего образа мышления.
Нисколько не претендуя на правильность собственного воззрения, я всё же претендую на глубину и высоту. Ибо правильность, как таковая, мало заботит меня, так как не имеет в себе ничего по-настоящему объективного, как только привнесённый утверждающий авторитет, некоего устоявшегося мумифицированного мнения, затвердевшей статуи, превращённой в «идол истинности». Сама по себе «истинность», не имеет в себе никаких иных глубин и вершин, кроме вырытых и заполненных нашим воззрением, кроме тех архитектурных шедевров, что построены нашим созерцанием. Её основательность есть воплощение диапазона возможности умопостижения, между «котлованом воззрения» и «небом созерцания».
Вера в истинность, как я уже отмечал выше, зиждется на красоте. Она всегда пропорциональна либо гармонии соразмерных выложенных рядов понятий в музыкально законченную палитру слова, либо гармоничности слаженных образов, образующих некую функциональную слаженную систему воззрения, – начало-конечную парадигму целокупности, своего рода организацию, не оставляющую и тени сомнения в своём праве на существование, а значит и своей правоте. А достоверность, на самом деле является не столько неким воплощением «абсолютного континуума миропорядка», сколько лишь пропорциональной качественно-количественной мифологемой, приведённой своей внутренней гармонией и обоснованностью, сначала к рамкам научной концептуальной законосферы, и затем возведённой на пьедестал законченной истинности, путём утверждения и закрепления трансцендентальной ясности. Сказать проще, некоей рождённой гипотезы, приведённой в континуум коллегиально согласованных выверенных закономерностей, от наблюдателей и для наблюдателей, говорящих – «да», или «нет», и закреплённой в рамках созданной и выложенной системы воззрения. Системы, являющейся безоговорочным законодательным трибуном для всего, на что ступает её нога, и всего, что притягивается к её телу. Именно эта система возводит своим обоснованным вердиктом, либо на трон истинного, либо бросает в отвал ошибочного.
И так. Чем могла бы быть мысль, с точки зрения простой физики. То, что физически простая основа мысли в природе, – вездесуща, в этом нет сомнений. Ведь её основа есть электромагнитная динамика. Динамика, которой пронизано всё, что относится к материальному. Эта динамика повсеместна и присуща всякой телесности. Но в хаотической природе феномена, для нашего разумения она до поры до времени остаётся бесформенной и беспорядочной, так как не упорядочена и не синхронизирована с его агрегатной генетической системностью, с её индивидуальными внутренними порядковыми трансформациями. То есть, пока она не попала под власть воли нашего разума. И превращается в мысль, только когда синхронизируется с характерным метаболизмом волящей личности, воплощаясь в некую полифоническую форму соразмерных соотношений, взаимосвязанных сочетающихся течений, отражающих и олицетворяющих всю палитру его функциональных, биологических и трансцендентных особенностей.
Откуда берётся в нас эта функциональная особенность? Наш мир целиком и полностью построен на электромагнитной индукции относительно грубых форм материальности, которые продуцируют электромагнитное поле определённого порядка, и благодаря которому собственно, существует всё живое и неживое в этом мире. Своё начало и свою законченность это явление находит в относительно грубых областях функциональной динамики нашего тела. Которое в своей сакральной субстанциональности есть синтез «грубости» (инертности), и «тонкости» (агрессивности) сущностных монад бытия. И всё относительно грубое (простое) здесь, со временем поднимаясь и утончаясь, транслитируется в тонкие, умозрительные и умопостигательные флюиды разумения. Именно благодаря синтезу в нашем теле «грубой» (инертной) и «тонкой» (агрессивной) субстанциональностей, и последующим необходимым продуцированием через наш мозг вовне, (с обязательным при всяком синтезе выделением волновой энергии), этот продукт облачается в формы соразмерных сбалансированных электромагнитных цепей, воплощающихся в сложные алгоритмы противостоящих системных антагоний, и сбалансированных синтетических согласованных целокупностей. – (Мыслительную деятельность). Что, в конечном счёте, обеспечивает образование разумной личности, как таковой. Личности, всякая цель которой, так или иначе, построена на регуляции и приведении к собственному порядку реальной действительности внешнего бытия.
Этот «сакральный мета процесс» можно упрощённо обрисовать следующим образом: Формируясь в некую цепь, в определённой точке пространственно-временного континуума, электромагнитное поле (заимствованное нами от планеты), упорядочиваясь в нашем разуме на определённый лад, тем самым превращается в мысль, в нечто формативное, нечто упорядоченно-слаженное, нечто органистически-телесное и законченное, – нечто продуктивное, дающее нашему существу ощущение собственной состоятельности, чувство собственной воли, чувство собственного бытия. А главное, даёт нашему разуму ощущение возможности «рождения собственных детей». (Да, мысли, это дети нашего разума, рождающиеся, живущие и умирающие в астральных сферах трансцендентного бытия нашего мира). Помимо прочего этот «сакральный мета процесс» даёт нашему разуму ощущение собственной власти над внешним миром реальности