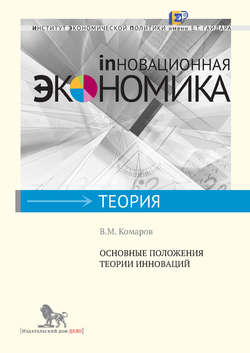Читать книгу Основные положения теории инноваций - В. М. Комаров - Страница 6
1. Формирование теорий инноваций в разных направлениях экономической мысли
1.1. Теория инноваций Йозефа Шумпетера
1.1.2. «Инновация» как экономическая категория
ОглавлениеИсследуем шумпетерианскую категорию «инновация» более подробно с целью уточнения ее содержания в современной экономической литературе.
Шумпетерианское понимание инноваций в 1979 г. было расширено С. Кузнецом (Kuznets, 1979), который показал, что инновации имеют не только технологический, но и социальный аспект. Для реализации потенциала новых технологий необходимы социальные изменения (идеологические, институциональные и т. п.), которые вместе с господствующими в ту или иную историческую эпоху технологическими инновациями определяют экономические эпохи. Таким образом, каждая историческая эпоха связывается с набором «эпохальных инноваций» (термин, предложенный С. Кузнецом).
Во многих случаях социальные инновации возникают таким образом, что может быть достигнута максимальная полезность технологических инноваций. Например, С. Кузнец отмечает, что без корпораций и банков промышленная революция – применение паровых двигателей – была бы невозможна. Подобным образом было бы большой трудностью добиться развития отрасли железных дорог без соответствующего развития рынка ценных бумаг – другой социальной инновации [Linton, 2009]. Подобный расширенный взгляд на инновации описан на рис. 1.
Рис. 1. Взаимосвязь социальных и технологических инноваций***Примечание: ось Х независимой переменной «технологические инновации», ось У зависимой переменной «социальные инновации». То есть социальные инновации – зависимая переменная, которая определяет возможности широкого использования и применения возникших спонтанно отдельных технологических инноваций. Положительные значения на оси У означают, что социальная структура способствует распространению технологических инноваций, отрицательные – являются преградой. Положительные значения на оси Х означают, что инновация – основа на имеющихся технологиях и производственных возможностях, то есть может быть относительно легко внедрена в массовое производство, отрицательные – речь идет, скорее, об «изобретении на бумаге», для которого нет технологической возможности для массового производства.
Макроэкономический подход С. Кузнеца с акцентом на социальных институтах (патентная система и т. п.) был дополнен анализом инноваций на уровне фирм, где ключевые виды инноваций – организационные. В целом на сегодняшний день при трактовке инноваций возникает проблема многозначности. Если у Й. А. Шумпетера были оговорены пять типов инноваций, а также четко была зафиксирована их предметная область, то современные западные авторы говорят по крайней мере о следующих типах инноваций [Linton, 2009]:
– управленческие;
– прорывные;
– радикальные;
– подрывные (разрушительные);
– архитектурные;
– прерывные и непрерывные;
– инкрементные (нарастающие);
– продуктовые и процессные;
– промышленные (технические, технологические) и др.
Однако общий вывод может состоять в том, что активное развитие исследований в области инновационной теории не привело к утрате первоначального шумпетерианского понимания инноваций как процесса обновления и основы экономического развития. Можно только говорить о закономерной потере контекста понятия (точнее его расширения) ввиду изменившихся исторических и экономических условий.
Между тем шумпетерианское понимание инноваций оказалось утраченным в русскоязычной традиции. Суть проблемы терминологического несоответствия русской и западной традиций лежит в понимании статики-динамики, то есть инноваций как процесса («осуществление») или результата («осуществленности»), и происходит, по всей видимости, от отсутствия в русском языке (в отличие от европейских языков) слова-аналога.
Как показывает анализ, слово инновация в европейских языках имеет латинские корни и происходит от латинского «novatio» (обновление), а также от позднелатинского «innovatio» (in-novātio – (воз) обновление.) В русском языке устойчивым аналогом латинского «novatio» является слово новация, аналога слову «innovation» – в русском языке нет. Поэтому, по всей видимости, в русском языке слово инновация является калькой общеупотребительного в европейских языках «innovation» (в английском, немецком и французском) и innovación (в испанском), причем вероятнее всего – калькой с английского языка. Отсюда содержание термина «инновация» в России относительно других стран специфично: понятие «инновация» не связано с тем или иным общеупотребительным словообразующим корнем, поэтому характеризуется многозначностью, отсутствием явных символьных и смысловых ассоциаций. В этой связи в русском языке как синоним категории «инновация» употребляется категория «нововведение», которая является наиболее близким смысловым эквивалентом. На наш взгляд употребление термина «нововведение» и производных (экономическая теория нововведений, теория нововведений, экономическая политика в области нововведений) решает задачу по наполнению термина «инновация» общеупотребительным значением только отчасти. Термин «нововведение» раскрывает лишь то обстоятельство, что новшество внедрено (инновация в шумпетерианском смысле – реализованное на практике изобретение, то есть инновация получается в результате коммерциализации идеи или изобретения). Более точным, по нашему мнению, русским эквивалентом является термин «обновление» («улучшение»). В этом контексте можно говорить, соответственно, о процессных обновлениях, технологических обновлениях, организационных обновлениях, отраслевых обновлениях, экономической теории обновлений и т. д. Использование термина «обновление» («улучшение») с точки зрения смысла и лингвистики в русском языке является наиболее соответствующим значению в европейских языках и раскрывает процессную сущность инноваций. Именно в контексте обеспечения непрерывных обновлений в народном хозяйстве в СССР использовалось устойчивое выражение «внедрение достижений научно-технического прогресса в жизнь». Эквивалент «обновление» подходит для инкрементных или улучшающих изменений, где важно отразить непрерывный процесс. Для эпохальных или радикальных и т. п. инноваций более точным является использование эквивалента «нововведение». В заключение анализа заметим, что тема наполнения категории «инновация» устойчивым общеупотребительным смысловым содержанием является крайне актуальной: штампом в настоящее время является утверждение, что большинство населения не понимает, что такое инновации (именно из-за некритического заимствования термина, в отличие, например, от термина «менеджмент», у которого есть однозначный русский эквивалент – «управление»). Так, данные опросов ВЦИОМ свидетельствуют, что 53 % опрошенных затрудняются ответить на вопрос, что такое инновации; 27 % – понимают под ними любые нововведения и 15 % – внедрение современных технологий [ВЦИОМ, 2008]. С учетом некорректности опроса ВЦИОМ, то есть того факта, что термины «нововведения» и «инновации», как подчеркивалось выше, часто как в словарных статьях, так и в профессиональной литературе выступают синонимами, то есть ни одно из них не раскрывает другое, – как минимум 85 % населения не понимают сущность инноваций. Поэтому в том числе посылы государства в области модернизации и инноваций не понимаются ни экспертным сообществом, ни населением. Так, по итогам он-лайн-голосования на пленарном заседании Красноярского экономического форума 2010 г. 70 % собравшихся экспертов заявили, что не понимают, чего хочет власть, говоря о модернизации и инновационном развитии (Ведомости, 2010). Здесь стоит еще раз отметить «лингвистическую ответственность» определения основных категорий: от того, как сформулированы миссия модернизации и инновационного развития в России на русском языке, будет в конечном счете зависеть успех проекта. Данный тезис можно распространить и на практическую программу теорий инноваций: от того, как даны обоснования инновационной и технологической политики, зависит успешность ее реализации.
В продолжение темы терминологического несоответствия русской и западной традиций в понимании инноваций отметим, что западные авторы определяют инновацию как именно процесс «осуществления новых комбинаций», связывая инновации с экономическим развитием и научно-техническим прогрессом человечества. В нобелевской лекции Саймона Кузнеца (1971 г.) постулируется взаимосвязь между процессом применения технологических нововведений и экономическим ростом, вводится, как уже говорилось, понятие «эпохальных нововведений» [Яковец, 2004, с.27]. В работе Брайана Твисса [Твисс, 1989, с. 30] приводится высказывание Д. Брайта, характеризующее уникальную роль в жизни общества именно процесса инноваций: «Единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление, – это процесс научно-технического нововведения (…). Этот процесс преобразования научного знания в физическую реальность, изменяющую общество». Сам Б. Твисс подчеркивал суть нововведения как процесса, в котором изобретение или научная идея приобретает экономическое содержание [Твисс, 1989, с. 30]. Дж. Бернал [Бернал, 1954, с. 30] отмечает, что «периоды расцвета науки обычно совпадают с периодами усиления экономической активности и технического прогресса», то есть периоды практической востребованности науки взаимоувязаны с массовым внедрением инноваций в экономике.
В «Руководстве Осло» ОЭСР и Евростата [OECD, Eurostat, 1997] – международной статистической методике учета инноваций – под инновациями понимается сложная и диверсифицированная деятельность, точное определение которой затруднительно ввиду сложного, системного характера большинства ее создающих процессов и продуктов. При этом «Руководство Осло» базируется на упомянутом выше шумпетерианском понимании инноваций как процесса «осуществления новых комбинаций» и также содержит в целом близкие к шумпетерианским типы «типичных» новых изменений.
В отечественной практике присутствует троякое толкование инноваций – как результата, как процесса и как результата и процесса одновременно [Азгальдов, Костин, 2009; Винокуров, 2005].
* * *
Из предыдущего анализа можно сделать следующие промежуточные выводы.
Во-первых, теория инноваций Й. А. Шумпетера представляет собой завершенную и самодостаточную теоретическую систему, в которой раскрывается содержание категории инноваций, а также исследуются основные закономерности экономического развития, указывается роль в этом процессе инноваций и изобретений, предпринимателей (новаторов и имитаторов), кредитно-денежной системы, монополии в результате опережающей коммерциализации изобретений и идей и др.
В этой связи стоит предположить, что все последующие теории инноваций в большей или меньшей степени являются:
а) предметным углублением и расширением шумпетерианской концепции (анализ не охваченных Й. А. Шумпетером предметов и явлений, например инновации и финансовый капитал в современной теории циклов);
б) методологическим дополнением с соответствующим новым предметным анализом (эндогенные теории роста, эволюционная теория Нельсона и Уинтера и т. п.);
в) приложением шумпетерианской теории к новым процессам и явлениям (например, концепции региональных и национальных инновационных систем).
Другими словами, шумпетерианский подход к инновациям сохраняет свою актуальность и является базовым для различных теорий инноваций в рамках различных теоретических направлений современной экономической науки.
Во-вторых, наиболее тесные параллели с шумпетерианской концепцией инноваций можно найти в рамках современной теории циклов (связь инноваций и длинных волн) и эволюционной теории Нельсона и Уинтера (эволюционный процесс «созидательного разрушения»), где категория инноваций также является центральной. Рассмотрим в двух следующих подразделах названные концепции более подробно в привязке к специфике рассмотрения проблем инноваций в указанных теоретических направлениях.