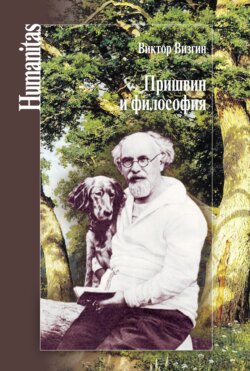Читать книгу Пришвин и философия - В. П. Визгин - Страница 5
I
Под знаком дневника как способа познания
Перечитывая «Незабудки»
ОглавлениеС дневниками Пришвина я впервые познакомился по сборнику «Незабудки»[25]. Хочется написать о том, как он входил в мою жизнь. Первый акт этой истории связан с детскими годами. Мать любила Пришвина, читала и перечитывала его. Пришвин внутренне был ей близок. Как и он, она мучилась и буквально болела, если приходилось занимать деньги[26]. Так же, как и Пришвину, ей трудно было сближаться с незнакомыми людьми. Пришвина она ставила в ряд близких ей литературных имен, таких, как Мельников-Печерский и Мамин-Сибиряк. Ей близок и дорог был пришвинский язык с его «старорежимной» народностью. Возможно, эти черты ее характера, сближающие ее с писателем, шли от староверов, от их менталитета и культуры. Наш дед, отец матери, был типичным старообрядцем, представителем гонимой «конфессии». Старообрядческие корни были и у Пришвина.
Сейчас я понимаю, что Пришвин поддерживал созерцательное настроение и «родственное внимание» к природе, каким-то натуральным образом возникшие у меня то ли от русских народных сказок, то ли от материнских поэтических рассказов о старой дореволюционной жизни на волжских берегах, то ли от жизни нашей семьи с последних военных лет в лесу и парковой зоне, как это было в Подмосковье до того, как мы перебрались в столицу[27]. У нас в семье был зеленый шеститомник, изданный в 50-х годах, но в него я почти не заглядывал, если не считать прочитанного по совету матери автобиографического романа «Кащеева цепь». Но с книжками Пришвина, издаваемыми для детей, мы знакомились с самых ранних лет – «Лисичкин хлеб», «Кладовая солнца» и что-то еще из его рассказов. Это читалось, но вовсе не стало любимейшим чтением. Просто мир Пришвина коснулся меня еще в дошкольном детстве. Атмосфера пришвинского слова незаметно вошла в душу – светлая, добрая и лесная. Вроде теплого, но не жаркого северного солнышка осталась она на дне детской памяти.
Позже, в конце студенческих лет, пришвинскую Дриандию, его «Берендеево царство» я нашел на Валдае, в затерявшейся среди озер и лесов деревне. Пришвин тогда не входил в круг моего чтения, если только не считать упомянутого сборника «Незабудки» (1960), составленного по дневникам писателя Валерией Дмитриевной Пришвиной. Как раз в начале 60-х годов, когда сосны и озера Валдая околдовывали меня своей красотой, я читал эту небольшую, в синем переплете книгу. Удобный формат позволял носить книгу в кармане куртки и читать на опушках великолепных валдайских боров и среди всхолмленных полей, покрытых то голубым льном, то рожью с васильками, которых сейчас и не увидишь.
«Незабудки» читались в стремительные годы разнообразных впечатлений и попыток собственного писания, ставшие стартовыми для всей последующей жизни. Я был студентом-химиком, как и сам Пришвин, о чем, правда, мне тогда вряд ли было известно: «Кащееву цепь» я читал позднее, хотя уже давно о ней слышал от матери. В те далекие годы у меня был один друг, сейчас он известный философ. Мы вместе учились, вместе покупали и читали книги, горячо их обсуждали. Поэтому и первое упоминание о пришвинских «Незабудках» связалось в памяти именно с ним. Когда он был аспирантом на кафедре физической химии, а я, окончив химфак, но оставив химию, стал аспирантом кафедры философии естественных факультетов МГУ, то наше общее чтение охватывало почти все, что можно было найти в Москве. Много дала горьковская библиотека университета на Моховой. «Незабудки» тогда только что вышли, их свободно можно было купить. Я так и сделал. Читал я эти пришвинские записи, как уже сказал, на Валдае.
Там чтение было в моем духе – на проселке вдоль поля с каймой леса, с виднеющимся сквозь сосны озером, на приозерных горках, откуда открывался вид на озерные плесы и окрестные леса, в тиши деревенской веранды, за досками которой, правда, тяжелыми бросками метались крысы, пугавшие впечатлительное воображение. Если сейчас, с высоты прожитых лет посмотреть в покрытую дымкой забвения долину того далекого времени, то поразишься страстности интереса ко всему на свете. В валдайскую деревню я возил, например, как не осиленные до конца «Принципы квантовой механики» Дирака, так и с наслаждением проглоченные «Будденброки» Томаса Манна. Дух тогдашней жизни был гуманитарно-литературный, хотя естественные науки в иерархии интеллектуальных ценностей стояли высоко, все время обсуждались и продолжали стимулировать мысль. Летом на Валдае, в соседней деревне Ново-Троицы, жил один престарелый московский литературовед. Имени его я уже и не помню. Его жена, цыганистого вида женщина, с которой я главным образом и общался, была значительно моложе. Эта литературная семья снабжала меня последними выпусками «Нового мира», которые я уносил к себе в деревню по бесподобным беловатым, чистейшим и сухим, как порох, мхам ново-троицкого бора.
В кармане книжечке Пришвина было просторно. Я носил ее по лесам и лугам и записывал на ее форзаце стихи. В их стихию в те годы я погрузился целиком и полностью, как до того в гегелевскую «Логику», а еще раньше – в «Капитал» Маркса. Не скажу, что с тех пор «Незабудки» стали моей настольной книгой, что именно ее я взял бы, как говорят, «в космос». Отнюдь, нет. Но она внимательно, с карандашом была прочитана. Однако вряд ли ее, такую простую и ясную для меня сейчас, я мог понять тогда – всю и в самом главном. Слишком молод я был, слишком молоды мы были с моим другом, чтобы остановиться на Пришвине. Но книжку его высказываний мы прочитали, что-то нам запомнилось, а что-то даже выписали из нее и оставили на полях свои пометки. Но не из Пришвина лепилось мое тогдашнее мировоззрение. Быть может, правда, он как-то неприметно стоял за его возникавшими контурами, но стоял ненавязчиво и совсем не на переднем плане, на котором были, конечно же, знаменитые, именитые философы – Ницше, Шопенгауэр, Бердяев.
Выпишу некоторые сохранившиеся с тех лет записи на полях «Незабудок» и поясню их. Творить – значит вступать в отношение к другому как к самому себе (с. 249)[28]. Этот комментарий к такой мысли автора «Незабудок»: «Творчество состоит в том, чтобы умереть для себя и найтись или возродиться в чем-то другом». Теперь я вполне понимаю мысль Пришвина. Он имеет в виду свой опыт, когда писатель как путешественник и очеркист забывает себя, погружаясь «родственным вниманием» в другое, чем он сам. При этом он, в конце концов, если по-настоящему справился со своей задачей, не теряет себя, а обретает, потому что из своего самозабвения ему удается «возродиться в чем-то другом». Первой значительной литературной «вещью» Пришвина стала книга очерков «В краю непуганых птиц» (1907). Вершиной подобной литературы он впоследствии считал книгу Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». Ему нравилось, что писатель-путешественник ничего в ней не «сочинял», а взял и опубликовал свои путевые дневники исследователя плохо изученного тогда края в их натуральной фактуре. Аналогия с Арсеньевым здесь неслучайна: Пришвин, подобно исследователю-очеркисту Уссурийской тайги, путешествовал в другом не слишком известном в то время крае – в Олонецком – и записывал свои свежие впечатления. «Беллетристика», «литература» (а иногда это обозначается и словом «поэзия») противопоставляются Пришвиным, выступающим в роли теоретика литературного творчества в «Журавлиной родине» (1929), реалистическому очерку наблюдателя-исследователя.
Сколько слов упало на бумагу и улетело в воздух, пока, наконец, одно из них не зашевелилось в душе человека? (с. 248). Эту фразу я записал на полях напротив медитации Пришвина, вызванной случайным падением с его рабочего стола портрета Валерии Дмитриевны. Он гордо отвергает шевельнувшееся в душе суеверие, будто это знак, что она, ему самый дорогой человек, умрет скорее, чем он сам. Такие мысленные эксперименты они ставили нередко в своих разговорах. И вот, в духе персидских поэтов, с вариациями одной парадигматической фразы, Пришвин перечисляет: «Сколько нужно было дворникам поскрести <…> пока, наконец, этот звук не проник в мою душу? Сколько солнечных лучей пало на землю, пока, наконец, один не проник в душу человека и зажег в ней любовь?» И напоследок дает в той же тональности мысль о том, сколько же умирало людей, пока, наконец, один «так восхотел жить, что заговорил о необходимости человеку добиться бессмертия?» Кого он имеет в виду под этим исключительным «одним»? Напрашивается – себя, ведь это же он сам так много и так страстно вдумывается в возможность и необходимость для человека бессмертия. Но в то же время не самого ли Богочеловека он имеет здесь в виду? Правда, Спаситель не просто «заговорил» о бессмертии, а реально «смертью смерть попрал». А Благая Весть через это Событие путь к бессмертию разнесла по всему свету. Поэтому, наверно, он имел в виду все же себя со своей идеей бессмертия в творчестве, через него: «Помирать собираешься – рожь сей!», чтобы «по мостику своего жизнетворчества, как по кладям над смертью, потом перейти в жизнь будущего»[29]. Вот и глава, в которую Валерия Дмитриевна включила эту взятую из дневников миниатюру, называется «Творческое бессмертие».
Как же природа ласкает и нежит и как город ожесточает и огрубляет! (с. 245). А эта маргиналия была оставлена против запечатленного мгновения полного упоения Пришвина своей жизнью, смешавшейся радостно с жизнью природы, когда, пишет здесь он, «мне стало так, что лучше и быть не могло <… >, пришла моя желанная минута и остановилась». А случилось это, как нередко с писателем бывало, в весеннем лесу, когда и глаза и уши «обласканы», и «все сошлось в одно», в одну чистейшую радость бытия. Гётевскому Фаусту в такое мгновение хочется остановить его. А русскому писателю этого не надо: ему дорого движение жизни, как в лирике Тагора: «Дыханье жизни вечное, ее игра живая…» Гёте здесь все равно вспоминается. И пусть даже не столько Фауст его трагедии, сколько восхищенный ослепительной красотой природы герой его лирики: Wie herrlich leichtet mir die Natur // Wie glänzt die Sonne, wie lächt die Flur!
В этой большой миниатюре Пришвин исследует лесной ручей как ключевое явление «неодетой весны». Мысль его движется в пространстве, структурированном такими полюсами, как «ручей / океан», а не «природа / город», как в процитированной только что маргиналии. Почему в своем отклике я не пошел за писателем? Тому есть простое объяснение: город меня невыносимо допекал, природа (деревня) столь же сильно манила к себе. Но ведь жить там, у ручья, я мог только в летний месяц каникул или отпуска. И поэтому ресентимент по отношению к «городу» чувствовался во всем, что я тогда писал. Пришвин же, напротив, жил деревенской лесной жизнью год за годом, почти постоянно. Город более-менее длительное время был у него в начале его писательского пути (Петербург) и в старости (Москва с квартирой в Лаврушинском, да и там он не засиживался).
Понимать – обнимать: пойма (с. 218). Исследование соединения в любви «физического касания» и «духовного понимания» Пришвин, как это ему свойственно, разворачивает на природной модели. Здесь ему таковой служит пойма. Он много раз наблюдает жизнь поймы и медитирует над этим явлением природы. Весной, «на разливе», вода понимает-обнимает землю «и от этого остается пойма» – поясняет свою мысль Пришвин. А когда вода спадает, то оставшийся ил делает ее исключительно плодородной, и она тогда покрывается чудесными цветами. Писатель в водах природы видит отражение человеческой жизни: понять-обнять свое другое и расцвести цветами жизни и цветами духовного творчества в своих детях – плотских и духовных.
25
Пришвин М.М. Незабудки. Вологда, 1960.
26
«Я болею, если приходится занимать, и на “ты” могу только с охотниками и детьми» (Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т.4. С. 336).
27
Если читателю интересно об этом узнать больше, то он может обратиться к написанной сестрой и мной книге о нашей семье в те годы: Визгин В., Дульгеру Н. Визгины и другие. М., 2014.
28
Маргиналии даны курсивом и после прямо в тексте в круглых скобках указывается страница книги, на полях которой они был сделаны.
29
Пришвин М.М. Незабудки. С. 249.