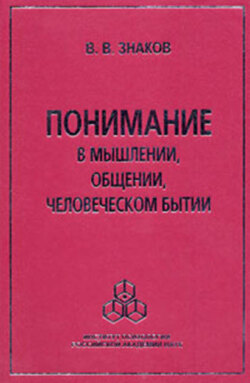Читать книгу Понимание в мышлении, общении, человеческом бытии - В. В. Знаков - Страница 7
Раздел первый
Понимание и мышление
Мышление, знание и понимание
ОглавлениеПроблема. Проблема соотношения мышления и знания еще в начале века была поставлена в гештальтпсихологии. М. Вертгеймер сформулировал ее в виде парадоксального вопроса: что лучше – мыслить или знать? Стремясь выделить в мышлении творческий момент, способность мыслящего субъекта открывать новое, гештальтпсихологи противопоставили продуктивное мышление репродуктивному, основанному на прошлом опыте (знании). Они затратили немало усилий на экспериментальное обоснование тезиса о том, что прошлый опыт является тормозом, препятствующим видению нового (эксперименты К. Дункера, Н. Майера и др.). «Однако, – пишет К. А. Славская, – в поисках механизма мышления они совершенно упустили из виду тот фундаментальный факт, что всякое мышление исходит из прошлых знаний, совершается на их основе, отправляется от них, включает их, что без использования знаний мышление вообще невозможно» [16, с. 156]. Убедительные доказательства реальности указанного факта получены в работах С. Л. Рубинштейна, А. В. Брушлинского, Я. А. Пономарева, А. М. Матюшкина и других советских и зарубежных психологов.
Феномен «понимания» также был включен в арсенал рабочих категорий экспериментальной психологии гештальтпсихологами. Обозначенный термином «инсайт», он интерпретировался как определенная стадия решения задачи – внезапное, не подготовленное предыдущей аналитической деятельностью и независимое от прошлого опыта уяснение существенных отношений проблемной ситуации.
Последующее развитие экспериментальной психологии мышления внесло значительные коррективы в представление о роли понимания в решении задачи. Во-первых, было обнаружено, что понимание формируется по ходу решения задачи, и потому его возникновение нельзя относить только к одной какой-то стадии мыслительного поиска. Стало ясно, что понимание представляет собой не только результат мышления, но и один из его процессов, участвующих в обеспечении успешности решения задачи. При этом оказалось, что «этапы понимания – от недифференцированного понимания задачи в целом ко все более дифференцированному и глубокому – соответствуют этапам ее решения» [6, с. 78]. Во-вторых, данные современной психологии мышления опровергают утверждение гештальтпсихологов о том, что возникновение понимания не детерминировано знанием, прошлым опытом. Напротив, во многих экспериментах было показано, что понимание всегда основывается на знании, полученном как в текущей, так и в предыдущей мыслительной деятельности. В свою очередь любое знание содержит в себе потенциальные возможности его понимания.
Связующее звено между знанием и пониманием в процессе мышления – смысл отраженного в знании фрагмента предметного мира. Очевидно, что без научного анализа этого звена невозможно раскрыть психологические механизмы понимания. Тем не менее психологи, рассматривающие проблему понимания в контексте психологии мышления, предпочитают изучать ее, не используя понятие «смысл». Лишь в самое последнее время в психологической литературе стали появляться публикации, в которых смыслообразование рассматривается как базис, краеугольный камень формирования понимания [5, 22].
По нашему мнению, в настоящее время одна из центральных задач психологии мышления состоит в анализе возникновения и развития смысловых образований в мыслительной деятельности человека. За последние два десятилетия в экспериментах, проведенных российскими психологами, были выявлены и проанализированы разнообразные виды и параметры процессов смыслообразования человека, решающего мыслительную задачу: операциональные смыслы отдельных исследовательских актов, смыслы некоторых элементов задачи и всей их совокупности, соотношение вербализованных и невербализованных смыслов в ходе решения задачи и т. д. Углубленное изучение места и роли процессов порождения и функционирования смыслов в динамической структуре мыслительной деятельности субъекта «составляет сегодня одно из важнейших направлений исследований, приведших, по существу, к формированию смысловой теории мышления» [20, с. 38]. В рамках этой теории мышление рассматривается как «формирование, развитие и сложное взаимодействие операциональных смысловых образований» [19, с. 81].
В цикле исследований по решению мыслительных задач, выявивших избирательность и целенаправленность мыслительного поиска, были прослежены и изучены различные виды операций и действий, способствующие формированию у субъекта операциональных смыслов. Однако данных о том, как развитие и взаимодействие операциональных смысловых образований приводит к формированию понимания испытуемыми промежуточных и конечного результатов мыслительного поиска, в психологической литературе пока почти нет. Между тем очевидно, что теория мышления может называться смысловой, если смыслообразование и понимание рассматриваются ее сторонниками в качестве важнейших составляющих мыслительной деятельности человека.
Цель авторов статьи – попытаться определить роль и место понимания в структуре мыслительной деятельности с позиций смысловой, теории мышления.
Две доминирующие точки зрения на понимание. Проблема понимания является междисциплинарной: ею занимаются физики, математики, историки, литературоведы и ученые других специальностей. Методология, задающая магистральные направления изучения понимания конкретными науками, в том числе и психологией, разрабатывается в основном в современной философии. В публикациях, посвященных гносеологической природе феномена понимания, отчетливо видны две тенденции.
Одна из них состоит в попытке объяснить понимание посредством различных форм знания, при этом первое иногда отождествляется со вторым. В частности, С. Ф. Зак считает, что «понимание является наиболее глубоким видом знания и достигается лишь там, где знание приводится в определенную систему» [1, с. 168]. Заметим, что такая интерпретация имеет давнюю тенденцию в классической философии, где проблема понимания ставится как проблема знания о знании. Для второй тенденции характерно утверждение, что понимание – не только результат познания человеком предметной действительности, т. е. знание, но это прежде всего сам процесс более глубокого проникновения в сущность изучаемого, специфический способ познания или «набор особых познавательных процедур» [15]. Представители этой позиции говорят о понимании «как специфическом типе познавательного отношения, направленном на познание человека и продуктов его деятельности» [3, с. 273].
Таким образом, в философской литературе, посвященной анализу понимания, отражено существование двух проблемных областей, которые условно можно назвать «знать и понимать» и «познавать и понимать». Однако в философский публикациях отсутствует описание конкретных видов познавательного отношения, выявление и анализ которых – задачи психологического исследования. В психологии мышления эта задача формулируется следующим образом: в чем состоит отличие понимания как субъективно-психологического феномена от понимания как одной из познавательных процедур, изучаемых в рамках теории познания. Дать ответ на поставленный вопрос мы постараемся дать в этой статье.
Немногим отличаются от философских определения обсуждаемого феномена в психологии. Например: «Всякое понимание означает включение чего-то нового, неизвестного в систему уже имеющихся знаний» [9, с. 62]. Просто наряду со «знанием» в них употребляется «опыт»: «Понять что-либо – это значит соотнести предмет познания со своими знаниями и представлениями, со своим жизненным опытом, причем соотнести так, чтобы включить этот предмет в систему причинно-следственных связей, на основе которых возможно его объяснение и предсказание, его интерпретация и оценка» [8, с. 81]. А на место «познания» в психологических определениях понимания чаще всего представляется «мышление» или «мыслительная деятельность»: «Важное место в мыслительной деятельности занимает понимание, т. е. раскрытие существенного в предметах и явлениях действительности, в разных случаях носящее различный характер» [11, с. 263]. Обобщая, можно сказать, что и в нашей науке значительная часть работ, в которых делаются попытки выявить психологические механизмы понимания, относится к двум указанным проблемным областям. В частности, нетрудно заметить, что, с одной стороны, в приведенном выше определении Н. Д. Левитова понимание фактически сводится к системе знания, а в более поздней работе Ю. Н. Кулюткина уже только сопоставляется со знанием, жизненным опытом субъекта. С другой стороны, Н. А. Менчинская [11], как и А. А. Смирнов [17] и некоторые другие психологи, приписывают пониманию функции, традиционно характеризующие в психологической литературе мышление – в результате эти два понятия становятся практически неразличимыми.
Главная трудность, возникающая перед психологом, пытающимся определить роль и место понимания в структуре мыслительной деятельности, состоит в том, чтобы установить хотя бы приблизительно границы этих областей и точки пересечения образующих их понятий. Попытаемся преодолеть эту трудность, проанализировав соотношение содержания и объема понятий «понимание», «знание», «познание» и «мышление».
Знать и понимать. Адекватное отражение человеком предметного мира в знании происходит в процессе оперирования объектами, из которых мир состоит. Мышление человека представляет собой познавательную деятельность, в ходе которой субъект, взаимодействуя с объектом, выявляет некоторые неизвестные ранее стороны, свойства последнего, получает новое знание о нем. Знания, с одной стороны, «являются результативным эквивалентом мышления, т. е. тем, во что превращается мышление (как процесс взаимодействия) в фазе продукта; с другой стороны, переходя в процесс, т. е. включаясь в деятельность индивида, знания проявляются как компонент мышления или какой-либо производной от него формы психической деятельности. Будучи следствием мышления, знания являются вместе с тем и одним из его условий» [13, с. 90].
Понимание отличается от знания прежде всего тем, что представляет собой осмысление знания, действия с ним. Действуя, мысленно преобразуя отраженный в знании фрагмент действительности, человек выходит за его непосредственные границы: например: понимая художественное произведение, картину, зритель (соучастник творчества) включает его объективное содержание в контекст своего опыта и пытается определить замысел художника. Осуществляя выводы, выдвигая гипотезы, совершая другие мыслительные действия по преобразованию объекта познания, человек получает новое знание о нем. Поэтому в акте понимания субъекту нередко открываются такие стороны объекта, которые не были в явном виде представлены в исходном знании. Именно так с помощью периодической системы элементов Д. И. Менделеева, воплотившей научное понимание физико-химической природы вещества, были предсказаны, а затем и открыты новые элементы галлий, германий, скандий и др.
Ситуация и контексты употребления терминов «знание» и «понимание» обычно в научной литературе не различаются, а сами они воспринимаются как синонимы тогда, когда понимание отождествляется со знанием как продуктом мыслительной деятельности. Например, можно называть понимающим человека, знающего, как действовать в сложной ситуации, которую он раньше пытался понять и это ему удавалось. Вместе с тем мы нередко называем знающим того, кто понял суть трудного вопроса, т. е. обладает знанием о возможных ответах на вопрос. Такого человека, например инженера-механика, хорошо усвоившего теорию машин и механизмов и успешно применяющего ее на практике, все равно, как назвать: знающим предмет или понимающим его.
И наоборот: содержание понятий «знание» и «понимание» оказывается принципиально различным тогда, когда они анализируются вне контекста той интеллектуальной деятельности, в ходе которой субъект понимает отображенную в знании реальность. В повседневной жизни человек нередко попадает в ситуацию, в которой он знает что-то, но не понимает. Это происходит, как правило, тогда, когда у него отсутствует минимум знаний о подобных явлениях, который необходим для начала осмысления непонятного.
Допустим, человек, не сведущий в радиотехнике, обнаружил, что его телевизор сломался. Получив новое знание, он не способен понять его предметное содержание, потому что не может соотнести новое свойство телевизора с известными ранее: принципы работы аппарата ему неизвестны. Таким образом, чтобы понимать отображенную в знании действительность, необходимо осмысливать ее содержание, опираясь на прошлый опыт, т. е. на знания, полученные в мыслительной деятельности, осуществленной ранее.
Вместе с тем при психологическом анализе соотношения знания и понимания не следует забывать, что, осмысливая знание, мысленно оперируя отраженным в нем предметом, человек формирует представление не только об объективном содержании знания. В процессе осмысления отраженной в знании реальности у субъекта возникает смысл последнего, т. е. познавательное отношение к содержанию понимаемого фрагмента действительности.
Познавательное отношение конкретно проявляется в характере мыслительных действий с содержанием понимаемого, направленных на выход за его рамки, включение понимаемого фрагмента в более обобщенную картину мира. К таким действиям относятся догадки о причинах понимаемых событий и выводы о последствиях, к которым они могут привести; предположения о замыслах творца и т. п. В частности, смыслом художественного кинофильма оказывается не его сюжет (объективное содержание), а та идея, тот вывод, который делает зритель, выходя из кинотеатра.
Антипод смысла – бессмыслица. Мы воспринимаем событие как непонятное, не имеющее для нас смысла, если не можем сформировать познавательное отношение к нему, не знаем, в каком контексте его следует интерпретировать.
Раскрыв любую сегодняшнюю газету, можно наткнуться на статью, автор которой с возмущением пишет о таком анахронизме, как «нелепые, бессмысленные запреты», тормозящие ход перестройки в различных областях нашей жизни. Один из многочисленных примеров неоправданного запрета – отказ в просьбе группе работников юридической консультации оказывать правовую помощь населению и во внерабочее время, на договорных началах. Обычно запрет воспринимается как бессмысленный, непонятный потому, что, во-первых, при сопоставлении содержания документа, в котором он выражен, с современными социально-экономическими условиями обнаруживается, что запрет противоречит этим условиям, не соответствует основным требованиям перестройки хозяйственного механизма нашей страны. Во-вторых, в изменившихся социально-экономических условиях многие запреты явно устарели. В этой ситуации запрет кажется тому, кого он непосредственно касается, нелепым и ничем не оправданным потому, что понимающий не знает причин запрета (его введения) и не может обосновать целесообразность его применения сейчас.
Итак, формирование познавательного отношения субъекта к объективному содержанию понимаемого фрагмента действительности, порождение операционального смысла знания о нем – это и есть процесс понимания. Понимание представляет собой осмысление отраженного в знании объекта познания, формирование смысла знания в процессе действия с ним. Такое определение понимания позволяет уточнить характер его отношения к знанию в психической деятельности человека. При рассмотрении знания и понимания в результативном аспекте можно утверждать, что понять – значит узнать смысл понимаемого. С точки зрения понимающего субъекта «знать» и «понимать» означает одно и то же в том случае, если он знает смысл понимаемого. В частности, упоминавшийся нами инженер-механик понимает теорию машин и механизмов, потому что знает смысл основополагающих принципов данной теории. При обращении к процессуальному аспекту анализа проблемы следует сказать, что понимание формируется в деятельности по мере того, как субъект порождает, узнает операциональный смысл этого знания. До возникновения смысла знание существует в психике человека как непонятное, т. е. ситуации «знать» и «понимать» различаются.
Анализ знания с позиций смысловой теории мышления. Для того чтобы служить основой для понимания, знание должно обладать несколькими характерными особенностями.
1. Знание должно быть осмысленным, т. е. иметь для субъекта вполне определенный операциональный смысл, сформировавшийся в процессе мыслительной деятельности. Осмысленность кажется неотъемлемым свойством знания, функционирующего в человеческой коммуникации. Тем не менее смысловая компонента отсутствует во многих моделях знания, например геометрических [18]. Отчасти это обусловлено тем, что некоторые исследователи, ясно осознавая многозначность и недостаточную научную определенность термина «смысл», стараются вообще не употреблять его в своих работах. Однако осознанное или неосознанное стремление к игнорированию роли процессов смыслообразования в формировании понимания неизбежно ведет к упрощенным представлениям о природе последнего. Особенно отчетливо это проявляется в практике компьютерного моделирования знания при создании «понимающих систем». В частности, В. С. Файн [23] считает, что задачу машинного понимания естественного языка следует решать не анализируя смысл понимаемого текста, а путем сведения ее к задаче распознавания образов. Процедура узнавания (распознавания), безусловно, играет важную роль в понимании, а в некоторых ситуациях – даже решающую роль. Однако в других познавательных и коммуникативных ситуациях психологическое содержание понимания оказывается гороздо богаче. Для понимания подобных ситуаций (причин дорожной аварии, принципа работы часового механизма и др.) человек (или «понимающая система») наряду с узнаванием должен примерять и другие процедуры – прогнозирование, объяснение и т. д. [14].
2. Знание должно иметь определенную ценность для мыслящего субъекта. Как показали эксперименты по решению задач, направленные на исследование операциональных смыслов [19], оперировать знанием в мыслительной деятельности – значит так или иначе оценивать его. Познавательное отношение испытуемого к мыслительной задаче в целом и ее компонентам конкретно проявляется в формирующихся у него оценках: оценках достижимости результатов действий; предвосхищающих эмоциональных оценках, связанных с активным поиском и преобразованием наличной ситуации; констатирующих эмоциональных оценках, связанных с результативными аспектами деятельности и т. п. Наличие оценок отражает селективный характер мыслительного поиска: субъективно-ценное принимается испытуемым в качестве некоторой нормы, образца, на который следует равняться при выборе дальнейших действий по решению задачи; субъективно незначимое отбрасывается как не отвечающее цели решения. Положительно оцененные ситуации и действия становятся основой понимания нового знания о мире, получаемого в ходе мыслительного поиска: решающий оказывается способным понять только те выраженные в знании фрагменты действительности, которые сумеет соотнести с принятым им образцом и найдет соответствие между понимаемыми фрагментами и образцом.
Однако субъективно понятное знание (представление человека о мире) объективно может не соответствовать реальности. В частности, действия по решению задачи, понятные испытуемому и кажущиеся ему правильными, могут вести к неверному результату. Этот многократно проявляющийся в экспериментах факт ставит перед психологами проблему соотношения понимания, ценности и истинности знания.
Формирование понимания связано главным образом с установлением соответствия отраженной в знании понимаемой действительности некоторой субъективной ценности, оценочному образцу, возникшему в процессе мыслительного поиска. Неадекватность субъективного образца, его противоречие объективной реальности не препятствует формированию понимания, но ведет к появлению у человека неправильного, ложного понимания действительности. Понимать можно, и не определяя истинности или ложности знания. Например, читатель способен понять прочитанную в книге фразу, даже не имея отчетливого представления о том, правду говорит автор или нет. Для понимания достаточно правдоподобия: человек поймет прочитанное, если вспомнит такую ситуацию («возможный мир»), в который описываемые события вполне могли бы происходить. Следовательно, понимая, субъект не точно знает, что объект понимания относится к возникшей в памяти ситуации-образцу, а только предполагает это, верит в такую возможность. Уточнение предположения, переход от возможности к достоверности требует от него совершения дополнительных мыслительных действий, направленных на определение того, действительно ли знание характеризует именно эту ситуацию. Иначе говоря, мыслительные действия направляются на установление истинности или ложности знания о понимаемой предметной ситуации. Указанные действия не имеют прямого отношения к формированию понимания, но способствуют составлению адекватного представления человека о реальности, помогают ему ориентироваться в ней. Полученное в результате мыслительной деятельности дополнительное знание о предметном мире становится основой для появления нового, более точного и глубокого понимания мира субъектом.
Таким образом, определение ценности знания, формирование отношения субъекта к объекту вплетено в психологическую ткань понимания, является обязательной предпосылкой его становления и развития. Установление истинности знания не включается непосредственно в процессе понимания, но, как и другие познавательные процедуры человеческого мышления (объяснение, предсказание и т. п.), способствует получению субъектом нового, адекватного знания о понимаемой реальности; в конечном счете это приводит к уточнению и углублению понимания, предметной действительности.
3. Формируя субъективные ценности, нормы и образцы, с которыми следует сопоставлять понимаемое, человек ориентируется на социальные ценности, нормы и образцы того общества, в котором он живет по своему содержанию для всех членов социальной общности и зафиксированное в писаных или неписаных законах поведения. Однако в процессе понимания объективное знание трансформируется, преломляясь сквозь призму личностного знания [12]. В результате субъективные образцы, определяющие индивидуальный характер понимания, могут существенно отличаться от объективных.
В структуре личностного знания значительное место занимают невербализованные и плохо поддающиеся словесному выражению формы знания (это отчетливо видно, например, в экспериментальных исследованиях смыслообразования – см.: [19]. Анализируя процесс понимания, психолог нередко сталкивается с тем, что понимание как результат мыслительной деятельности испытуемого удается отождествить лишь с относительно рефлектируемой составляющей знания, к тому же с трудом поддающейся осознанию и явному обнаружению самим испытуемым. В контексте анализа понимания вербализуемое знание представляет собой только верхушку айсберга, невидимое основание которого образуют менее осознанные, научно обоснованные и достоверные формы знания: убеждения, отношения, вера и т. п. В частности, при понимании предметной действительности достоверное знание объединяется с нашим мнением о вещах, людях, событиях, образуя пристрастную репрезентацию окружающего мира.
Т. А. ван Дейк, подчеркивая важную роль в становлении процесса понимания текста убеждений, мнений и отношений понимающего субъекта, отмечает некоторые их отличия от знания. Они более эпизодичны, чем знание, основаны на личном опыте, влияют на поступки субъекта. Мнения – это оценочные убеждения, обозначающие индивидуальное отношение человека к чему-либо. Если для знания мы ожидаем согласования с социальными нормами и критериями истины, то мнение вполне может быть личным и объективно неверным. Отношения представляют собой совокупности мнений, вовлеченных в сложную систему социальных взаимодействий (например, отношение разных социальных групп к проблеме ядерной угрозы).
Личностное знание играет не менее важную роль в формировании понимания, чем объективно достоверное знание, т. е. такое, соответствие которого действительности неоднократно подтверждалось жизненным опытом как самого понимающего, так и других людей. В частности, в процессе понимания происходит актуализация не только знания о ситуации-образце, с которой сопоставляется понимаемое, но и релевантной этой ситуации системы отношений. Актуализация знания, как правило, происходит под контролем и регуляцией мнений и убеждений субъекта. Взаимодействие и взаимовлияние в процессе понимания вербализованных и невербализованных компонентов мыслительной деятельности приводят к образованию индивидуально-своеобразной структуры личностного знания. Последняя выражает конкретный характер познавательного отношения субъекта к содержанию объекта понимания, т. е. операциональный смысл понимаемого, сформировавшийся к данному моменту деятельности.
Отсюда следует важнейшая задача психолога, изучающего понимание, – установить, как должна быть организована структура личностного знания человека, чтобы не препятствовать, а способствовать возникновению у него смысла понимаемого.
4. Все мыслительные действия с содержанием понимаемого, определяющие его смысл (гипотезы о причинах природных явлений; умозаключения об основной идее, концепции художественного произведения; догадки о мотивах поведения наблюдаемого человека в толпе прохожих, например, так ярко, эмоционально и талантливо описанные в новелле С. Цвейга «Неожиданное знакомство с новой профессией», и т. п.), в той или иной мере включает в себя процедуры логического вывода. Психологические процессы логического вывода, умозаключения являются обязательными составляющими понимания и играют решающую роль в образовании операциональных смыслов. При формировании понимания происходит включение нового получаемого в мыслительной деятельности знания в систему знания, уже имеющегося у человека. Умозаключения, входящие в психологический состав гипотез, предположений, определения причин и следствий понимаемых событий и т. п., оказываются как бы соединительными звеньями между субъективным отражением содержания понимаемого и более обобщенной структурой личностного знания, прошлого опыта человека, в контексте которой понимаемое приобретает для него смысл.
Следовательно, структура личностного знания, способного служить основанием для понимания, должна быть организована таким образом, чтобы она могла играть роль предпосылки для умозаключения и выводов. Такая структура должна давать понимающему субъекту возможность перевода неявной, имплицитной формы знания в эксплицитное объективное знание. Иначе говоря, понимание будет успешным, если понимающий из неявного предпосылочного знания сумеет сделать явные выводы, составляющие психологическое ядро операциональных смыслов. В познавательной деятельности структурой личностного знания, организованной способом, отвечающим указанным выше требованиям, обычно оказывается субъективная формулировка проблемы, вопроса, задачи.
Познавать и понимать. Процесс познания представляет собой постановку человеком вопросов об интересующих его сторонах действительности и поиск ответов на них, формулирование проблем, задач и их решение. В результативном плане познание – это совокупность знаний, возникающих в результате ответов на вопросы и решения задач. Акты познания, в том числе и те, которые впоследствии приобретают общественную форму и определяют прогресс человечества, совершаются в головах конкретных индивидов в процессе их мышления. Отношения между познанием и мышлением сложны и противоречивы. Познание переходит в мышление и практически перестает быть самим собой, когда продукт взаимодействия субъекта с объектом, т. е. знание, превращается в процесс [13]. Включаясь в процесс мышления, знание становится дополнительным стимулом его развития и источником получения нового знания о действительности. В момент получения нового знания завершается один из циклов мыслительной деятельности. В этот момент мышление – поиск нового, неизвестного – снова на мгновение превращается в познание: человек узнает то, к чему стремился. Затем начинается следующий цикл взаимодействия человека с миром, образованный переходом познания в мышление и последнего снова в познание.
Рассмотрим, какое место занимает понимание в диалектике отношений познания и мышления. Как в теории познания, так и в психологии мышления давно известно, что во время решения познавательной задачи субъект неоднократно переформулирует ее исходные условия. В каждой новой формулировке задачи уже в какой-то мере заключено неявное знание, являющееся решением этой задачи. У человека сформируется операциональный смысл последовательности шагов мыслительного поиска, он поймет переформулированную задачу и решит ее, если сделает такие предположения и выводы из изменившейся ситуации, которые не противоречат объективным условиям задачи и соответствуют целям познающего субъекта (например, если шахматист догадается, что размен ферзя может повлечь утрату инициативы и в конечном счете привести к проигрышу).
Функция понимания в познании состоит в осмыслении, анализе знания, имеющего для субъекта проблемный характер, в раскрытии его происхождения и потенциальных возможностей. Проблемное знание отражает область тех неизвестных человеку закономерностей или способов действия, которые он не может раскрыть, опираясь только на прошлый опыт и достигнутый уровень способов действия. Анализируя непонятные события или ситуации, отраженные в проблемном знании, человек определяет, какие предположения и умозаключения можно сделать, какие ответы возможны на вопросы к проблемному знанию на разных стадиях решения задачи. Совершенные догадки, предположения, умозаключения, найденные ответы на вопросы и образуют различные конкретные операциональные смыслы знания для познающего субъекта.
Следовательно, теории понимание как один из компонентов познания связано не столько с процедурами получения нового знания (операциями и действиями по преобразованию наличной ситуации, пере-формулированию исходных условий задачи, поисками новых способов решения и т. п.), сколько с процедурами его осмысления. С этой точки зрения понимание представляет собой не простую констатацию наличия проблемного знания в мыслительной деятельности. Понимание включает выяснение того, почему что-то непонятно, почему в процессе мышления получено именно такое знание, а также на какие потенциальные вопросы оно может ответить, какую роль сыграть в решении задачи. Понимая, мыслящий субъект исходит из своих целей деятельности и, кроме того, учитывает конкретные особенности понимаемой ситуации. В зависимости от этих факторов он устанавливает связи анализируемой ситуации либо с прошлым, известными ситуациями (выбираемыми в качестве образцов, ценностных ориентиров), либо с будущим, прогнозируемыми ситуациями (они также становятся эталонами для сравнения). В первом случае понимаемое приобретает для субъекта смысл понимания-узнавания, во втором – понимания-прогнозирования [14].
Изложенная позиция соответствует современным исследованиям по логике и методологии научного познания. В частности, в логике вопросов и ответов отмечается, что «под значением вопроса следует понимать совокупность ответов, допускаемых этим вопросом» [2, с. 18]. Известный историк и философ Р. Дж. Коллингвуд [7] также считает, что смысл любого исторического события можно определить, только установив, на какой вопрос (вопросы) оно может служить ответом. Поэтому в историческом исследовании нельзя утверждать, что один древний текст противоречит по смыслу другому, если не доказано, что авторы обоих текстов отвечали на один и тот же вопрос. В отечественной философии таких же взглядов на соотношение знания, понимания и познания придерживается Б. С. Грязнов: «Понимание – это процедура реконструкции вопросов, на которые отвечает наличное знание» [4, с. 33]. В психологии подобный подход развивает Л. П. Доблаев. Подводя итоги, отметим, что, как свидетельствует методология науки, ни в одной из областей научного познания понимание не является ведущим методом исследования и его основной целью. Понимание – это не способ постижения мира, а только его момент, момент получения знания о действительности [10]. Понимание опосредствует процесс получения знания, наделяя его смыслом.
Итак, с позиций смысловой теории мышления понять какое-нибудь событие (ситуацию, явление) – значит сформировать его операциональный смысл, опираясь на знания о событиях такого рода. Образование операциональных смыслов происходит путем установления связи выявленного в процессе мышления объективного содержания проблемного знания (например, условий задачи, инструкции по эксплуатации незнакомого бытового электроприбора и т. д.) с фрагментами структуры личностного знания человека, в контексте которого понимаемое приобретает для него смысл. Устанавливая связь, мыслящий индивид представляет, переживает фрагменты структуры личностного знания как некую ценностную норму, субъективно значимую ситуацию-образец, с которой следует сравнивать предметное содержание понимаемого знания. Установление связи осуществляется посредством догадок, предположений, выводов и т. д. (Отвечая на вопрос, поставленный в начале раздела, скажу: догадки и тому подобное как раз и являются конкретными психологическими видами познавательного отношения субъекта к объекту понимания). Выдвигая гипотезы, совершая пробные попытки решения задачи, человек изучает проблемную ситуацию, исследует характер проблемного знания и перспективы его использования на следующих этапах мыслительного поиска. Так в мыслительной деятельности происходит осмысление, понимание знания, полученного на определенной стадии решения задачи. Становясь осмысленным, знание перестает быть проблемным, т. е. теряет для субъекта статус непонятного. Затем это знание включается в процесс познания и служит одним из источников возникновения нового знания, которое снова требует от мыслящего субъекта осмысления, понимания.