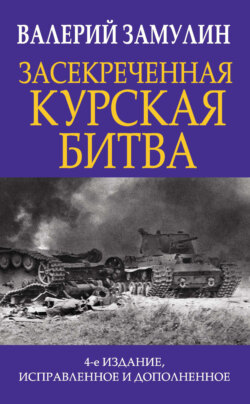Читать книгу Засекреченная Курская битва - Валерий Замулин - Страница 3
Глава 1
Сражение за Прохоровку началось
1.1. Гвардейский марш к Прохоровке
ОглавлениеК исходу 5 июля 1943 г. и в Ставке ВГК стало очевидно, что при определении района, из которого немцы нанесут главный удар по войскам, удерживавшим Курский выступ, была допущена ошибка, и прежде всего в отношении Воронежского фронта. Поэтому сразу возник вопрос об усилении белгородского направления стратегическими резервами, но решился он не сразу. Хотя события 6 июля и последующих дней настойчиво подталкивали к этому решению. Его командующий, генерал армии Н. Ф. Ватутин, уже во второй половине 5 июля 1943 г. был вынужден отдать приказ о выдвижении к утру 6 июля на вторую оборонительную полосу всех резервов фронта, а уже к 7 июля по его распоряжению в 6 гв. А и 1 ТА была направлена часть сил из 40 и 38А, не задействованных в отражении главного удара ГА «Юг». Таким образом, практически на третий день оборонительной операции руководство Воронежского фронта исчерпало свои возможности усиливать опасные участки.
Однако решение о направлении стратегических резервов Москвой было принято только через сутки. Вечером 6 июля в адрес И. В. Сталина поступила просьба Военного совета фронта об оказании помощи, которую поддержал начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А. М. Василевский, прибывший к Н. Ф. Ватутину в качестве представителя Ставки. Он рекомендовал направить сюда часть сил Юго-Западного и Степного фронтов. И. В. Сталин согласился, и уже в ночь на 7 июля с тыловых районов на юг Курской дуги двинулась мощнейшая группировка – два отдельных танковых корпуса (2 и 10 тк) и две армии (5 гв. ТА, 5 гв. А). Причем корпуса изначально получили приказ не просто выйти в полосу Воронежского фронта, а сосредоточиться именно в район станции Прохоровка. Командование гвардейских армий получило иную задачу.
Первыми, как и планировалось, начали прибывать отдельные танковые корпуса. 10 тк генерал-лейтенанта В. Г. Буркова из состава 5 гв. А подошел непосредственно к станции в 19.00 7 июля, а 2 тк генерал-майора А. Ф. Попова опаздывал. Он тоже двигался своим ходом, но с Юго-Западного фронта, и в это время его главные силы от Прохоровки были еще далеко. О том, как перебрасывались войска Буркова и Попова в район свх. «Комсомолец» – ур. Сторожевое я детально описывал в мой книге «Курский излом», поэтому останавливаться на этом не будем. Гвардейские армии начали подходить позже, конкретные районы их сосредоточения и последующего развертывания в ходе переброски уточнялись несколько раз. Например, в 15.40 8 июля, когда одна из них – 5 гв. ТА уже вышла в район Старого Оскола, Н. Ф. Ватутин и Н. С. Хрущёв доложили в Ставку:
«На прохоровское направление выведены вновь подошедшие два танковых корпуса (10-й и 2-й), которые за счет резерва фронта усилены двумя противотанковыми артдивизионами 85-мм пушек и двумя минометных полков.
Противник, несмотря на огромные потери, настойчиво стремится прорвать наш фронт на обоянском направлении.
Не исключено, что он будет продолжать усиление своих войск на обоянском направлении, стаскивая их с других участков фронта, главным образом с участка Юго-Западного фронта и Южного фронта.
Для более прочного прикрытия обоянско-курского направления, а главное для обеспечения своевременного перехода наших войск в контрнаступление в наиболее выгодный момент, считаем необходимым теперь же, начать быстрое выдвижение:
а) армии Жадова – в район Обоянь, Прохоровка, Марьино.
б) танковой армии Ротмистрова – в район Призначное (10 км восточнее Прохоровки), Короча, Скородное.
Кроме того, просим усилить авиацию Воронежского фронта двумя истребительными и одним штурмовым авиакорпусами»[4].
Ставка согласилась с этими предложениями и отдала приказ: выдвинуть 5 гв. А на участок Обоянь/иск/ – Прохоровка тыловой армейской полосы, а 5 гв. ТА – сосредоточить в тылу Воронежского фронта – юго-западнее г. Старый Оскол, в готовности продолжить движение в район железнодорожных станций Ржава или Прохоровка.
Вот как П. А. Ротмистров вспоминал момент получения приказа о выдвижении его 5 гв. ТА из мест основного базирования в район г. Острогожска Воронежской области к г. Старый Оскол, в ту пору Курской:
«…5 июля 1943 года начальник штаба Степного фронта генерал-лейтенант М. В. Захаров сообщил мне по телефону, что на Центральном и Воронежском фронтах завязались ожесточенные бои.
В основной состав нашей армии дополнительно включается 18 тк генерала Б. С. Бахарова. Свяжитесь с ним. Приведите все войска армии в полную боевую готовность и ждите распоряжений, – потребовал он.
…На следующий день (6 июля. – 3. В.) в армию прилетел командующий Степным фронтом [5] генерал-полковник И. С. Конев. Он уже более подробно информировал меня о боевой обстановке.
Наиболее мощный удар противник наносит на курском направлении из района Белгорода. В связи с этим, – сказал Иван
Степанович, – Ставка приняла решение о передаче Воронежскому фронту 5 гв. ТА и 5 гв. А. Вам надлежит в очень сжатые сроки сосредоточиться вот здесь. – Командующий очертил красным карандашом район юго-западнее Старого Оскола.
Примерно через час после того, как улетел И. С. Конев, позвонил по ВЧ И. В. Сталин.
– Вы получили директиву о переброске армии на Воронежский фронт? – спросил он.
– Нет, товарищ Иванов, но об этом я информирован товарищем Степиным.
– Как думаете осуществить передислокацию?
– Своим ходом.
– А вот товарищ Федоренко говорит, что при движении на большое расстояние танки выйдут из строя, и предлагает перебросить их по железной дороге.
– Это делать нельзя, товарищ Иванов. Авиация противника может разбомбить эшелоны или железнодорожные мосты, тогда мы не скоро соберем армию. Кроме того, одна пехота, переброшенная автотранспортом в район сосредоточения, в случае встречи с танками врага окажется в тяжелом положении.
– Вы намерены совершать марш только ночами?
– Нет. Продолжительность ночи всего семь часов, и, если двигаться только в темное время суток, мне придется на день заводить танковые колонны в леса, а к вечеру выводить их из лесов, которых, кстати сказать, на пути мало.
– Что вы предлагаете?
– Прошу разрешения двигать армию днем и ночью…
– Но ведь вас в светлое время будут бомбить, – перебил меня Сталин.
– Да, возможно. Поэтому прошу Вос дать указание авиации надежно прикрыть армию с воздуха.
– Хорошо, – согласился Верховный. – Ваша просьба о прикрытии марша армии авиацией будет выполнена. Сообщите о начале марша командующим Степным и Воронежским фронтами.
Он пожелал успеха и положил трубку.
Мы тут же наметили маршруты движения армии. Для марша была определена полоса шириной 30–35 километров с движением корпусов по трем маршрутам. В первом эшелоне двигались два танковых корпуса, во втором – 5-й гв. Зимовниковский мехкорпус, другие боевые части и тылы.
6 июля – день моего рождения. Естественно, что мне хотелось отметить его в кругу своих боевых друзей. Заранее были разосланы приглашения на товарищеский ужин командованию корпусов, офицерам и генералам полевого управления армии. С изменением обстановки я решил приглашений не отменять, а воспользоваться сбором командиров для отдачи предварительных распоряжений на марш.
Каково же было удивление собравшихся, когда вместо празднично накрытого стола они увидели меня за оперативной картой. Я информировал их о предстоящей переброске армии и поставил задачи. Все же после обсуждения всех вопросов, связанных с маршем, было подано трофейное шампанское, и боевые друзья поздравили меня с юбилеем и высказали добрые пожелания»[6].
В отчете штаба армии отмечается, что письменный приказ командующего Степным фронтом был получен 6 июля в 23.30. В нем он потребовал в сжатые сроки сосредоточить войска на западном берегу р. Оскол в районе Салтыкове, Меловое, Коньшено, Орлик, Коростово, Верхне-Атамановское, в готовности действовать в направлении: Обоянь, Курск. Так начинался марш Пятой гвардейской к Прохоровке. По расстоянию, которое было необходимо преодолеть, техническим возможностям армии, а главное – результату, на тот момент подобный переход был беспримерным.
В течение часа оперотделом был подготовлен и направлен в войска приказ № 1, в котором соединениям ставились следующие задачи:
«…2. 5 г в. ТА, оставаясь в подчинении Степного военного округа, к рассвету 8.7.43 г. ночным маршем выходит на западный берег р. Оскол на участке: Старый Оскол и Новый Оскол.
3. Передовому отряду гвардии генерал-майора Труфанова в составе: 1 гв. окмцп, 53 гв. тп, 689 unman, одна батарея 678 гап, двигаясь по маршруту: Острогожск, Красное, Болотова, Чернянка, к рассвету 7.7.43 г. выйти в лес, севернее Красная Поляна, 1,5 км западнее Чернянки. Исходный пункт Губаревка пройти в 1.30 7.7.43 г.
4. 29 тк, с одним полком МЗА 6 зад, имея маршрут: Острогожск, Красное, Болотово, Чернянка – центральным, к рассвету выйти в район: Салтыкова, Сергиевка, Богословка, Волоково, Дубенка. Разведку вести на запад до Скородное.
Штакор – Кутузово.
5. 18 тк к рассвету 8.7.43 г. сосредоточится в районе: Огибное, Коньшин, Красная Поляна, Ольшанка. Все пункты в 30 км северо-западнее Новый Оскол. Через р. Оскол переправиться на участке: Чернянка, Новый Оскол. Разведку вести до Корочи. Штакор – Волковка.
6. 5 гв. Змк, с одним полком МЗА 6 зад к рассвету 8.7.43 г. выйти в район: Верхне-Атаманское, Комаревцево, Коростово, Сорокино. Через р. Оскол переправиться на участке: Старый Оскол, Ивановка.
Штакор – Монаково.
…10. Начальнику инженерной службы обеспечить переправы через р. Оскол на участке Старый Оскол и Новый Оскол.
12. Базы и станцию снабжения до особого распоряжения прежние. В районе Болотово к рассвету 8.7.43 г. развернуть один полевой госпиталь и ремонтный батальон.
13. 1-й эшелон шт арам а до 17.00 7.7.43 г. на прежнем месте /лес, в 5 км северо-западнее Острогожск/, в дальнейшем – Долгая Поляна.
2-й эшелон – Острогожск, в дальнейшем по особому распоряжению»[7].
Не меньше чем прикрытие с воздуха, командование армии заботили технические возможности боевых машин и способность личного состава, в первую очередь служб обеспечения и механиков-водителей, безаварийно провести марш, который предполагался быть очень тяжелым. Ведь до этого момента ни у кого еще не было опыта переброски своим ходом более 800 единиц бронетехники на несколько сот километров. Какой ее процент выйдет из строя на этом пути и в каком состоянии окажется основная часть танков в районе сосредоточения – эти два вопроса П. А. Ротмистров требовал от комкоров держать постоянно на контроле и прикладывать все усилия для сохранения максимального уровня боеспособности своих соединений.
При решении этих задач четко налаженная служба замыкания и слаженная работа ремонтных подразделений должна была сыграть первостепенную роль. А ее организацией предстояло заняться помощнику командующего армией по технической части полковнику С. А. Соловому, его аппарату и подчиненным в корпусах и бригадах. Марш был серьезным испытанием и для инженерной службы армии, которую возглавлял полковник Б. Д. Исупов. Разведка маршрутов движения, ремонт и укрепление мостов, проверка дорог на проходимость гусеничной и колесной техники, наличие минных полей, – все это в кратчайший срок должны были выполнить его подразделения. Как покажут дальнейшие события, решить поставленные задачи в полном объеме и с необходимым качеством обеим службам не удастся.
Передовые части армии двинулись в путь после ноля часов 7 июля. Основные силы корпусов «вытягивались» из прежних районов с рассветом и до 10.00. Марш планировался в два этапа, в конце первого – всем трем корпусам предстояло выйти к р. Оскол, форсировать ее и сосредоточиться для подтягивания тылов и отставшей техники в указанных каждому районах. К началу движения 29 тк генерал-майора И. Ф. Кириченко располагался в 7-12 км западнее Острогожска, в районе Шубное, Лесное Уколово, Березово, Губаревка и на первом этапе должен был, преодолев расстояние в 150 км, к 14.00 8 июля выйти к селам Салтыковка, Сергиевка, Богословка, Волково, Дубенок. Перед 18 тк генерал-майора Б. С. Бахарова стояла более сложная задача. За первые сутки ему предстояло пройти значительно большее расстояние, 230 км, и к утру 8 июля сосредоточиться в районе Волковка, Огибное, Коньшено, Ковылино, Орловка.
Возможно, это покажется странным, но огромные массы войск 5 гв. ТА, двигавшиеся в светлое время суток, практически не подвергались бомбардировке и обстрелу с воздуха. Хотя цели для ударов были как на полигоне. Колонна только 29 тк растянулась на 15 км, а прикрывали ее лишь два полка МЗА – 32 37-мм орудия и 32 пулемета ДШК, т. е. на 1 км приходилось по две пушки и два пулемета. Поэтому в случае бомбардировки двигавшиеся части могли понести значительные потери, так как все зенитные орудия транспортировались грузовиками и для их развертывания в боевое положение требовалось определенное время. Особенно удобной мишенью армия стала при подходе к р. Оскол, где из-за проблем с мостами корпуса простояли неподвижно подряд до 7 часов, но удара с воздуха не последовало.
В документах ее штаба зафиксирован лишь один налет люфтваффе, осуществленный на рассвете 7 июля на колонну 689 иптап, двигавшуюся по г. Острогожску. В ходе этой бомбежки полк не понес значительных потерь и управление в нем не было нарушено. В дальнейшем это обстоятельство дало основание сначала командованию 5 гв. ТА, а затем и ряду советских историков утверждать, что немцы не смогли вскрыть подход ее к Прохоровке. Хотя в некоторых документах штаба 5 гв. ТА ситуация в воздухе в ходе марша оценивалась вполне объективно и делались правильные выводы. Например, начальник штаба ее артиллерии полковник П. И. Коляскин отмечал: «Передвижение массы автомобилей, танков и орудий в светлое время по ограниченному числу дорог и открытой местности давало возможность противнику бомбить боевые порядки частей еще далеко на подходе, но его авиация была скована на фронте, и на сосредоточение целой армии внимание не обращала»[8].
И действительно, немецкая разведка фиксировала движение к Прохоровке значительного числа подвижных резервов. Г. Гот даже в п. 1 приказа № 5 по армии, подписанном вечером 9 июля, об этом упомянул [9]. Тем не менее появление утром 12 июля 1943 г. перед фронтом 2 тк СС более 800 единиц бронетехники будет для его соединений подобно грому среди ясного неба. Однако причина отсутствия налетов была не в том, что 4ВФ неудачно проводил дальнюю разведку. К началу Курской битвы у его командования не было возможности решать одновременно две задачи: наносить удары по тылу и поддерживать на поле боя танковые соединения, «прогрызавшие» армейские полосы обороны Воронежского фронта. А после того как вечером 7 июля по приказу из Берлина 30 % авиапарка 8 ак 4ВФ было передано в ГА «Центр», ситуация еще более осложнилась. Поэтому немцам было не до целей в тыловых районах, даже таких заманчивых, как многокилометровые колонны войск и техники в светлое время.
Первые вопросы в организационном плане, которые затем стали причинами более существенных проблем, возникли уже в начале марша. Например, согласно приказу армии, 29 тк в отведенном ему районе должен был сосредоточиться к 14.00 7 июля, но в силу объективных причин он опоздает более чем на сутки. Его части шли за передовым отрядом генерала К. Г. Труфанова, который еще утром, в районе Лесное Уколово (8 км от Острогожска), задержал движение войск армии почти на 3 часа. А затем начали возникать все новые и новые вопросы. Причем причины основных технических проблем, которые возникнут в ходе марша, были заложены, как и следовало ожидать, в первые часы его подготовки. Управление бронетанкового снабжения и ремонта армии к наиболее существенным недостаткам, которые были допущены при планировании и подготовке переброски армии, относило следующие:
«1. При рекогносцировке маршрута не от всех частей принимали участие представители технических служб.
2. Не по всем маршрутам движения армии, за исключением 29 тк, были организованы подвижные СПАМ-ы, что привело к распылению ремсредств.
3. Недостаточно полно был продуман вопрос дозаправки техники на марше и вышедшей из ремонта.
4. Ремонтные средства распылялись: на участки ремонта направлялись лишь отдельные летучки, которые были не способны решить все вопросы, что приводило к затягиванию и потере управления ремонтом.
5. Слабо было организовано как корпусами, так и армией материально-техническое обеспечение ремонта. Это привело к длительным простоям бронетехники, вышедшей из строя, в ожидании запчастей, нерациональному использованию автотранспорта и ремонтных средств.
6. Нечетко была спланирована и работа по вводу в строй отремонтированной техники. Места ее сосредоточения для организованного направления ее в части заранее не были определены. Это приводило к тому, что ремслужбы были вынуждены экипажи с отремонтированными машинами направлять в свои подразделения по отдельности, без технического сопровождения, которые часто сбивались с маршрута, повторно выходили из строя и не имели возможности своевременно заправиться[10].
Марш оказался очень трудным для всего личного состава и по вполне объективным причинам, особенно в боевых подразделениях. После тяжелой весенней кампании танковые батальоны потеряли значительное число опытных, обстрелянных членов экипажей, поэтому к лету в их состав поступило много молодежи, бойцов и младших командиров, имевших небольшой опыт вождения бронетехники. Условия работы в танке всегда были очень тяжелыми. Тесное замкнутое пространство, непрерывный гул работающего двигателя, из-за которого невозможно даже понять фразу, сказанную товарищем, сидящим рядом. Большую физическую нагрузку в ходе длительного марша испытывали механики-водители. Ветераны-танкисты рассказывали: «Если в бою надо смотреть в оба, чтобы снаряд в твою машину не влепили, то на марше еще хуже: надо держать и темп, и дистанцию, и за дорогой следить. Впереди танк, сзади танк, видимость плохая, гляди да гляди, чтобы ни ты, ни в тебя не въехали. За день так рычагами надергаешься, что ни рук не подымешь, ни спины не разогнешь, а в голове сплошной гул». Работа экипажа осложнялась дорожными и погодными условиями. Из воспоминаний заместителя командира по политчасти 2 тб 31 тбр ст. лейтенанта Н. И. Седыщева: «Погода стояла очень жаркая. Экипажи были подготовлены к совершению марша, но даже закаленные танкисты после прохождения 200 км были сильно утомлены. Видимость на проселочных дорогах была плохой, поднятая пыль забивала не только все механизмы, но и уши, и горло, а главное глаза. Очки не спасали механиков-водителей, а жара изматывала до предела»[11]. Командование бригад и батальонов, понимая это, пыталось облегчить их труд, они подменялись другими членами экипажей, имевшими опыт управления танками, полностью был задействован и резерв танковых экипажей командиров корпусов.
Проблемы движения танковых соединений усугублялись тем, что для артиллерии армии не была выделена отдельная дорога. В это время 18 тк имел три артминполка (1000 иптап, 1694 зенап, 292 мп), в 29 тк – четыре (108 иптап, 1446 сап, 271 мп, 366 зенап), а 5 гв. Змк – пять (104 гв. иптап,1447 сап, 285 мп, 409 гв. мп, 146 зенап). Не все эти части имели такую же мобильность, как бронетехника, но шли вместе с танковыми бригадами в одной колонне. Из-за этого было невозможно увеличить темп их марша. Начальник штаба артиллерии армии докладывал: «Части артиллерии двигались в боевых порядках корпусов по двум дорогам. Растяжка частей была значительной, увеличивалась она как в силу большой пыли, а также из-за недостатка тренировки водительского и офицерского состава. Растяжка колонн, отставания отдельных орудий усугублялась еще и тем, что командиры полков, командующие артиллерией корпусов, не имели подвижных средств связи управления. Наличие 2–3 мотоциклов давало бы возможность сокращать разрывы между частями и направлять отставшие орудия по определенному маршруту. Радиосвязь так же отсутствовала.
Трехдневный марш протяженностью в 250 км не мог не отразиться на состоянии автотранспорта. Сборы отставших машин продолжались до полудня 11 июля. На отставании автомашин сказалась и слабая подготовка водительского состава, большинством которых вождение машин усвоено было плохо» [12].
За движением танковой гвардии с воздуха на самолете У-2 наблюдал генерал-полковник И. С. Конев, которому было поручено в установленные сроки передать армию Воронежскому фронту. Он был против «раздергивания» своего округа, считал, что целесообразнее сохранить его в первоначальном составе, иначе в контрнаступление, запланированное после завершения Курской оборонительной операции, переходить будет не с чем. Но Ставка решила по-иному: сначала надо остановить противника, а потом уже думать о контрнаступлении.
К исходу 7 июля войска 5 гв. ТА начали подходить в район южнее г. Старый Оскол, но и здесь не все складывалось гладко, на р. Оскол не оказалось мостов грузоподъемностью 50–60 тонн. Поэтому армия фактически остановилась у реки, и ее корпуса смогли сосредоточиться в назначенных им районах с опозданием, лишь после постройки мостов, вечером 8 июля. А в это время оперативная обстановка на обоянском направлении заметно осложнилась, поэтому уже в 23.40 8 июля штаб армии получил новое распоряжение, согласно которому ее войскам к исходу 9 июля предстояло выйти в район Бобрышёво, Большая Псинка, Прелестное, Александровский (ст. Прохоровка), Большие Сети. Это означало, что впереди у танкистов еще от 75 до 100 км. В 1.00 9 июля командарм подписал приказ № 2, в котором ставились следующие задачи:
«2. 5-я гв. танковая армия, двигаясь с мерами охранения, 9.7.43 г. выходит в район Бобрышёво, Большая Псинка, Карташёвка, Александровский, Журавка, Большие Сети, Прилипы.
Передовым частям корпусов выступить в 2.00. Главным силам начать движение в 3.00.
3. Передовой отряд генерала Труфанова, в составе: 1 гв. омцп,53 гв. тп, 689 unman, батареи 678 гап, двигаясь по маршруту: Ольшанка, Коньшино, Скородное, Чуево, Вязовое, Петровка, Марьино к 6.00 9.7.1943 г., сосредоточиться в лесу в 6 км южнее Марьино. Ольшанку пройти 2.00 9.7.43 г.
4. 5 гв. Змк сосредоточиться в районе: Бобрышёво, Большая Псинка, Нижняя Ольшанка/иск. /, западная окраина Верхняя Ольшанка, Псёлец.
Штакор – Нагольное. Выступление немедленно.
Граница слева: Котенёвка /иск. /, Сергеевка, Юшково/иск. /, Троицкое /иск. /, Марьино.
5. 29 тк сосредоточиться в районе: Марьино/иск. /, Вихровка, Журавка, Петровка, Большие Сети, Прилипы.
Штакор – Нагольное. Выступление немедленно.
Граница слева: Хворостянка, центр – Скородное, Кулига, Журавка.
6. 18 тк сосредоточиться в районе: Средняя Ольшанка, Нижняя Ольшанка, Александровский /иск/, Журавка, восточная окраина Верхней Ольшанки.
Штакор – Малая Псинка. Выступать немедленно.
Движение южнее дороги Холодное – Александровский – запрещаю.
7. Артиллерия, 76 гв. мп, 678 гап, двигаться по маршруту: Хворостянка, Скородное, Вязовое, Большие Сети, Пристенное и сосредоточиться в районе Ржавчик.
Из занимаемого района выступить в 12.00 9.7.43 г.
9. 994 авиазвену к 10.00 10.7.43 г. передислоцировать в район Марьино.
10. Начальнику тыла армии выделить в распоряжение корпусов три армейских хирургических госпиталя. Передовые базы горючего, боеприпасов и продовольствия выдвинуть в район Обуховка, 12 км юго-западнее Старый Оскол.
11. Рубеж Вислое, Дубровка, Чай кин о, Калинин, Скородное, Коренёк, Нижне-Троицкий, Ивановка, в связи с наличием минных полей, проходить только по дорогам, с большими предосторожностями.
12. Первый эшелон штаба армии – Марьино. Второй эшелон – особым распоряжением»[13].
На рассвете 9 июля войска 5 гв. ТА вновь двинулись в путь, и вечером того же дня передовые бригады 18 отк и 5 гв. Змк начали сосредотачиваться у ст. Прохоровка и в излучине р. Псёл. «…Марш из Острогожска в Прохоровку армия совершила блестяще, – писал П. А. Ротмистров. – И дело, конечно, не только в том, что командиры корпусов и бригад были настоящими мастерами вождения танковых войск и что штаб армии отлично организовал службу регулирования. Марш был совершен блестяще потому, что политико-моральное состояние армии было отличным, прекрасно была поставлена служба технического обеспечения.
…В ходе марша соединения армии два раза вытягивались в колонны и дважды свертывались. Из 72 часов общего времени, потраченного на марш, воска армии фактически двигались 35 часов. Таким образом, общая средняя часовая скорость для всей армии составила около 10 км в час. Передовой отряд армии двигался со средней скоростью 25 км в час, танковые бригады – 15–20 км в час, и танковые корпуса – 12–15 км в час.
…Все боевые машины 29-го танкового корпуса совершили марш без единой аварии. Мелкие технические неисправности, возникшие в пути, немедленно устранялись, и машины вновь возвращались в строй.
Марш 5-го гвардейского механизированного корпуса прошел несколько хуже, но и этот корпус в установленные сроки прибыл в назначенный район. Количество машин, отставших по техническим причинам, исчислялось единицами, но и они через сутки были поставлены в строй.
В 18-м танковом корпусе также по техническим причинам остановилось в пути несколько боевых машин, которые были через сутки восстановлены и введены в строй»[14].
Действительно, в целом переброска войск 5 гв. ТА почти на 350 км за трое суток прошла достаточно организованно, без больших потерь в людях и технике. Хотя оценки маршам каждого корпуса в техническом отношении и организации служб обеспечения ее руководство и штаб дали разные: 29 тк – хорошо, 5 гв. Змк – удовлетворительно, 18 отк – неудовлетворительно[15]. Об их справедливости мы поговорим ниже, главное, армия не только пришла на место своим ходом, сохранив главные силы бронетехники, но и за несколько суток до вступления в бой, что позволило решить много существенных проблем, возникших в ходе марша, и заметно повысить боеспособность корпусов. Такой результат, безусловно, большая заслуга всего личного состава, и в первую очередь командарма, комкоров и комбригов. Однако утверждение П. А. Ротмистрова об отлично налаженной работе всех служб в ходе марша и буквально единицах техники, оставленной корпусами на обочинах дорог, которые якобы были восстановлены в течение суток, не соответствует тому, что изложено в отчетных документах его же войск.
В книге Д. С. Ибрагимова[16] приводятся данные о количестве танков, вышедших из строя в 5 гв. ТА по техническим причинам с 7 по 9 июля 1943 г. включительно, которые собрал член комиссии ГАБТУ капитан Л. В. Сергеев, находившийся в армии для оценки организации марша. Согласно его информации, по пути из г. Острогожска до ст. Прохоровка из 706 танков и САУ армии потребовали ремонта в общей сложности 110 бронеединиц, то есть более 15,6 % [17]. К 12 июля из этого числа было восстановлено примерно половина. Однако данные из рассекреченных оперативных документов штаба армии Ротмистрова свидетельствуют, что эта цифра существенно занижена. Во-первых, в трех корпусах, двух сап, 53 гв. тп и 1 гв. омтцп к началу марша числилось всего не 706, а 721 бронеединица. Во-вторых, в пути отстало не 110, а 198 танков и САУ, или 27,5 % материальной части. Кроме этого, к вечеру 11 июля в район сосредоточения прибыли еще 24 танка, которые сразу же были отправлены в ремонт. Таким образом, всего на марше из строя вышло 222 танков и САУ, т. е. одна треть армии (30,8 %). Что же касается технических служб, то они работали довольно эффективно и, действительно, к моменту ввода армии в бой восстановили около 50 % вышедшей из строя техники. Согласно все тому же донесению штаба 5 гв. ТА на 17.00 11 июля, в пути еще находилась в общей сложности 101 боевая машина.
Что же касается происшествий с ранением и гибелью личного состава, то они были, но их оказалось немного: погиб офицер в 25 тбр 29 тк (попал под танк), два солдата мотоциклетного полка в результате наезда Т-70 на мотоцикл М-72 получили увечья и были отправлены в госпиталь. Таким образом, переброска более сорока тысяч человек и нескольких тысяч танков, САУ, автомашин, броневиков и мотоциклов была признана организованной и успешной.
По количеству танков 29 тк был самым многочисленным, но подготовка технических служб и управление на марше в нем, безусловно, было организованно лучше, чем в других соединениях. После первого, 150 км броска, из более 218 танков и 21 САУ в нем по техническим причинам вышло из строя всего 12 танков и одна СУ-76. Согласно оперативной сводке штакора № 88, к 12.00 10 июля на ходу числилось: Т-34-123 шт., Т-70-81 шт., СУ-76-8 шт., СУ-122-12 шт. За успешное выполнение сложной задачи и минимальное число аварий Военный совет армии объявил генерал-майору И. Ф. Кириченко и всему личному составу соединения благодарность.
В двух других корпусах количество бронетехники, вышедшей из строя, оказалось значительно больше, не считаные единицы, как утверждал командарм, а в общей сложности один танковый корпус, ее сбор и восстановление продолжалось несколько суток. Из двух соединений по аварийности лидировал 18 отк. На первом этапе, к 22.00 8 июля, из 187 танков в нем вышли из строя 104, или 55,6 %, а в ходе марша в район Прохоровки эта цифра выросла до 117 танков, или 62,6 %. Однако напряженная работа по сбору и восстановлению техники шла круглосуточно, что давало существенные результаты. К 14.00 10 июля в корпусе числилось уже 83 танка, находившихся в пути и ремонте.
На высокую аварийность в соединении Бахарова повлияли несколько факторов, но основных было два. Во-первых, плохая организация марша. Комкор и весь руководящий состав соединения оказались не на высоте. Его штаб даже график выхода на марш спланировал из рук вон плохо. В результате колонны бригад, начавшие движение позже, сталкивались с обозами передовых. В этой обстановке комбриги, понимая, что если двигаться с такой скоростью, то выйти вовремя в указанный в приказе район не смогут, пытались обгонять впереди идущих, искать обходные пути. Это вело к перемешиванию войск, авариям и в конечном итоге грозило тем, что техника и люди могли попасть на собственные минные поля. К счастью, этого не произошло. Во-вторых, на первом этапе корпус прошел значительно большее (в полтора раза) расстояние, чем соседи, например, 29 тк – 150 км, а 18 тк – 230 км.
Тем не менее первая крупная задача, поставленная перед его войсками, была выполнена плохо. Выход из строя больше половины бронетехники руководством армии не без основания был расценен как свидетельство безответственного отношения к своему делу командиров соединения всех уровней, слабой подготовки к маршу как личного состава, так и технических служб. Особенно это становится очевидным, когда начинаешь сравнивать показатели технического состояния танков в других корпусах. Уже после завершения Курской битвы, в сентябре 1943 г., на одном из совещаний командного состава 18 отк его новый командир генерал-майор К. Г. Труфанов отмечал: «Есть закон: «Не организовал марш и растерянно пришел на поле боя – не будет победы». Это относится ко всем родам войск и особенно к механизированным и танковым частям. До момента выступления в 18 тк наличествовала чрезмерная самоуспокоенность, считали, что с точки зрения технического состояния машин в частях полный порядок, а также благополучно и с водительским составом. Но когда выступили на марш, то жизнь показала другое. Предстояло пройти расстояние в 230 км по лесистой и сильно пересеченной местности. В начале были нарезаны три дороги. С точки зрения тактического построения марш возражений не встречает, но технически он не был обеспечен. Отсутствовала разведка маршрута, служба регулирования работала плохо, саперные подразделения почти не использовались, в результате чего после использования не проверенных на грузоподъемность слабых мостов, которое сопровождалось авариями, корпус был вынужден вытянуться на одну дорогу, и тут начались все несчастья: перемешивание колонн, в боевые части вклинивался транспорт, а это большая беда, когда каждый старался как можно скорее протолкнуть свой транспорт, не считаясь с боевым построением. И не поймешь, где танки, а где обозы.
Плохо также была организована служба замыкания. Из строя выходили танки и часто, при этом не получая технической помощи по 2–3 дня, простаивали в поле. Таким образом, значительная часть боевого состава соединения без боя вышла из строя. В силу этих причин 18 тк более 50 % материальной части потерял на марше»[18].
Удручающие результаты марша, которые были связаны напрямую с работой комкора, а затем неудача, постигшая всю армию 12 июля 1943 г. под Прохоровкой, лично для Б. С. Бахарова будут иметь серьезные последствия. Генерала сделают стрелочником, т. е. на него спишут многое, в том числе просчеты и ошибки, к которым он не имел прямого отношения. 18 отк был «чужим», он вошел в состав армии только 6 июля. Поэтому его неудачи представлялись как более весомые, чем «своих» корпусов. Хотя если взять показатель 5 гв. Змк, то они свидетельствуют что его службы тоже сработали не лучшим образом. На втором этапе его бригадами на дорогах было оставлено 29,5 % бронетехники, к 16.00 10 июля отставшими числилось 65 танков и САУ.
И еще одна, на мой взгляд, важная деталь, свидетельствующая о субъективности оценок боевой работы комкора-18 руководством армии. Штабы 18 и 29 тк в своих сводках доносили, сколько техники в строю в каждой бригаде и полку и какое ее количество в ремонте, при этом отставшие танки отмечали отдельно. В оперативной сводке 5 гв. Змк количество отставших боевых машин и число исправных тоже указано, но вместе с тем особо оговаривалось, что «все прибывшие с марша боевые машины требуют регулировки и текущего ремонта в течение двух дней». В донесениях же других соединений, в том числе и 18 отк, такого уточнения нет, хотя очевидно, что проблемы с техникой у них были те же, что и у мехкорпуса. Возможно, полковник И. В. Шабаров, начальник штаба 5 гв. Змк, перестраховался, сообщив, что вся техника корпуса, мягко говоря, ограниченно боеспособна. Гадать дело неблагодарное, ясно одно: переброска мехкорпуса к Прохоровке, как более крупного боевого формирования, оказалась значительно тяжелее и прошла хуже, чем даже 18 отк. Если танковые корпуса 5 гв. ТА, как тогда выражались, «подтянули все хвосты» к исходу 12 июля, то мотопехота и техника 5 гв. Змк подходила после этого еще около суток. Так, согласно донесению штарма, на 17.00 11 июля, т. е. накануне знаменитого боя под Прохоровой, в 18 отк числилось в пути 33 танка, 29 тк – 13, а 5 гв. Змк – 51[19]. Следовательно, Б. С. Бахаров по техническим причинам не сможет ввести в бой 12 июля 1943 г. в среднем 1/6 часть бронетехники, а у командира 5 гв. Змк генерал-майора Б. М. Скворцова в это время была неисправна 1/4 часть всего танкового парка. Для подтверждения того, что проблемы, возникшие в войсках 5 гв. Змк в ходе марша, стали следствием, как и в 18 отк, плохой организации со стороны его командования, приведу выдержку из отчета управления бронетанкового снабжения и ремонта 5 гв. ТА по обобщению опыта войны, который был подготовлен в 1945 г. «В период боевой подготовки армии в районе г. Острогожска, все армейские, корпусные и бригадные учения проходили только на базе 29 тк, – отмечается в документе, – так как 18 отк влился в ее состав, когда она вышла на марш, а 5 гв. Змк влился в состав армии в районе г. Острогожска, но значительно позже, а на исходе мая и в армейских учениях участия принимал мало, что и сказалось на марше.
…Марш 5 гв. Змк прошел недостаточно организованно. Несмотря на то, что корпус в своем составе имел 86 орвб, равный по технической мощи армейскому АРВБ, большое количество танков и СУ осталось по оси движения корпуса. Часть танков сбились с маршрута и в течение 2–3 дней разыскивались.
Плохо было организовано в корпусе и восстановление вышедшей из строя на марше материальной части.
86 орвб, находясь в техническом замыкании корпуса, не обеспечил себя необходимыми запчастями для быстрого восстановления танков и СУ на марше. В результате чего приходилось снимать армейские ремсредства для восстановления танков и СУ 5 гв. Змк, в то время как ремлетучки 86 орвб не могли быть загружены. Такое отношение к организации марша привело к тому, что к началу операции на прохоровском плацдарме часть танков не могли участвовать в ней и пришли позже, когда она уже развивалась» [20].
П. А. Ротмистров был знаком с этим документом, когда готовил рукопись своей первой работы о событиях под Прохоровкой, вышедшей в I960 г. Отдельные его абзацы, практически без правки, включены в нее, но только те, что работали на положительный имидж армии и, соответственно, ее командарма, а не показывали проблемы и реальное положение дел в ходе марша, которое было далеко не таким радужным, как представлено в его книге.
Однако, несмотря на приведенные выше факты, при оценке результатов существенной роли они не сыграют, основной гнев будет сконцентрирован лишь на ошибках руководства 18 отк. После завершения оборонительной операции Воронежского фронта Б. С. Бахаров получит серьезное взыскание, и не только за боевые действия, его снимут с должности и назначат с понижением. А комкору Б. М. Скворцову за работу спустя рукава даже предупреждения не вынесут.
В передовом отряде Труфанова, несмотря на то что он прошел 290 км, больших проблем с аварийностью боевых машин не было. Из двух его полков, которые располагали танками, лишь 1 гв. омтцп оставил на ремонт в с. Чернянка три Т-34, а в 53 гв. тп вся техника дошла до Обояни своим ходом. В пути произошел один несчастный случай, но без человеческих жертв и долговременного ремонта: Т-70 подорвался на мине в 10 км севернее райцентра Скородное.
Таким образом, предложение П. А. Ротмистрова о движении армии на Воронежский фронт своим ходом себя оправдало. Во-первых, она своевременно вышла в указанный район, имея в запасе еще двое суток до начала контрудара для подтягивания тылов и приведения в порядок техники. И к моменту, когда возникнет необходимость ввести ее в бой, армия окажется полностью боеспособна. Во-вторых, от воздействия противника не было потеряно ни одной боевой единицы. В-третьих, для переброски столь значительного числа войск не были задействованы ресурсы железнодорожников. Они были использованы для решения других важных проблем обоих фронтов, оборонявших Курскую дугу.
Авторы некоторых публикаций сетуют на то, что в результате марша был выработан моторесурс. Танки, пришедшие на Воронежский фронт, находились в состоянии, которое можно было определить как «предремонтным», а личный состав крайне измотан. И действительно, это так. По данным управления бронетанкового снабжения и ремонта армии, за период с 6 по 19 июля 1943 г. (т. е. марш и боевые действия под Прохоровкой) почти вся ее бронетехника выработала моторесурс на 75 %[21]. Но в той ситуации для советской стороны ключевым фактором являлось не это, а своевременная переброска войск крупного подвижного объединения для успешного завершения тяжелой и очень важной оборонительной операции. Командование фронтом крайне нуждалось в резервах, и танковая армия была для него необходима в ближайшие дни. Вечером 9 июля начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А. М. Василевский, по-прежнему являвшийся представителем Ставки ВГК на Воронежском фронте, был вынужден отдать приказ П. А. Ротмистрову: вывести подходившие с марша войска 18 отк и 5 гв. Змк не в район выжидательных позиций, а во второй эшелон под Прохоровку, не без основания опасаясь, что оборонявшиеся здесь стрелковые части не удержат позиции. И, как покажут дальнейшие события, эта перестраховка окажется не лишней. 32 мсбр 18 тк была вынуждена вступить в бой 11 июля во втором эшелоне. Кроме того, его артгруппа в этот же день оказывала поддержку огнем 52 гв. сд при отражении ею удара дивизии СС «Мертвая голова» в излучине р. Псёл, а 10 и 11 июля 183 сд при наступлении мд СС «Лейбштандарт» вдоль грейдерной дороги на Прохоровку.
При переброске 5 гв. ТА по железной дороге такой оперативности добиться было невозможно. Погрузка и разгрузка требовали значительного времени и сил. Непосредственно в районах дислокации корпусов железнодорожных веток не было, поэтому технику все равно пришлось бы гнать и до места погрузки на платформы, и от станции разгрузки. Последняя станция перед Прохоровкой была Ржава. В 10 км от нее находился штаб фронта. В мае 1943 г., чтобы обезопасить его руководство от вражеской агентуры и налетов авиации, под благовидным предлогом из окрестностей станции выселили все гражданское население. Поэтому до начала немецкого наступления все военные грузы (в первую очередь для 6 гв. А) выгружали в Прохоровке, а после начала боев в основном на ст. Кривцово и Полевая – около 100 км от передовой. Ветка, которая должна была связать ст. Старый Оскол с магистралью Прохоровка – Курск (ее еще называли железной дорогой Старый Оскол – Ржава), только строилась, следовательно, гнать составы пришлось бы из Воронежской области, где находилась 5 гв. ТА, через Курск. К этому следует добавить немаловажную деталь: для переброски армии потребовалось бы несколько сот платформ, вагонов и паровозов.
Вместе с тем надо учитывать, что танк создавался не в качестве средства передвижения, как автомобиль, рассчитанный на эксплуатацию в течение нескольких лет. Практика показывала – «тридцатьчетверка» ходила в бой подряд в среднем 3 раза без ремонта. Поэтому на моторесурс в столь экстремальных условиях никто внимания не обращал. Оперативная обстановка требовала выполнения приказа, а это значит вовремя и полностью сосредоточить объединение в указанном районе, что и было сделано.
Первым из соединений армии Ротмистрова в район Прохоровки вышел 18 отк. Уже в 15.00 9 июля передовые подразделения 32 мсбр полковника М. Е. Хватова начали разворачиваться за рубежом 52 гв. сд, 285 сп 183 сд и войсками 2 тк. В первый эшелон, по линии: Карташёвка, выс. 236, 7, Полежаев был выдвинут 2 мсб, 1 мсб – на его левый фланг от Прелестного и далее на северной окраине свх. «Октябрьский» до дороги Прохоровка – Яковлево. 3 мсб вышел во второй эшелон и окопался вдоль дороги Прохоровка – Береговое (через выс. 252, 4). Около 18.00 к Прохоровке подошли танковые бригады соединения Бахарова и приступили к окапыванию техники на позициях 32 мсбр. «Район сосредоточения корпуса представлял собой открытую местность, пересеченную глубокими оврагами, – отмечалось в отчете его штаба, – не имеющую колонных путей. Отсутствовали леса, сады в населенных пунктах, что сильно демаскировало расположение частей корпуса в чистом поле, из-за этого расположение частей в течение 10 и 11 июля подверглось авианалетам противника»[22].
В тот же день, через несколько часов, за 18 отк начали сосредотачиваться войска 5 гв. Змк. В 23.00 9 июля в лес, севернее села Большая Псинка, вошли 48 танков 24 гв. тбр, а к южной окраине с. Нагольное подошли 11 сау 1447 сап. Примерно в это же время 11 гв. мбр одним батальоном втянулась в лес, 2 км юго-западнее с. Кривцово, а остальные две его бригады корпуса (10 гв. и 12 гв. мбр) были еще на значительном расстоянии от назначенного им района.
В 23.00 9 июля начальник штаба 5 гв. ТА генерал-майор В. Н. Баскаков отдает подряд три распоряжения командирам всех корпусов. Для генерал-майора Б. С. Бахарова:
«1. 18 тк к рассвету 10.7.43 г. занять оборону с передним краем по северному берегу р. Псёл на участке: Весёлый, Полежаев, южная окраина Прелестное, южная окраина Александровский.
2. Не менее одной бригады иметь в резерве за своим левым флангом.
3. Танки, артиллерию и личный состав закопать в землю, обеспечив хороший перекрестный огонь всех видов оружия перед передним краем.
4. В разрыве между вашим левым флангом и частями, обороняющимися южнее, выставить боевое охранение, обеспечив его танковой поддержкой.
5. Немедленно приступить к восстановлению и заправке матчасти. Личному составу дать отдых.
Готовность к отражению атаки противника с получением настоящего распоряжения. Готовность к активным наступательным действиям – с рассветом 10.7.1943 г.»[23].
Для генерал-майора И. Ф. Кириченко:
«1. 29 тк к рассвету 10.7.43 занять оборону с передним краем: южная опушка леса, что в 5 км южнее Марьино, южная окраина Свино – Погореловки, Журавка. В своем резерве иметь не менее двух танковых бригад, одной из которых быть готовым контратаковать противника в направлении: Журавка, Красное, Правороть» [24]. Остальные пункты, как и для 18 отк.
Для генерал-майора Б. М. Скворцова:
«1. 5 гв. Змк к рассвету 10.7.43 г. двумя бригадами занять оборону с передним краем по северному берегу р. Псёл на участке р. ЗаПсёлец, Весёлый /иск. /. Одну танковую и одну мехбригаду держать в резерве.
3. Ответственность за стык с 18 тк, занимающим оборону левее, возлагаю на Вас.
Готовность к наступательным действиям с рассветом 10.7.43 г.»[25]
За ночь мехкорпус Скворцова подтянул часть сил и к 9.0010 июля занял на тыловой армейской полосе следующие позиции:
– 11 гв. мбр одним батальоном (два остальных были еще в пути) с 104 гв. unman окопалась на правом берегу Псёла, по линии: Зорина, Шипы; 54 гв. тп располагал в строю 28 Т-34 и 15 Т-70,
– 3 мсб 10 гв. мбр без двух рот (1, 2 мсб и 2, 3/3 мсб в пути) и 11 сау 1447 сап, вышли на рубеж: Семеновка, Пересыпь, Карташёвка; 51 гв. тп имел в строю 27 Т-34 и 14 Т-70.
Корпусной 285 мп двумя дивизионами (24 120-мм миномета) – на огневой позиции в лесу, в 3 км северо-восточнее Семеновки, с задачей поддержать огнем войска 10 гв. и 11 гв. мбр.
Остальные его части и соединения на самостоятельные участки обороны не выводились и сосредоточились в тылу для приведения в порядок техники и личного состава [26].
Первый эшелон КП 5 гв. ТА ее 377 сапбат начал оборудовать еще 8 июля в селе Ржавчик (24 км севернее Прохоровки). Во второй половине дня 9 июля здесь уже работала оперативная группа во главе с начальником штаба генерал-майором В. Н. Баскаковым, а вечером сюда прибыл на своем «Виллисе» и командарм. Однако штарм здесь задержался ненадолго, уже в 17.00 11 июля его первый эшелон перебазировался в с. Скоровка (в 7 км северо-восточнее Прохоровки), где он и будет находиться до завершения Курской оборонительной операции.
Когда 5 гв. ТА уже двинулась из района Острогожска, войска 5 гв. А еще находились на первом фронтовом рубеже по линии: Заосколье, Александровка, Белый Колодезь, Скородное. О получении приказа на марш к Прохоровке ее командующий генерал-лейтенант А. С. Жадов так вспоминал: «Прилетевший 8 июля на КП армии генерал-полковник И. С. Конев сообщил, что приказом Ставки 5 гв. А переходит в подчинение командования Воронежского фронта, и тут же поставил задачу: к утру 11 июля выйти на рубеж р. Псёл, занять оборону и не допустить дальнейшего продвижения противника на север и северо-восток. И. С. Конев предупредил, что восточнее Прохоровки к исходу дня 9 июля сосредоточиваются корпуса 5 гв. ТА генерал-лейтенанта танковых войск П. А. Ротмистрова.
Выдвижение армии на указанный рубеж мы провели организованно и быстро, этому помогла проведенная заранее рекогносцировка. Согласно принятому мною решению, штаб армии, возглавляемый генерал-майором Н. И. Ляминым, в считаные часы спланировал марш: наметил полосы и маршруты движения для корпусов, рубежи регулирования, районы привалов. Для каждого корпуса выделялось по четыре маршрута, из расчета два на каждую дивизию первого эшелона. Для штаба армии и армейских частей выделялся отдельный маршрут. В это время мною были поставлены задачи на марш командирам корпусов, частям и соединениям армейского подчинения.
Закончив с организацией марша, я с членом Военного совета генерал-майором А. М. Кривулиным, командующими артиллерией, бронетанковыми войсками, армейским инженером, группой офицеров оперативного и разведывательного отделов штаба, подразделениями связи выехал вперед, в район нового расположения КП армии – лес в 1,5 км юго-западнее Яригино. Контроль за совершением марша осуществлял мой первый заместитель генерал-майор М. И. Козлов, а также начальник штаба, которые следовали с колонной штаба армии по центральному армейскому маршруту»[27].
Армия Жадова переформировывалась из 66 А в гвардейскую весной 1943 г., поэтому к лету уже имела корпусные управления – два стрелковых и один танковый. 10 тк находился под Прохоровкой с вечера 7 июля, а 32 гв. и 33 гв. ск, которые в этот день только двинулись в путь, состояли из шести стрелковых дивизий: 6 гв. вдд, 13 гв., 66 гв. сд, 9 гв. вдд, 95 гв. 97 гв. сд, а 42 гв. сд являлась резервом командарма. Кроме того, армия располагала: 29 зенад, двумя иптап РГК, минометным полком, полком «катюш» и отдельным батальоном ПТР. Это лишь боевые соединения, а для их обеспечения всем необходимым работал целый город на колесах. В него входили еще 92 подразделения тыловых служб: части связи, автогужевые, транспортные подразделения, санитарные, ветеринарные, продовольственные, военно-технические учреждения, ремонтные мастерские, сборные пункты аварийной техники, армейские базы снабжения, военторг, запасные части, сборно-пересылочные и штрафные подразделения, заградотряды и подразделения НКВД. В то время передвижного холодильного оборудования не было, поэтому за армией двигалось огромное стадо, которое на армейском языке именовалось – «45-м армейским гуртом продовольственного скота». Все это армейское хозяйство, получив приказ о переброске армии, пришло в движение и начало готовиться к перебазированию в другие районы.
Первыми на марш выступили подразделения обеспечения Полевого управления армии – саперный батальон, отдельная рота охраны ВПУ, узел связи и отдельный штабной автомобильный взвод. Организацией командного пункта занимался заместитель начальника штаба по ВПУ генерал-майор А. И. Олейникову взводом Т-70 в роте охраны командовал его сын, лейтенант Г. А. Олейников. После войны Георгий Андреевич вспоминал: «5 гв. ТА к исходу дня вышла в назначенные районы, а 5-я гв. общевойсковая армия двигалась форсированным маршем. Организуя выдвижение корпусов, штаб армии, предвидя возможное развитие обстановки на фронте, заблаговременно наметил вероятные полосы из расчета – два маршрута на каждую дивизию первого эшелона, и провел их рекогносцировку. Это значительно сократило время на организацию форсированного марша с получением конкретной боевой задачи армией. Были только уточнены задачи разведки, время прохождения рубежей, порядок регулирования движения и обеспечения беспрепятственного продвижения по маршрутам.
В походное построение дивизий и полков с самого начала выдвижения был заложен замысел вероятного встречного боя с противником. Батальоны совершали марш со своими средствами усиления. Артиллерия дивизий шла в голове колонн главных сил. Противовоздушная оборона осуществлялась силами 29 зенад, перекатами от рубежа к рубежу, на уровне головных частей дивизий первого эшелона.
При организации выдвижения штабом армии были отданы дополнительные распоряжения:
– особое внимание было обращено на организацию борьбы с танками противника, для чего было приказано в первую очередь «выбросить на рубеж обороны артиллерию»;
– для обороны, прежде всего, использовать имеющиеся оборонительные сооружения, выгодные рубежи и населенные пункты;
– при отсутствии готовых оборонительных сооружений «в наикратчайший срок оборудовать необходимые инженерные сооружения для жесткой обороны»;
– строго «соблюдать тщательную маскировку»;
– «до выхода частей на рубежи обороны организовать устойчивую связь и наладить бесперебойное управление выдвигающимися частями».
Сразу же с рассветом, еще в ходе постановки задач и организации выдвижения дивизий, ушел первый эшелон полевого управления армии с узлом связи инженерно-саперными подразделениями и охраной для развертывания передового командного пункта и НИ командующего. Возглавлял этот элемент органов управления первый заместитель начальника штаба армии. В составе этого эшелона ушел со своим взводом и автор.
К исходу 9 июля, уже в сумерках, мы прибыли в назначенные точки: передовой командный пункт – в рощу юго-западнее Ярыгино, а подразделения обеспечения развертывания наблюдательного пункта командарма – в балку юго-западнее хутора Остренький.
Марш прошел на удивление без каких-либо осложнений. Авиация противника так и не появлялась. День выдался жарким. Пыль стояла столбом. Было душно. Даже после захода солнца прохладнее не стало. После постановки нам задач на местности мы приступили к оборудованию позиций: для «семидесяток» (Т-70) – их было три, для прикрытия НП с фронта, а «бэашки» (БА-64), предназначенные для офицеров связи, в балке. Закопаться и замаскироваться необходимо было до рассвета. А ночь короткая. Работалось тяжело. Дышалось трудно, да и в воздухе витало непонятное напряжение, вызывавшее какую-то душевную тревогу.
Впереди, километрах в пяти-шести, с наступлением темноты над передним краем стали взмывать одиночные и сериями осветительные ракеты – желто-оранжевые – наши и ослепительно-белые, до голубизны – немецкие. Стояла, по фронтовым понятиям, тишина. Даже отдельные орудийные выстрелы и разрывы снарядов и мин ее не нарушали. Иногда в темноте возникали фейерверки трассирующих пулеметных очередей или серии снарядов МЗА, рвавшихся на излете, как бы ставя точку трассы.
И вдруг где-то около полуночи темень была разорвана ослепительной молнией, грянул гром. Небо разверзлось, и на наши головы обрушился такой ливень, словно там, наверху, открыли пожарный гидрант. Но длилось это светопреставление, сопровождаемое почти ураганным ветром, недолго. Так же внезапно, как и начался, прекратился ветер, унеся с собой и небесный водопад. Стало неправдоподобно тихо. Даже обычные «вздохи» передовой прекратились на некоторое время. Дышать стало легко, а работать еще трудней. Наши незавершенные окопы залило водой. А жирный чернозем превращал лопаты в пудовые гири.
Дойдя до эпизода с ливнем, я задумался, а стоит ли вспоминать о нем? Его, кстати, отмечали и артиллеристы 183 сд: «Ночью неожиданно небо распороли молнии, ударил гром, хлынул ливень». О дождях писал в своих воспоминаниях и генерал авиации А. В. Ворожейкин: «После дождей утро 12 июля выдалось прохладным».
Дело все в том, что в немецких документах есть ссылки на «трудности дорог» из-за дождей, что «невозможен» своевременный вылет авиации на поддержку наступления. А нам, участникам тех событий, запомнились жара и пыль столбом. Истины ради, следует согласиться с тем, что временами дожди были, были и ливни. Они действительно осложнили немцам решение своих задач»[28].
На новый КП, оборудованный в лесу, в 1,5 км юго-западнее села Ярыгино, руководящий состав штаба армии начал переходить с 20.00 10 июля.
Рубеж обороны Степного фронта, который занимали дивизии 5 гв. ТА, располагался на расстоянии от 60 до 80 км от позиций войск Воронежского фронта на прохоровском направлении. Выдвижение их передовых отрядов началось уже 7 июля, но конкретные задачи о выходе непосредственно в район Прохоровки командарм отдал только в ночь на 9 июля. Так, боевое распоряжение командиру 97 гв. сд генерал-майору И. И. Анциферову о совершении первого этапа марша и сосредоточении соединения в районе: Уколово, Чуево, Большое Становое (35–40 км от Прохоровки) поступил в 2.00 9 июля. А устный приказ комкора-33 генерал-майора И. И. Попова командованию 95 гв. сд о выходе к селам Холодное, Масловка, Андреевка, Жилин был передан начальником оперотдела штаба корпуса майором Чиберевым в 4.00 9 июля. Таким образом, готовиться к маршу непосредственно в район Прохоровки соединения 5 гв. А начали между 13.00 и 17.00 9 июля, а до этого момента ее войска уже преодолели первую половину пути и подтягивали тылы, приводя себя в порядок.
В 4.55 10 июля боевыми распоряжениями № 058/оп, 059/ оп и 060/оп А. С. Жадов поставил уже окончательные задачи каждому из стрелковых корпусов и своему резерву:
– 32 гв. ск с 1322 иптап РГК должен был к утру 11 июля занять оборону двумя дивизиями в первом эшелоне на рубеже: р. Запсёлец, Зорине, Шипы. Граница слева: Большая Псинка, Семеновка/иск/;
– 33 гв. ск с 301 иптап и 469 мп с рассветом 11 июля предстояло тоже занять рубеж, но всеми тремя дивизиями, одной на участке: Семеновка, Ольшанка/иск/, второй: Весёлый, выс. 252, 2/иск. ⁄ и третьей: выс. 252, 2, Мордовка;
– 42 гв. сд по-прежнему находилась в армейском резерве и получила распоряжение выйти в район: Глафировка, Свино-Погореловка, Журавка 2-я и подготовить отсечный рубеж: Скоровка, Журавка 1-я.
Командарм особо подчеркивал, что есть опасность встречи с противником уже в ходе движения на указанные рубежи, поэтому потребовал «выдвижение соединений корпуса на рубеж р. Псёл – Прохоровка производить под прикрытием заблаговременно выброшенных вперед сильных передовых отрядов» и далее «марш в район сосредоточения совершать в полной боевой готовности, при необходимости сходу вступить в бой и отразить атаки авиации»[29]. К сожалению, некоторые комдивы 33 гв. ск это предупреждение проигнорируют, что повлечет за собой трагические последствия.
5 гв. ТА являлась подвижным объединением, т. е. изначально не рассчитанным на оборону конкретного участка (полосы) фронта, и относилась к стратегическим резервам, собранным Ставкой весной для освобождения Украины. Учитывая это, а также принятое вечером 9 июля предварительное решение о проведении контрудара 12 июля с ее участием, у командования фронтом было понимание того, что 18 тк и 5 гв. Змк необходимо из второго эшелона обороны у Прохоровки выводить в район выжидательных позиций для подготовки войск как можно быстрее. А их место должны были занять соединения 5 гв. А. Поэтому днем 10 июля А. М. Василевский, назначенный И. В. Сталиным ответственным за ввод в бой обеих гвардейских армий, лично прибыл на КП А. С. Жадова и поставил задачу: ночью 11 июля выйти в район станции и перед рассветом быть готовыми к отражению удара противника. При этом маршал предупредил командарма, что на этом направлении немцы действуют значительными силами бронетехники, поэтому необходимо сразу обратить особое внимание на подтягивание к утру артиллерии и создание прочной ПТО в дивизиях первого эшелона.
В 14.30 10 июля командарм подписал боевое распоряжение № 061/оп, в котором было указано точное время выхода войск и занятия рубежа, а также вновь подчеркивалось, что армия выходит на не совсем подготовленную местность, где действуют подвижные соединения неприятеля:
«1. Под личную ответственность командиров корпусов и дивизий части армии вывести на указанный рубеж к 4.00 11.7.43 г. где и полностью занять оборону.
2. Особо обратить внимание на противотанковую оборону, для чего в первую очередь выбросить на рубеж обороны артиллерию. При занятии обороны в первую очередь использовать имеющиеся сооружения, выгодные рубежи и населенные пункты. Там, где нет окопов, ходов сообщений и траншей, необходимо открыть танковые, приспособив их к жесткой обороне (выделено. – 3. В.).
Все занятые рубежи тщательно замаскировать от воздушного и наземного наблюдения. Немедленно организовать связь сверху донизу с задачей обеспечения бесперебойного управления в процессе боя.
Все радиосредства подготовить к работе, не допуская работы до моего распоряжения»[30].
Большинство командиров дивизии восприняли это распоряжение как руководство к действию и немедленно организовали передовые отряды. Однако вышедшие на марш войска смогли взять с собой относительно немного боеприпасов, особенно артиллерийских снарядов и мин. Например, 97 гв. сд на 12.00 10 июля имела[31]:
Поэтому командиры соединений немедленно направили автомашины для доставки с баз снабжения дополнительного боепитания. Благодаря принятым мерам к началу боев количество всех боеприпасов в дивизиях было доведено примерно до 1,5 боекомплекта. Однако полковник А. М. Сазонов, командир 9 гв. вдд, которой предстояло действовать на направлении главного удара 2 тк СС, эту работу наладил из рук вон плохо. Он, вероятно, до конца не осознал, что дивизия идет навстречу прорывавшимся танкам, поэтому не только не предпринял меры для пополнения боеприпасов, но и проигнорировал распоряжение командарма о выдвижении сильного передового отряда в район юго-западнее Прохоровки. В результате, как мы увидим дальше, дивизия, встретив у станции на рассвете 11 июля боевые группы мд СС «Лейбштандарт», уже после первых четырех часов боя останется без гранат и бутылок с зажигательной смесью, а патроны бойцы будут вынуждены собирать на поле перед траншеями у погибших товарищей. Кстати, проблемы с боеприпасами, особенно для танковых пушек, в первый же день боя возникнут и у танкистов 5 гв. ТА. Несмотря на то что армия имела значительно больше транспортных средств плюс боекомплект в самих танках, тем не менее необходимого боезапаса ее бригады «поднять» не смогли.
В ходе марша дивизии 5 гв. А плановый темп движения не выдержали, поэтому ни одно ее соединение в указанное им время выйти к Прохоровке не смогло. Так, согласно отчету 97 гв. сд, ее полки оборону начали занимать только с 8.00, а завершили в 13.00 11 июля. Однако участок, который должна была принимать эта дивизия от 5 гв. Змк, как, впрочем, и другие соединения 32 гв. ск, находился во втором эшелоне, поэтому затяжка серьезного влияния на оперативную обстановку не оказала. А вот опоздание 33 гв. ск имело тяжелые последствия. Его войска должны были прикрыть станцию от удара сразу двух дивизий СС – «Мертвая голова» и «Лейбштандарт». Хотя основные силы 95 гв. сд и 9 гв. вдд, которым предстояло занять оборону в первом эшелоне, на свои рубежи вышли вовремя, но из-за того, что их артиллерия двигалась вместе со стрелковыми полками, своевременно организовать надежное ПТО и оборудовать ОП (окопать орудия, наладить связь внутри полков и с соседями) времени не хватило. Поэтому отражать удар мд СС «Лейбштандарт» придется практически с марша, это обстоятельство станет главной причиной прорыва эсэсовцев непосредственно к станции 11 июля и неоправданных потерь гвардейцев, но об этом рассказ впереди. 0 марше некоторых подразделений дивизии Сазонова к Прохоровке интересные воспоминания оставили его участники, вот два отрывка из найденных мною рукописей. «На Курской дуге я был красноармейцем, номером расчета (подносчиком мин) в 1-й минометной роте 1-го стрелкового батальона 26 гв. вдсп, – писал Л. П. Корешков. – …На вооружении роты были 82-мм минометы на колесном ходу… 9 июля 1943 г. на рассвете нас подняли по тревоге. Получили боеприпасы, сухой паек и пошли к фронту. Повозок в роте не было, минометы катили по два человека, мины несли в лотках на себе. Идти было тяжело. Каждый минометчик имел вооружение и имущество стрелка, да еще миномет и мины нужно было тащить.
По пути, в каком-то селе, женщины со слезами на глазах провожали нас. Кто-то из бойцов спросил:
– Почему вы плачете?
– Как же нам не плакать? Жаль вас. Уж какие у нас мужики были, и то их немец побил, а вы – дети. Как вы с ним справитесь?
Да, мы были молоды. В дивизии было много солдат 1924 и 1925 годов рождения. Но какая вера в Победу была у нас!
Рядом с нами по дорогам шли артиллерия и танки. В Прохоровку прибыли ночью с 10 на И июля 1943 г.»[32].
И. М. Фомичев вспоминал: «В 9 гв. вдд я прибыл 4 июля 1943 г. после окончания 2-го Куйбышевского пехотного училища в звании младший лейтенант. Из штаба дивизии, который располагался в с. Кутузова, недалеко от г. Старый Оскол, меня направили в 23 гв. вдсп. В полку меня назначили командиром 1-го взвода 1-й стрелковой роты 1 сб. По прибытии в роту комбат ст. лейтенант Фомиченко представил меня личному составу взвода. Принимая взвод, я очень волновался, так как мне было только 18 лет, а в строю стояли солдаты старше меня по возрасту и с боевыми наградами. После того как я рассказал о себе, мне задали вопрос: был ли я в боях. Я ответил, что не был. В строю кто-то сказал: «Ничего, научим». В последующем я почувствовал, как сержанты и солдаты деликатно помогали мне советом…Вечером того же дня в полку была объявлена боевая тревога. Мы вышли на заранее подготовленный рубеж и заняли его.
…Утром 9 июля получили приказ оставить занимаемые позиции и приготовиться к маршу на новый рубеж обороны. Где был этот рубеж, я не знал. Марш был очень напряженный, шли днем и ночью. В течение всего марша над нами постоянно патрулировали наши самолеты, поэтому не было ни одного случая налета вражеской авиации.
10 июля ночью пришли в Прохоровку. Люди сильно устали. Я шел в новых хромовых сапогах, которые выдали в училище, с хлопчатобумажными носками вместо портянок и сильно потер ноги. Ступни ног превратились в сплошной кровавый мозоль. Санинструктор роты забинтовал мне ноги и я обул сапоги уже без носков. Так с забинтованными ногами ходил до 19 июля 1943 г., когда роту вывели во второй эшелон, и я смог сделать перевязку.
Наш 23 гв. вдсп занял оборону во втором эшелоне дивизии на высотах севернее Прохоровки фронтом на запад. Наш батальон оказался на левом фланге полка, а мой взвод находился на левом фланге батальона, западнее Прохоровки, недалеко от железной дороги. Сразу же начали окапываться. Мне, как командиру флангового подразделения, было приказано установить связь с левым соседом. Им оказалось какое-то подразделение 26 гв. вдсп нашей дивизии. В разрывах между нами находилась огневая позиция зенитных пулеметных установок на автомашинах»[33].
Таким образом, к исходу 9 июля 1943 г. командование Воронежским фронтом, за счет резервов Ставки ВГК и переброски части стрелковых дивизий и артсредств из 38 и 40 А, на обоянском и прохоровском направлениях смогло заполнить третью (тыловую) полосу войсками. Причем под Прохоровкой оборона оказалась глубже. Если в полосе наступления 48 тк 4ТА командованию 1ТА и 6 гв. А удалось с большим трудом подготовить лишь один эшелон, да и то не сплошной (с разрывами), то к утру 10 июля, когда 2 тк СС перейдет в наступление на Прохоровку, перед ними будет выстроена полноценная двухэшелонированная полоса со стрелковыми и мотострелковыми соединениями в первой линии, усиленными танковыми бригадами. При этом в районе выжидательных позиций будет находиться полнокровный 29 тк, а на подходе – 5 гв. А в составе семи гвардейских стрелковых дивизий. Это были огромные силы. Общая численность двух гвардейских армий превышала 100 000 человек, из них более 50 000 – непосредственно боевой состав. В трех корпусах 5 гв. ТА числилось более 700 танков, в том числе 453 Т-34 [34]. Теперь перед Н. Ф. Ватутиным и А. М. Василевским стояла главная задача – рационально использовать эту мощь. К сожалению, как покажут дальнейшие трагические события, этому советских военачальников и полководцев никто не учил и за высокие потери, в общем-то, по-настоящему никогда не взыскивал. На первом месте был только результат, а к людям руководство страны тогда относилось подобно к щепкам на лесоповале. Это не могло не отразиться и на стиле руководства войсками действующей армии, ведь командующие всех уровней были лишь рычажками и винтиками огромной сталинской государственной машины. И даже если кто-то из них и пытался что-то менять, ему это редко удавалось.
Чтобы исключить всякого рода неожиданности, вместе с двумя гвардейскими армиями в это же время Ставка ВГК выдвигает на белгородско-курское направление еще две общевойсковые армии: 27 А – к Курску для занятия обороны в Курском укрепленном районе и 53 А – на первый фронтовой рубеж (по р. Сейм) с задачей: развернуть три дивизии на участке Бунине, Солнцево, Нечаево, чтобы создать прочный заслон на прохоровско-курском направлении. К утру 12 июля 1943 г. последняя выполнит этот приказ.
4
ЦАМО РФ. Ф. 203. Оп. 2777. Д. 75. Л. 364–368.
5
До 9.07.1943 г. Степной фронт именовался Степным военным округом.
6
Ротмистров П. А. Стальная гвардия. М.: Воениздат, 1984. С. 175, 176.
7
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 31. Л. 38.
8
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4978. Д. 1. Л. 6.
9
NARA USA. Т. 354. R. 605. F. 000610.
10
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 440. Л. 156.
11
Фонды «ГВИМЗ "Прохоровское поле"». Воспоминания ветеранов 5 гв. ТА. Воспоминания Н. И. Седыщева. С. 1.
12
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4978. Д. 1. Л. 6.
13
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 31. Л. 39.
14
Ротмистров П. А. Танковое сражение под Прохоровкой. М.: Воениздат, 1960. С. 22, 27.
15
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 440. Л. 156.
16
Ибрагимов Д. С. Противоборство. М., 1989. С. 390.
17
3амулин В. Н., Лопуховский Л. Н. Прохоровское сражение: Мифы и реальность. //Военно-исторический архив/ 2002. – № 9 (33). С. 86.
18
ЦАМО РФ. Ф. 3415. Оп. 1. Д. 27. Л. 89.
19
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 67. Л. 12.
20
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 440. Л. 155.
21
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 440. Л. 157.
22
ЦАМО РФ. Ф. 3415. Оп. 1. Д. 48. Л. 3.
23
ЦАМО РФ. Ф. 332. 0п. 4948. Д. 31. Л. 34.
24
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 31. Л. 31.
25
ЦАМО РФ. Ф. 332. 0п. 4948. Д. 31. Л. 32.
26
ЦАМО РФ. Ф. 332. Оп. 4948. Д. 75. Л. 100.
27
Жадов А. С. Четыре года войны. М.: Воениздат, 1978. С. 89.
28
Олейников Г. А. Прохоровское сражение (июль 1943). Санкт-Петербург, Нестор, 1998. С. 28, 29.
29
ЦАМО РФ. Ф. 328. Оп. 4852. Д. 33. Л. 1, 3.
30
ЦАМО РФ. Ф. 1141. Оп. 1. Д. 5. Л. 124.
31
1 ЦАМО РФ. Ф. 328. Оп. 4852. Д. 96. Л. 52.
32
Фонды ГВИМЗ «Прохоровское поле». Воспоминания ветеранов 9 гв. вдд. 1985 г. Воспоминания Л. П. Корешкова. С. 1.
33
Фонды ГВИМЗ «Прохоровское поле». Воспоминания ветеранов 9 гв. вдд. 1985 г. Воспоминания И. М. Фомичева. С. 2.
34
3амулин В. Прохоровское побоище: Правда о «величайшем танковом сражении». М.: Эксмо. Яуза, 2010. – С. 40.