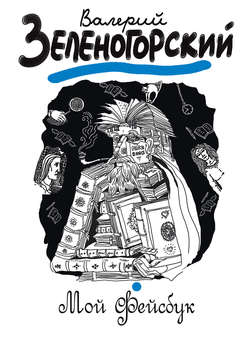Читать книгу Мой «Фейсбук» - Валерий Зеленогорский - Страница 11
До востребования
Одиннадцатое письмо Анне Чепмен
ОглавлениеНу вот, Аннушка, пришло время для исповеди. Я человек не воцерковленный, в безбожное время в патрулях с Либерманом ходили на церковные праздники, на Елоховской дежурили за отгул, не давали торговать опиумом для народа, а теперь другие времена: каждый норовит свою набожность напоказ выставить, все со свечками, под кадило сами лезут, и ручку попам целуют, и к иконам прикладываются, как когда-то Красное знамя целовали, у каждого второго духовник, а у каждого пятого домовая церковь, и все по монастырям шарятся, от святых мощей не оторвешь, чудны дела твои, ну и дальше по тексту.
Когда пришло время выезжать мне в Америку, капитан Сорокин меня огорошил: во-первых, он Розе ехать запретил, в заложниках оставили мою ласточку, чтобы я по-настоящему не сбежал. Я заартачился сначала, но Сорокин сказал, что в Центре так решили, пришлось мне это проглотить. Во-вторых я поступил тверже: они хотели мною выстрелить из торпедного аппарата атомной подлодки «Иван Калюченко», но я наотрез отказался, не уверенный, что они попадут в цель.
Не мне Вам рассказывать. Помните про «Булаву»? Три раза стреляли при главнокомандующем и не попали даже в Камчатку, а мной хотели во Флориду выстрелить.
Но я побоялся, что, попади они в Аляску, я там сдохну в шортах и сланцах; нет, твердо сказал я Центру, и они изменили концепцию, я полетел обычным рейсом.
В Шереметьеве Роза ревела белугой, мы с Либерманом пили шампанское из горла и прощались навеки, он плакал, искренне думая, что прощаемся навсегда, я тоже поплакал для приличия, когда он сунул мне литровую банку икры, самовар на жостовском подносе и двадцать долларов одной бумажкой на первое время.
Вот такой человек оказался Либерман, а я его свиньей считал; люди познаются в беде, а женщины – ну Вы эту рифму понимаете.
За эти двадцать долларов я купил себе литр виски, блок «мальборо» и сразу почувствовал себя белым человеком.
В самолете сел рядом с баскетбольной командой какого-то американского колледжа, которая летела из Японии транзитом. Такого количества негров в одном месте я никогда не видел, но вида не подал, только крикнул им над Варшавой, после стакана: «Свободу Анджеле Девис!» – они вздрогнули и убрали ноги с прохода.
После литра я уже не запомнил, как долетели, как я досмотр прошел. Очнулся только на Брайтон-Бич, на лавочке у магазина «Русская книга».
Человек меня разбудил интеллигентный, его собака у дверей книжного делала пи-пи, а он меня потрепал по опухшей морде и сказал: «Велкам».
Оказался он кандидатом наук из города Черновцы, УССР, а там, в Америке, он был дальнобойщиком, а жена его, декан педагогического факультета, держала салон, где делали старухам маникюр и педикюр за деньги одного благотворительного фонда, так я попал к Рае и Семе, моим первым сталкерам в зоне по имени Брайтон-Бич. Я жил у них в гардеробной, которая была больше моей двухкомнатной, среди вороха одежды и ботинок, рубашек и шуб, которые они накупили, когда чуть поднялись, но так и не сносили, а выбросить было жалко.
Я у них жил, а они мною торговали: водили меня по разным домам, где я рассказывал об ужасах советского режима; эмигранты плакали, я крепил их веру в то, что они сделали правильный выбор.
Русских тогда приезжало мало, и я был нарасхват; меня передавали, как эстафетную палочку, и везде кормили на убой, как жертву режима. Я разоделся, как франт, у меня была своя гардеробная, и так я прожил два месяца в пьяном угаре, объятый пламенем любви бывших соотечественников.
О Брайтон-Бич я Вам говорить не буду, все уже видели и знают про этот рай, который построили наши бывшие; типа, входишь в заведение «Капучино», а выходишь всегда из «Пельменной».
Языкового барьера у меня не было: там все говорят по-нашему и не парятся; они мне говорили так: «Мы здесь живем, мы в Америку не ходим, нам и тут хорошо».
Решили мои благодетели зубы мне сделать. Я считал, что мои железные вполне, но они сказали, что это ноу гуд и повели меня к одному дантисту, он в Москве левые зубы делал из золота, жил в шоколаде, но чуть не сел и уехал – и так скучал там, в Америке, хотя жил хорошо, но скучал так, что, можно сказать, даже ностальгировал, а Америку клял, как настоящий журналист-международник, так клеймил, что его можно было бы в ТАСС на ставку брать.
Лева его звали, доктора моего, он зубы мне два месяца делал – сделает один зуб, а потом обед у него дома, я ем, пью и рассказываю ему, как навигатор, трамвайные маршруты; особенно он любил маршрут пятидесятого трамвая «Шоссе Энтузиастов – Каланчевская».
Я рассказывал, а он плакать начинал уже от остановки «МЭИ» на Красноказарменной улице, сын у него там учился от первой жены.
Потом на улице Радио рыдал – он в кожно-венерическом диспансере там лечился, когда первый раз невинность потерял в Лефортовском парке; на Бауманской улице его уже трясло, не остановить – он жил там до отъезда; и тут уже о каждом доме меня спрашивал:
– А «Аптека» еще стоит там? А «Продукты» на углу еще работают?
Там у него мясник был, культурный человек, стихи писал под Игоря Северянина… Про Бауманский рынок я уже старался не рассказывать, там он вообще королем был, все покупал: и огурцы в декабре, и дыни, и виноград – уважаемый человек был.
Так мы с ним ехали по этому маршруту, на каждой остановке выпивая, и на Каланчевке уже оба падали на его газон в ярде; там до сих пор, на Каланчевке, не в ярде, бомжи спят – тогда спали и теперь спят, только теперь их кормят от церкви на Красносельской, а так все по-старому, Анечка.
Завтра продолжим, Анечка, устал я от воспоминаний, да и время уже идти за внуком в школу. Я сам ходил в его возрасте, а сейчас опасно – киднеппинг, мать его, да и педофилы расплодились, как кролики.