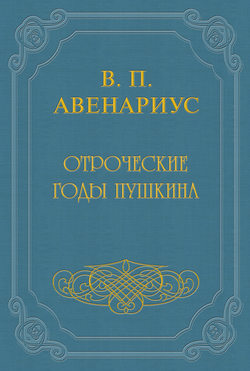Читать книгу Отроческие годы Пушкина - Василий Авенариус - Страница 6
Глава VI
Первый привет лицея
ОглавлениеПрощай, свободная стихия!
«К морю»
Мой первый друг, мой друг бесценный!
«И. И. Пущину»
Открытие лицея, предполагавшееся к началу учебных занятий в других учебных заведениях, то есть 1 сентября, отлагалось дважды: сперва – вследствие замедления во внутренней отделке лицейского здания, потом – вследствие несвоевременной доставки из Петербурга классной мебели. Наконец, все было готово, и воспитанникам было предложено съехаться в Царское Село за несколько дней до 19 октября, когда должно было последовать формальное открытие лицея.
За три дня до этого торжества Пушкины, дядя и племянник, выехали к месту в собственной бричке Василия Львовича, в которой прибыли еще из Москвы. Единственным путем сообщения между столицею и Царским Селом служило в то время шоссе; а так как им пользовался и весь высочайший двор, то оно содержалось в образцовом порядке, и трехчасовой переезд в Царское не столько утомил наших бывалых путешественников, сколько возбудил в них волчий аппетит. Директор лицея Василий Федорович Малиновский принял Пушкиных тем более радушно, что знал Василия Львовича еще по Москве, и тотчас распорядился закуской. В ожидании последней Василий Львович усадил хозяина рядом с собой на диван и, схватив его за пуговицу, с обычным своим увлечением стал осыпать его, как из рога изобилия, столичными новостями. Племянник между тем точно чем-то подавленный, пришибленный, отошел на противоположный конец комнаты к окошку, выходившему в сад.
До последних дней погода стояла чуть не летняя: ясная, теплая. Но в последнюю ночь ртуть в градуснике разом упала ниже нуля: с раннего утра стоял густой туман, а теперь, к полудню, разыгралась первая зимняя вьюга. С ноющей тоской следил Александр за безжалостной игрой бушевавшего ветра: как срывал он с деревьев последние листья, как смешивал их с хлопьями крутящегося снега и тут же засыпал безжизненной белой пеленой, – не так ли точно срывались теперь и последние листья с вольного, беззаботного детства его, Александра, и заметались не на один год, а на целые шесть лет мертвящим снегом школьной дрессировки?
И крылатая мечта перенесла его уже далеко-далеко – в Москву, а оттуда еще за 40 верст далее – в милое Захарьино, имение покойной бабушки его, Марьи Алексеевны. С ранней весны они всей семьей перебирались уже туда на дачу; и вот он вдвоем с сестрицей Олей, неразлучной подругой его детских игр, весело обегает сперва весь дом, а потом взламывает наглухо заколоченную с осени дверь балкона. О, как здесь чудно, свежо, как дышится вольно! Рука об руку с Олей он соскакивает в сад и, со смехом таща ее за собой, во весь дух несется вниз по кленовой аллее, покрытой первым зеленым пухом, к манящему вдали зеркальному пруду. Бегут они и на бегу кричат друг другу:
– Смотри-ка, смотри: вон тут, помнишь, мы играли сколько раз в горелки?
– А там, направо, видишь, старый дуб, где обедали всегда в жаркую погоду?
В это время откуда-то доносятся к ним звонкие девичьи голоса, так и заливающиеся знакомою песней.
– Ах, это, верно, опять хоровод в деревне!
Но вот сестрицу Олю увели переодеваться. Он, Александр, потихоньку уносит со стола забытую отцом книжку с зарывается в глубину парка, где его уже никто не разыщет. Растянувшись на мягкой душистой траве, он раскрывает книгу. Но лежать здесь так отрадно: солнечные лучи сквозь прозрачную еще зелень пригревают так ласково… И интересная книга валится у него из рук. Заложив вместо подушки за голову руки, он лежит на спине и, не отрывая глаз, глядит в это синеющее между зелеными верхушками небо, по которому тихо-тихо плывут молочно-белые облака. И грудь у него ширится, точно готова распахнуться, и сам он готов ринуться туда, в эту глубокую, бездонную синеву, и, падая, ухватиться за облачко, чтобы поплыть на нем, чем далее, тем лучше, хоть на самый край света…
– О чем замечтались, милый мой! – прозвучал над самым ухом Пушкина чей-то не то насмешливый, не то вкрадчивый голос, и чья-то рука фамильярно легла к нему на плечо.
Милые видения недавнего прошлого разлетелись, как дым. Снова перед глазами его замелькали, закрутились бесчисленные снежные хлопья, снова навис сверху непроглядный, свинцово-серый небесный свод, а сердце загрызла прежняя тоска. Резким движением плеча он отвел непрошеную руку и, нахмурясь, обернулся.
Перед ним стоял сухопарый господин в вицмундире, с тонкою усмешкой на тонких губах и с умильно-прищуренными, маслянистыми глазами; но глаза эти, вместе с тем, глядели так пристально, что, казалось, хотели проникнуть в самую душу.
– С кем имею честь?.. – холодно пробормотал Пушкин. Незнакомец беззвучно рассмеялся и ответил тем же ласковым тоном:
– Имеете честь говорить с одним из ваших будущих начальников, классным надзирателем Мартыном Степановичем Пилецким-Урбановичем. Но таковым я почитаюсь только по званию служебному, на деле же я буду вашим ближайшим другом, который вполне заменит вам и отца, и мать, и дядю.
– Никогда! – вырвалось у Пушкина.
– Та-та-та! Экой вы, милейший мой, недотрога и незамайка. Мне говорили уж, что вы до сей поры, как одичалый конь, не ведали узды и браздов. Наши бразды будут самые вольготные, можно сказать – бархатные, но все же научат вас идти туда, куда долг велит. Вы вступаете у нас, дорогой мой, в такую же родственную семью, как ваша, но, несомненно, в более благоустроенную, ибо, как я не без огорчения слышал…
Пушкин не дал ему договорить.
– Прошу вас, господин надзиратель, не трогать моей семьи! Я этого не могу позв… не могу слышать…
Пилецкий промолчал, только сжал свои тонкие губы, повернулся на каблуках и отошел к Василию Львовичу, который продолжал свою неумолкаемую беседу с Малиновским.
– Однако племянничек-то ваш, господин Пушкин, признаться сказать, еще строптивее, чем вы мне давеча говорили! – заметил Пилецкий.
– Не всякое лыко в строку, господин надзиратель, – благодушно вступился Василий Львович, – разлука, знаете, с родными, новая обстановка, то да се…
– Да и голод, конечно! – хватился Малиновский. – Что ж это не подадут горячего бульону?
И, позвонив слугу, он распорядился завтраком.
– Прошу вас, господа, закусить, чем Бог послал. Александр! Подите же сюда, покушайте с нами.
– Благодарю… право, не хочется… – отказался мальчик.
Зато Василия Львовича не нужно было еще раз просить; смачно закусывая, он обратился к надзирателю:
– Изволите видеть: даже аппетит у молодца отбило, хоть с утра во рту маковой росинки не было. Выражаясь фигурально, это – молодое деревцо, пересаженное на чужую почву: как его ни поливай – в первое время свежие дотоле листья поблекнут, свернутся. Все теперь в ваших руках, в руках его будущих садовников; вы можете акклиматизировать его, заставить приносить обильные и сочные плоды, как вот эта ветчинка. А славно запечена! Это у вас здешний колбасник мастер такой или из Питера вывезли? Отведай, Александр: во рту, я тебе скажу, тает.