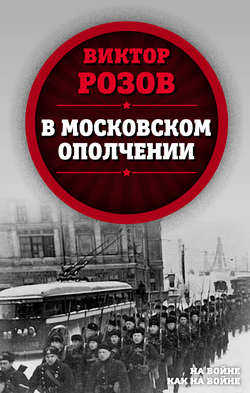Читать книгу В московском ополчении - Виктор Розов - Страница 3
Часть 1. Прикосновение к войне
Белоснежная фея
ОглавлениеДа, я, пожалуй, должен прерваться и сказать, сколько мне лет сейчас, когда я пишу эту книгу.
По паспорту мне восемьдесят шесть лет, но ведь это неправда. Впрочем, астрономически так и будет – восемьдесят шесть. Но разве можно жизнь человека измерять какими-то абстрактными отрезками времени, как мануфактуру в магазине деревянным зализанным метром? По-моему, нельзя. Одно дело – столетний кавказец, дитя гор, неба, пастбищ, долин. Что он за эти сто астрономических лет видел, что пережил? Картина перед ним расстилалась довольно ровная. Другое дело, допустим, солдат, прошедший за четыре года Великой Отечественной войны путь от Москвы до Берлина. Солдату-то, может, к концу войны не двадцать пять лет будет, а сто двадцать пять. А тот кавказец по сумме впечатлений и потрясений недалеко ушел от шестнадцатилетнего возраста.
Да, да, жизнь должна измеряться не календарными листочками, а суммой впечатлений, полученных человеком от соприкосновения с внешней средой. Эту теорему, на мой взгляд, нетрудно доказать следующим образом.
Ну, во-первых, все, кто пережил минувшую войну, согласятся со мной, что четыре ее года и сейчас нам кажутся целым громадным периодом в нашей жизни, минимум десятилетием, а то и больше. Недаром о ней до сих пор много и говорят и пишут. Возьмите любые четыре нормальных мирных года – разве они соизмеримы с теми четырьмя? Или: кто бывал хотя бы в двухнедельных заграничных поездках, чувствовал, как две недели тянутся долго-долго, куда более месяца или даже трех. Опять-таки − сумма впечатлений огромная. Организм живет по-иному. И глаза, и уши, и мозг – все работает с учетверенной нагрузкой.
Военным пребывание на фронте зачислялось в послужной список в двойном размере – два года за год. Но почему, друзья, только военным? А чем же хуже штатские? Разве они не перенесли на своих детских, отроческих или старческих плечах все тяготы военных лет? Перенесли. Дети особенно. И почему только военные годы? А другие из ряда вон выходящие события, когда весь организм работает сверх полной мощности, почему их – год за год? Каждый знает: есть такие мгновения – и всего-то минуты, секунды, а они старят человека. Волосы седеют, руки дрожать начинают, зрение гаснет.
Нет, ни метр, ни килограмм, ни кулон к измерению человеческой жизни не приложимы. Сколько же мне на самом деле лет? Сейчас прикину.
Родился я в 1913 году. А в 1914 году, как известно, началась Первая мировая война. Отца сразу же взяли на фронт, мама осталась с двумя малышами, пошла работать в шляпную мастерскую. Нужда, нужда… А ребенку нужны жиры, белки, витамины. Их не хватает, очень не хватает. Кладу два года за год: 1914-1918-й.
А с 1918 по 1922 год – Гражданская война с разрухой, холодом и голодом. Я уже писал, что кору ели. Колбаса-то не всегда. Правда, из какой-то фантастической муки пекли пирожки… с кишками. Да, да, мыли кишки, варили, рубили, делали начинку. Неплохо. А потом – знаменитый Ярославский мятеж. Видимо, потрясение от него вселило в меня детские страхи, фобии и сделало лунатиком. Об этом я при случае расскажу. Любопытно. Уже тогда я испытывал многое из того, о чем писал Кафка, а «Превращение» бывало и со мной, и именно в детстве, хорошо помню. За год – два года: справедливо.
1929–1935 годы – коллективизация. Даже хлеб не везде был. А я уже подросток и юноша. Мне много надо было хлеба, а где взять? Щи из воблы – не так уж калорийно. Чечевица без масла. А я в это время на фабрике в три смены, на текстильной, «Искра Октября». Мама выбивалась из сил: чем нас с Борькой накормить? А я уже видел страдания мамы, ее слезы, видел и переживал. Даже есть из-за этого хотелось меньше. Помню, мама вымаливала на базаре картошку, чтоб продали подешевле, жили-то бедно, а торговка издевалась, куражилась. Помню, как я закричал на маму, чтоб не унижалась, и два дня не ел вообще – в знак протеста. В такое время взрослеешь быстрее. Два года за год…
* * *
Потом Отечественная. И тут сверх нормы я сделаю себе персональную надбавку – тяжелое ранение и год госпиталя положу за четыре года. Стоит, товарищи, честное слово, стоит, не жадничайте, это справедливо.
Ну, представьте себе: меня, тяжело раненного, шесть суток везли с фронта до госпиталя во Владимире, а кровь все текла и текла, и шесть суток я не спал, даже не закрывал глаз. Боль, боль, боль!..
Госпиталь во Владимире помещался в старой церкви. Меня обмыли, положили на полу в подвале под сводами и накрыли простыней. Я, когда меня мыли, поразился, увидав себя без одежды. Самыми толстыми местами ног и рук были колени и локти, остальное – трубочки костей. Только разбитая нога вздувалась лилово-синей громадой от газовой гангрены, которая подползала уже к животу. Закрыли меня простыней с головой.
Помню, сестра с железным передним зубом осторожно приподняла с лица простыню, удивилась, что я жив, и как-то застыла с выражением страха, недоумения и сострадания на лице. Я шепнул: «Плохо мое дело, сестра?». Она жалко улыбнулась – тут-то я и увидел ее железный зуб – и от растерянности даже не солгала святой врачебной ложью, а кивнула головой и сказала: «Да».
На операционном столе я был в руках крепкой седеющей женщины с коротко стриженными волосами, в которые сзади был воткнут подковообразный простой гребень: тип женщины-партийки двадцатых годов. Она спросила моего согласия отсечь ногу выше колена. Я это согласие дал немедленно, не задумываясь. Никакого расчета у меня не было, никаких острых и сильных эмоций я не испытывал, – надо так надо, о чем и говорить! – как не почувствовал я боли во время ранения, а только удивился, что моя нога лежит как-то странно, отброшенная в сторону, голень – перпендикулярно к бедру, и пошевелить ею не в моей власти, сколько ни старайся.
Так и тут мне было не то что все равно, но был какой то ровный покой: ни страха смерти, ни мысли о том, как же я буду без ноги, ни расчета – ничего. Покой. После моего согласия на ампутацию я услышал резкое: «Маску!» – и мне на лицо сестра положила маску с эфиром и хлороформом.
«Считайте!» Я сделал усилие, прижал маску к лицу руками и быстро засчитал: «Раз, два, три…». На счете «шесть» все поплыло. Последнее, что я услышал, – тот же властный женский голос: «Скальпёль!» – с ударением на звуке «ё». А затем наступило сладкое блаженство. Больше всего на свете мне хотелось спать, и я наконец-то уснул.
Проснулся я в палате коек на четырнадцать, покрытых новыми зелеными плюшевыми одеялами. Была глубокая ночь. Большинство раненых спали. Несколько человек покуривали самокрутки. А в углу на столике стоял патефон, и худенький паренек, попыхивая цигаркой, проигрывал пластинку. По палате тихо-тихо плыла мелодия на тему «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко».
Я успел все это разглядеть, прежде чем бросил любопытствующий взгляд на свои ноги. Может быть, потому, что боялся сразу бросить этот взгляд. Посмотрел и очень удивился. Под одеялом явственно проступали обе ноги – одна нормальная, а другая громадная. Это, как я понял позднее, от гипса, в который я был упакован до середины живота. Около меня сидела хорошенькая блондинка с милым, добрым лицом. Она, поймав мой взгляд на гипсовую ногу, пояснила:
– Решили подождать ампутировать, может быть, удастся спасти.
– Как вас зовут? – спросил я.
– Мария Ивановна.
– А фамилия?
– Козлова.
Какое дивное совпадение! Мария Ивановна – моя учительница в театральном училище, знаменитая блистательная актриса Мария Ивановна Бабанова, в которую я был влюблен и платонически, и эстетически, и еще черт знает как, впрочем, как все мальчишки нашего курса. А Козлова – ведь это фамилия Надюши, моей любимой девушки, моей безумно любимой, до сумасшествия. Да, да, Бабанова Бабановой, а Наденька – совсем другое, хотя и в одно и то же время.
Вот так, друзья, устроен человек. А я, ей-богу, по натуре совсем не донжуан, спросите кого угодно из моих знакомых, подтвердят.
– Что вы хотите? – спросила доктор с дважды родственным для меня именем, отчеством и фамилией.
– Пить.
Белоснежная фея обрадовалась, быстро налила мне из графина, который стоял у постели на тумбочке, воды, подала и сказала:
– Хороший признак. А есть хотите?
– Хочу.
Мария Ивановна чуть не засмеялась. Глаза ее зажглись, как будто там, внутри нее, кто-то чиркнул спичкой.
– Что бы вы хотели съесть?
Что может хотеть полумертвый солдат, давно вообще ничего не евший? Я полусерьезно сказал:
– Хочу пирожков с мясом… и компота.
Тогда это звучало примерно так, как если бы я вот сегодня, когда пишу эти строчки здесь, в Москве, а за окном двадцать шесть градусов мороза, попросил дать мне тарелку свежей лесной земляники.
Марию Ивановну порадовал мой пробудившийся аппетит, она его также назвала прекрасным признаком. Мы перекинулись с ней еще двумя-тремя короткими фразами, потом она молча посидела у моей койки и, видимо успокоенная, ушла. Я погрузился в долгий, глубокий сон.
Проснулся я, наверно, часов через четырнадцать в светлой, солнечной палате. У койки в белоснежном халате стояла та же Мария Ивановна, но сейчас у нее в руках была литровая банка с домашним компотом и тарелка с румяными продолговатыми пирожками… А?! Это она успела за пробежавшие ночь и утро сварить компот, и испечь пирожки. «Что он Гекубе, что она ему?» Что я – один из миллионов солдат – для измученного ночными дежурствами, потоком раненых, операциями палатного врача? Именно этот ее поступок, это ее необъяснимое внимание ко мне поразили меня чрезвычайно. Не пойму никогда, если буду искать логики.
* * *
А теперь маленькое лирико-мистическое отступление, относящееся к этому эпизоду.
В 1946 году, когда я жил в келье бывшего Зачатьевского монастыря (Москва, 2-й Зачатьевский переулок, дом 2, корпус 7, квартира 13, комната 4), и война осталась уже позади, хотя было еще холодно и голодно, я сидел в своей десятиметровой келье вечером и при свете коптилки что-то кропал. Вошел почтальон и вручил мне письмо. Я распечатал его. В письме был другой конверт, адресованный моему отцу, который умер за два года до этого. Я вскрыл и стал читать.
Письмо оказалось от доктора Марии Ивановны Козловой. Она спрашивала отца обо мне, жив ли я, если жив, то здоров ли, что делаю. Оказывается, папа вел переписку с Марией Ивановной, когда я лежал в госпитале во Владимире, тайно узнавал все подробности моего лечения, и Мария Ивановна ему отвечала. И почему она вспомнила обо мне теперь и написала отцу, так и осталось для меня неизвестным. Я читал письмо и узнавал то, что было скрыто от меня ранее.
И вот здесь началась мистика. Когда я прочел письмо и задумался обо всем минувшем, за стеной в соседней комнате заиграл патефончик, и полилась мелодия «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Что это? Я вскочил, смешался. Сделалось не по себе. С какой то потрясающей ясностью всплыли зеленые плюшевые одеяла, глубокая ночь, покуривающий самокрутку раненый, милое лицо незнакомой женщины у койки…
Я быстро вышел в коридор, чтобы рассеять странное чувство. Я шагал по нашему длинному монастырскому коридору, куда выходили двенадцать дверей из комнат-келий, дымил «Беломором» и старался успокоить свое волнение. А патефон за стеной продолжал петь: «Разлилась река широко, милый мой теперь далеко». Напиши я подобным образом в пьесе, сказали бы: дешевый прием. А когда это написала сама жизнь – незабываемо! И придает смысл жизни…