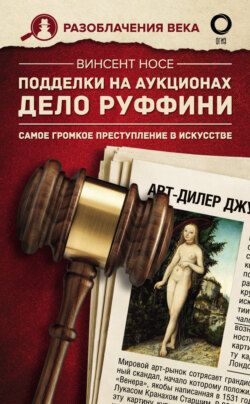Читать книгу Подделки на аукционах. Дело Руффини. Самое громкое преступление в искусстве - Винсент Носе - Страница 7
Часть I
«Венера с вуалью»
Глава 4
Обследование «Венеры»
ОглавлениеПосле изъятия французскими властями картину подвергают новой, продолжительной экспертной проверке в Исследовательской лаборатории музеев Франции. Расположенная в бункере под двором Лувра, эта лаборатория была основана в 1920-х двумя аргентинскими медиками, Фернандо Пересом и Карло Майнини, стремившимся убедить хранителей музея доверить им экспертизу драгоценных экспонатов. Они собирались проводить исследования с помощью новейшего оборудования, в частности рентгеновского аппарата. По сей день инструменты анализа произведений искусства, в частности сканеры, заимствуются в основном из медицины. Среди последних можно упомянуть ОКТ, оптическую когерентную томографию, предназначенную для исследования оболочек глаза, с помощью которой можно измерить толщину слоя лака на картине, составляющую доли миллиметра.
Первая лаборатория, официально открытая в Лувре в 1931 году, получила название Институт Менини. Под давлением двух ученых, горящих жаждой деятельности, хранители музея, в конце концов, выделили им подвал в павильоне Флоры, но обязали взять на себя все расходы за их очаровательное «хобби». Далее она перешла во владение Лувра, а в 1968 году была переименована в Лабораторию ансамбля музеев Франции. Тридцать лет ей руководила Магдален Урс, превратившая исследование произведений искусства в настоящую научную дисциплину. Ныне лаборатория располагает самым современным оборудованием, в частности, единственным в мире ускорителем частиц, использующимся исключительно для изучения произведений искусства, который был дополнительно усовершенствован в 2017 году. Однако ее настоящим сокровищем, по моему мнению, является команда ученых, авторитет которых признан во всем мире. Как и в медицине, снимки приносят пользу, только если их правильно интерпретировать, а также использовать для их получения наиболее совершенное компьютерное оборудование.
Озабоченность британских экспертов подтвердили и ученые лаборатории, посвятившие несколько месяцев тому, чтобы снять-таки с Венеры ее вуаль. Исследование, которое они провели, было поистине беспрецедентным. Лаборатории потребовалось около двухсот часов работы, чтобы 13 июля 2016 года вынести, наконец, свой вердикт. По причине подъема воды в Сене все оборудование пришлось вывозить, поскольку оно находилось под землей, а затем, когда опасность миновала, устанавливать заново. Эксперты, трудившиеся под залами Лувра, находились в непростом положении: несколько лет тому назад лаборатория дала добро другой картине, поступившей из того же источника, портрету, приписываемому кисти голландца Франса Хальса, о котором мы еще поговорим.
Мало того, примерно в то же время разразился скандал с поддельными предметами мебели, каждый из которых вызвал свою долю споров и злонамеренных слухов. Многие сотрудники лаборатории чувствовали себя оскорбленными лично, хотя поставить им в упрек ничего было нельзя. Однако беспокойство усиливалось недоверчивым отношением прессы, всегда охотнее предпочитающей скандалы фактам.
Естественно, подобная атмосфера не способствовала спокойной сосредоточенности, которую так ценят люди науки. Возможно, она сказалась и на тоне доклада, переданного судье. Высказываясь в осторожных – с учетом обстоятельств – выражениях, авторы предварительного отчета на шестидесяти семи страницах, Элизабет Раво и ее ассистент Жиль Бастьен, воздержались от окончательных выводов и ограничились перечислением «спорных моментов», каковые выглядели весьма неутешительно.
Прежде всего, они отмечают, что Кранах обычно не использовал дуб для своих работ, предпочитая липу или бук. По данным доклада, основанным на недавних исследованиях, из 217 проанализированных картин этого художника лишь три написаны на дубе. Эту цифру оспаривает хранитель коллекции князей Лихтенштейна Иоганн Крафтнер, утверждающий, что их, по меньшей мере, двадцать. Но фактически, на момент экспертизы, из 1359 картин, зарегистрированных в цифровом архиве Кранаха, профессором Питером Клейном из Габсбурга было изучено дерево под 248 произведениями с его признанным авторством. Одно известно наверняка: дуб художник использовал лишь в нескольких случаях, прежде всего, на пяти двойных панно, написанных во время пребывания в Голландии в 1508 году, и для небольшой группы работ, созданных между 1527 и 1530 годами. Пятьдесят лет назад считалось, что их было больше, но после совершенствования методов исследования эти цифры были пересмотрены в сторону уменьшения. «Общее соотношение остается неизменным, – сообщил мне Гуннар Гейденрейх, занимавшийся составлением упомянутой базы данных, – и использование дуба для Кранаха событие чрезвычайное».
После этих незначительных ремарок относительно материала доски, представители лаборатории переходят к красителям, признавая, что они «совпадают с предположительной датировкой произведения». Однако у них вызывают сомнения присутствие азурита и отсутствие знаменитого свинцово-оловянного желтого, которым объясняется «отсутствие точности, тонкости и выпуклости» у жемчужин, написанных плохой смесью свинцовых белил с охрой – что невероятно для такого мастера техники, как Кранах, который к тому же вел собственную торговлю пигментами.
Стратиграфическое исследование двух микропроб выявило наличие аппрета на базе мела, содержащего фрагменты окаменелостей, использование которого весьма нехарактерно для мастерской Кранаха. Либби Шелдон из Лондона отмечает, что доклад уделяет мало внимания обилию хлорида свинца, который, на ее взгляд, «нетипичен и, на данный момент, никак не объяснен». Однако авторы доклада указывают, что обилие металлических частиц отмечено и на другой картине, поступившей от Джулиано Руффини, и также изъятой следователями ОСВС, «Битва поста и масленицы», позднее идентифицированной как поддельный Брейгель – об этом речь пойдет в главе 8.
Недоверие у ученых вызывает и сеть кракелюр «с необычным рисунком», который «не следует деформациям древесины» и более заметен на светлых участках, но «практически не затрагивает черные». Автор доклада делает вывод, что речь идет «де-факто, не о естественных кракелюрах», а о следах «искусственного состаривания».
Это мнение, однако, будет в дальнейшем оспорено; основываясь на фотографиях деталей картины, Джулиано Руффини ответил мне, что такие же кракелюры присутствуют на других работах Кранаха, авторство которых установлено, и отметил, что, с течением времени, темные участки стареют не так, как светлые. Что касается князя Лихтенштейна, он сослался на заключение английской специалистки, подтвердившей, что «кракелюры вполне могут соответствовать датировке XVI века».
Однако экспертиза ученых Лувра этим не ограничивается. Упоминая о складках на поверхности красочного слоя, входящих в «противоречие с деформациями доски», они делают вывод о «пребывании картины в среде, где температура достигала чрезмерных значений», что подтверждается «отложениями черного цвета» на оборотной стороне.
Ученые не смогли сравнить картину с «Тремя грациями» Кранаха, которых Лувр купил в 2010 году за четыре миллиона евро у Франсуаз Селингманн, наследницы знаменитого рода арт-дилеров. Последние также датируются 1531 годом и демонстрируют сходство с нашим спорным произведением. Лаборатория, судя по всему, столкнулась с проявлением несговорчивого нрава хранительницы коллекции Лувра (да, мир этого музея весьма и весьма странный…). Тем не менее они сравнили Венеру с двумя другими работами Кранаха из Лувра: «Портретом Иоганна Фридриха Саксонского», также 1531 года, где сосредоточились на сравнении подписей и дат, и «Венерой на фоне пейзажа», 1529. Для этого 5 июля 2016 года, после закрытия музея, оба произведения были доставлены в подземные помещения лаборатории.
Серия макроснимков трех картин показалась весьма красноречивой всем, кто имел к ней доступ. Сравнение было не в пользу «Венеры с вуалью», у которой волосы, глаза, ресницы и брови, и даже лобковые волосы, выглядели плоскими, грубыми и нечеткими. Эксперты отметили не только это. «Взгляд кажется потухшим, а мазки» вокруг глаз «очерчены плохо»; нос, рот, пупок и груди, равно как камни и жемчуг в ожерелье, «написаны очень обще» и им не хватает «точности и контраста», «цвет кожи слишком однородный», без мазков почти чисто белой краски на наиболее светлых участках; «контуры подчеркнуты слабо»; волосы на голове написаны «одной массой»; не хватает легких прикосновений кисти, которыми художник выписывает кудри, ресницы и брови, а также прорисовывает сосуды. Услышав об этом, даже с учетом того факта, что картина могла быть написана кем-то из мастерской художника, а не им самим, князь Лихтенштейна наверняка должен был признать, что заплатил за нее слишком дорого – почти вдвое больше, чем Лувр за «Граций», приобретенных у Селингманн, притом что их качество бесконечно выше, а авторство подтверждено Гуннаром Гейнденрейхом.
Од Бюрези не удовольствовалась этим докладом, уже довольно объемистым. Она поручила Виолен де Вьеймерей проведение полной экспертизы, с включением данных, полученных в Лаборатории музеев Франции. Химик по образованию, неоднократно сотрудничавшая с полицией в научных исследованиях, эта молодая женщина основала в 2016 году «Ose Services», компанию по анализу материалов. Она собрала консилиум специалистов (историка искусства, эксперта по дереву и графолога), чтобы дополнить данные лаборатории, и прибегла к так называемому холистическому подходу, а результаты изложила в предварительном отчете на семидесяти шести страницах, плюс тридцать семь страниц приложения. В нем она высказалась гораздо более прямо, чем ученые лаборатории. И говорила уже не о «спорных моментах», а об «аномалиях».
Итак, она отметила «слишком слабые, почти неразличимые, контрасты», «тени, гораздо менее выраженные», чем на картинах Кранаха, «чрезмерно однородный» цвет кожи, лишенный светлых мазков, отражающих свет, «плохо очерченные контуры», украшения «с упрощенными мотивами, лишенными контрастности», камни в которых «не сверкают» и т. д. и т. п. И без колебаний заключила: «Исполнение и качество произведения не выдерживают сравнения» с другими работами немецкого мастера.
Виолен де Вьеймерей обратилась к историку искусства, который подтвердил ее заключение. Гвидо Месслинг руководил выставкой Кранаха в Брюсселе в 2010 году; но, главное, он являлся хранителем коллекции немецкой живописи в Венском музее. Свое заключение он подписал совместно с научной советницей музея, Моникой Штрольц, реставратором с тридцатилетним опытом. Они описали волосы «Венеры» как «соломенные», что в их глазах – настоящий провал. По их мнению, так мог их изобразить копиист – мелкими прядями, пытаясь воспроизвести шевелюру на картине с Лукрецией из Мюнхенской Пинакотеки, настоящем шедевре. Проблема, указывают они, заключается в том, что на работах небольшого формата Кранах применял другую технику, выписывая кудри точно и легко. Ресницы показались им «исполненными неумело». По их мнению «отсутствие плавности» мазка отражает «недостаточную уверенность и экономию средств» автора. Такое сочетание «неуверенности мазка» с «дотошностью» свидетельствует, в их глазах, о «тревожности» копииста. Гвидо Месслинг выражает сомнение даже в том, что картина могла принадлежать мастерской художника (отвечая тем самым на один из вопросов, поднятых защитой): «Эта работа не производит впечатления произведения из мастерской Кранаха или хотя бы кого-то из художников, обученных им». Вердикт неумолим: «Передача деталей, в частности волос, и подпись, свидетельствуют о том, что копиист намеренно пытался имитировать оригинал Кранаха, основываясь на нескольких источниках». Копиист. Или фальсификатор. Венский адвокат князя Лихтенштейна, Питер Полак, не преминул отметить, что «в том-то и вся разница, потому что в первом случае судебное преследование неправомерно».
Авторитетный графолог Кристина Жуишом в свою очередь изучила монограмму и пришла к выводу, что она «не выдерживает сравнения» с монограммой художника. Она обратила внимание на «неуверенность» в изображении крылатого дракона, образующего подпись, в то время как у Кранаха имелась привычка изображать его «движением мягким, плавным и стремительным». На его короне пять лучей, в то время как обычно их всего три. Вывод: «Подпись, равно как дата, сильно отличаются» от подписи и даты, которые ставил художник.
Кроме того, Виолен де Вьеймерей подчеркивает тот факт, что провенанс картины до сих пор неясен. Что касается ее появления в ноябре 2012 года, она напоминает об отсутствии «подтвержденного источника», не считая серьезной информацию, предоставленную ее изначальным владельцем, Джулиано Руффини.
Последний специалист, приглашенный высказать свое мнение – Катрин Лавье, на тот момент исследователь Лаборатории молекулярной и структурной археологии в Париже. Термину «дендрохронология», то есть датировка древесины, она предпочитает более общий, «дендрометрия», то есть изучение различных физических характеристик материала. Она сочла весьма «любопытной» эту доску, демонстрирующую «заметную изогнутость». Ее «форма черепицы не соответствует натуральной сушке», утверждает она, считая, что дерево также подвергалось нагреванию.
По мнению Лавье, «бургундское происхождение» дуба, из которого была выпилена доска, выдает тот факт, что древесина получена «с востока Франции», и вероятность ее доставки в сердце Саксонии крайне мала. Что еще более важно, датировку среза эта специалистка относит к периоду «между 1772 и 1825 гг.».
Результат стал для следствия принципиальной уликой, поскольку, на фоне «накопления несоответствий», которые вызывали разве что дискуссии среди специалистов, это заключение явилось «основополагающим», выражаясь в терминах судопроизводства. Он также повлиял на дальнейший ход процесса, потому что, по стечению обстоятельств, доклад был опубликован в журнале Canard enchaîné еще до того, как попал в руки защиты, за чем последовала жалоба на нарушение тайны следствия со стороны Филиппа Скарцеллы, адвоката Джулиано Руффини. Естественно, ее не удовлетворили.