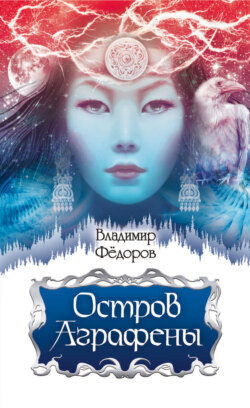Читать книгу Остров Аграфены - Владимир Федоров - Страница 2
Новогодний вальс
ОглавлениеДругу Виталию Андросову
Виталий мчался домой по улочке села, и мир вокруг сиял танцующей радугой, пел во всё горло и радостно кружился.
– Приняли, приняли! Вольнослушателем приняли! – закричал он с самого порога, громко хлопнув дверью.
Лица матери и сестры расцвели улыбками, а Виталий ещё долго не мог успокоиться. Да и как было не задыхаться от счастья, если он, наконец-то, с третьей попытки поступил в музыкальную школу! Пусть даже и вольнослушателем, но поступил. А до этого, две осени подряд, его выставляли за дверь класса с приговором, после которого на глаза невольно накатывались слёзы: «У тебя, мальчик, нет слуха…» Как же нет, если внутри него всегда звучала музыка – с самого рождения, с той поры, как он себя помнил?! Разве можно, родившись на берегу самого красивого в мире, столько раз воспетого поэтами аласа Мюрю, быть глухим к чарующим голосам таинственной тайги и старинного озера, поющих на лугу алых лилий-сардан и танцующих по весне белоснежных стерхов?! А как сжимается и светлеет его чуткая мальчишечья душа от песен, что поют по вечерам приехавшие из далёких сёл родственники и знакомые. Нет, у него есть этот самый слух, и он ещё докажет, докажет им всем. Главное бы теперь, баян мама купила…
Такое в жизни случается нередко: именитые тренеры наотрез отказываются брать в секции будущих олимпийских чемпионов, опытные педагоги ставят двойки и предрекают бесславие ученикам, которые потом становятся великими писателями, артистами и учёными. Пути человеческие неисповедимы и непредсказуемы. Вот и песни этого сельского мальчугана с аласа Мюрю с годами запоёт вся Якутия, да и Россия подпевать ей будет…
Вспомнив себя тем восьмилетним «вольнослушателем», Виталий невольно улыбнулся. На душе немного посветлело, но грусть, конечно же, осталась. И это было понятно: на отрывном календаре, висящем над потёртым гостиничным столом, болтался последний листок декабря, как последняя и несбывшаяся надежда.
Виталий подошёл к окну и сквозь небольшое пятнышко в стекле, не затянутое льдом, попытался разглядеть, что творится на улице. Взгляд упёрся в сплошную стену белого тумана, который и не собирался редеть. Да, самолёт сегодня в Терют не прилетел. Судя по всему, его не будет и завтра, и… А значит, придётся не только встретить Новый год, но, вполне возможно, провести все каникулы в этой замороженной дали, у самого полюса холода. За многие сотни километров от семьи, родных и друзей, в крошечном селе, где после вчерашнего концерта его знают все, а он – почти никого. Конечно, многие бы, наверное, были счастливы видеть за своим новогодним столом заезжую звезду из Якутска, но ему не хотелось быть гостем на чужом празднике. Вздохнув, он присел на гостиничную кровать и невольно потянулся к стоявшему рядом баяну – своему бывалому попутчику и верному другу. Вспомнились слова известного музыканта: можно пережить всё, если подобрать нужную песню… Да, наверное, можно…
Деньги на первый баян Виталию собирали и дальние, и ближние родственники – одной матери, рано потерявшей мужа, купить такую дорогую вещь было не по силам. Сам маленький музыкант просто не смог донести инструмент от магазина до дома – помогли взрослые, но зато уж потом Виталий не выпускал баян из рук. Играть он научился на удивление быстро, но в те годы баян был так популярен в якутской глубинке и взрастил столько местных виртуозов, что Виталий никак не мог пробиться в заветную пятёрку лучших музыкантов села. Завидуя счастливчикам, игравшим на всех концертах и праздниках, он поначалу посчитал это несправедливостью судьбы, с которой ничего не поделать, но потом решил дать бой соперникам на другом поле – начал сочинять свои мелодии, непохожие на известные песни.
Дела пошли на лад, его стали приглашать на выступления в Дом культуры, и однажды Виталий даже заслужил похвалу кумира всех якутских мальчишек, самого известного в те годы певца и автора любимых песен, но… Но, видно, дали знать о себе гены отца, за спиной которого стояла несколько поколений медиков. Да и сам отец вернулся с войны майором медицинской службы. Наверное, стал бы очень большим доктором, если бы не тяжёлые раны… После отца в доме остался целый шкаф медицинских пособий и атласов. Поначалу Виталий вместе с младшей сестрёнкой рассматривал эти таинственные книжки просто из любопытства, а потом они зацепили его по-настоящему. И когда семья переехала в Якутск, он понёс свои документы в приёмную комиссию не музыкального училища, а медицинского факультета. Так река его жизни разделилась на два русла, которые то расходились, то струились рядом, то пересекались самым неожиданным образом.
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся», – когда-то сказал поэт. И как песня отзовётся – тоже предугадать сложно. Но точно одно: для каждой настоящей песни рано ли поздно наступает звёздный час, момент истины, когда она вдруг ложится на душу людям, становится для них другом и спутником, а иногда даже спасителем, отводя напасти и избавляя от бед. Бывает, что такой день приходит через много лет после рождения слов и мелодии, но песни умеют ждать…
Непраздничная грусть села Терют, без следа затерянного в этот день в горах и туманах Оймяконья, невольно заставила Виталия вспомнить одну из его первых песен, которую он сочинил ещё школьником:
Когда с обидой и печалью
Я жил на горестной земле,
Мне снился ты за дальней далью,
Цветок на каменной скале.
Чтоб перед пламенем согреться,
Вздувал я искорку в золе…
Эта песня всегда стояла наособицу среди сотни с лишним других, им написанных, потому что текст её был не на родном якутском, а на русском языке. И к тому же, балкарского поэта. Книжка Кайсына Кулиева в руки якутского мальчишки попала случайно, но очень зацепила одним жгучим стихотворением без названия. Виталий тогда ещё много чего не знал, и, глядя на фотографию поэта на обложке, никак не мог понять, почему народный депутат СССР, увешанный самыми высокими наградами, с болью пишет о какой-то обиде и печали? Какая обида и на кого может быть у столь процветающего человека?!. Но искренность поэтических строк Кулиева не вызвала сомнения у парнишки с чуткой душой, и песня «Цветок на каменной скале» родилась. Нельзя сказать, что она сразу же или с годами стала любимой у его друзей или слушателей, пожалуй, нет, но в душе Виталия жила неизбывно. Особенно после того, как он узнал, что все свои регалии Кайсын Кулиев получил только в последние годы жизни, после реабилитации – государство пыталось загладить вину перед бывшим военкором и десантником, представленным к званию Героя Советского Союза, но вместо этого лишённым всех боевых наград и надолго запрещённым в печати. А случилось всё потому, что герой войны, уже признанный поэт, выписавшись в 1944 году из московского госпиталя после тяжёлого ранения, хоть и был встречен с цветами писательской элитой, не пожелал с этой элитой остаться. Он отказался от столичной славы и заманчивых предложений властей, самовольно уехав в далёкую глухую Киргизию, куда был безвинно выслан с Кавказа его родной балкарский народ. И жил там до тех пор, пока балкарцев не возвратили на родину…
Туман за окном к вечеру начал редеть, но на смену ему исподволь подкрадывалась белой лисицей таившаяся где-то в межгорьях пурга. В её негромком запеве начали таять последние шансы на скорое возвращение домой. И вот уже, подхватывая и закручивая целые снежные облака, всесильная властительница гор и тундры завела свой неумолимый танец вокруг маленькой сельской гостиницы, погружая её в белую мглу…
Но можно пережить всё, если подобрать нужную песню… Виталий взял баян и пальцы сами побежали по клавишам, переводя невесёлое настроение в музыку и вместе с ней борясь с грустью. Следом за первыми тактами стали собираться в строчки слова. Круговорот метели рождал, конечно же, вальс. Вальс-послание любимым и родным, ждавшим его в далёком городе…
Не суди строго ты,
Что дарю не цветы,
Их нигде в эту ночь не найдя,
Ты прости мой порыв,
И прими мой мотив,
Что в Терюте рождён,
Нас сведя…
Это был единственный подарок, который мог он сделать им сейчас и который мысленно отправлял через бескрайнюю белую тайгу, через спящие под снегами аласы-луга и скованные льдами реки огромной Якутии. Виталий, конечно же, ещё не мог знать, что «Терютский вальс» станет одной из любимых песен его слушателей, но он уже чувствовал, понимал, что этот неожиданный вальс станет по-особому близок ему самому и всегда будет возвращать в одинокий новогодний приют, затерянный в пурге…
Грусть перешла в мелодию и уплыла с ней, плавно кружась в снежных воронках вьюги и как будто успокаивая их. На душе посветлело. Виталий достал бутылку шампанского, которую хотел привезти домой, начал открывать, но передумал: кто же пьёт шампанское в одиночку?!. Налил из графина воды в гостиничный гранёный стакан, вставил в него маленький походный кипятильник, вскипятил и заварил чай, добавив в него пару ложек голубичного варенья, которое подарили ему после концерта. Подошёл к окну, чокнулся стаканом с проталинкой на стекле и долго смотрел в белую круговерть, отхлёбывая чай маленькими глотками и вспоминая новогодние праздники прошлых лет.
А когда наступила полночь, метель за окном вдруг внезапно затихла, словно тоже решила отметить Новый год. Виталий с неверием сначала приоткрыл дверь, а потом вышел на крыльцо: не показалось ли? Оказалось, нет, не показалось. Белая пелена и впрямь растворялась на глазах, а над горами начали одна за другой высвечиваться звёзды – пока только самые большие и яркие. А потом небо вдруг полыхнуло зелёным пламенем сияния и покатило его переливы над дальними и ближними вершинами, вызывая невольный восторг.
– Ничего себе! Откуда тут такое?! Прямо как в тундре! – вслух восхитился Виталий. – Неужто она решила новогодний привет своему певцу отправить?!.. – Он улыбался, провожая глазами небесные волны и уплывая вместе с ними в воспоминания.
Да, с тундрой у Виталия получилось забавно – он написал о ней раньше, чем увидел. Ещё в стройотряде, когда учился на медфаке. Друзья-студенты готовили концерт и попросили поискать или сочинить какую-нибудь неизбитую мелодию для северного танца. А он, на удивление, вдруг поймал с небес такую волну вдохновения, и так здорово перевёл её в ноты, что даже постеснялся сразу сказать друзьям, что «Тундра» – его собственное творение. «В здешней библиотеке чей-то сборник с нотами под руку попался», – придумал Виталий.
Студентам и зрителям песня понравилась даже больше танца, который под неё станцевали. Как оказалось, не им одним. Автору пришлось сознаться. Правда, собственный текст он потом заменил на стихи известного якутского поэта, которые прекрасно легли на музыку. Это был тот случай, про который говорят: наутро он проснулся знаменитым. Но знаменитым проснулся не Виталий, а песня – она стремительно взлетела над Якутией, а потом и над Россией, далеко обогнав по славе своего сочинителя.
И впрямь, не надо было знать якутский язык, чтобы при первых же тактах музыки почувствовать и увидеть бескрайние белые просторы тундры, полыхающее над ней полярное сияние и летящую под ним оленью упряжку, подгоняемую голосистым каюром:
Бардар бар, бардар бар,
Бараммат хаар да хаар.
Тамайар, тамайар
Табакам, айаннаа!
Эгэ-э-й, э-г-э-эй!
Ого-о, о-го-о-о!
Конечно, такая песня не могла не понравиться самим жителям тундры, и они не только буквально влюбились в «Тундру», но и сложили собственную легенду её рождения. Кто мог сочинить такую прекрасную песню о их родной земле и о них самих? Ну, конечно же, не какой-нибудь горожанин, а только настоящий коренной тундровик! Говорят, заехал однажды незнакомый молодец-оленевод в дальнее селение, спел свою новую песню, всколыхнул всем души, разбил девушкам сердца – и умчался без следа на легконогой упряжке. А песня была так хороша, что люди её сразу же и навсегда запомнили…
Естественно, когда Виталий со своим баяном впервые в жизни появился в настоящей тундре и спел о ней, сидящие в крошечном клубе оленеводы, конечно же, не поверили заезжему интеллигенту-очкарику. Да неужто он и сочинил их любимую «Тундру»? Этот парень и к оленю-то не знает с какой стороны подойти! Пришлось Виталию спеть не одну ещё песню и много чего о себе рассказать, прежде чем слушатели его признали. Но зато уж потом так показали тундру, так по ней прокатили на оленях – еле на нартах удержался…
Позже он побывал в Заполярье не раз – и на самом берегу Ледовитого океана, и там, где в него впадают Лена, Колыма и Яна. А после нескольких поездок по своенравной Индигирке написал песню об этой непростой и прекрасной реке, напоминавшей слегка капризную северную красотку. Но первая поездка в тундру навсегда осталась в его душе чем-то особенной. Как и предсказавшая эту встречу «Тундра»…
Не зря говорят, что талантливые люди талантливы во всём. Вот и окончивший медфак Виталий к тридцати годам стал не просто хорошим врачом, а признанным учёным, доцентом факультета, на котором когда-то учился. Теперь рядом с громким именем автора любимых народом песен шла слава одного из лучших специалистов в очень важной и редкой области – ранней диагностике раковых заболеваний. В Якутии такая слава проявлялась по-особенному, поскольку её огромные просторы издавна полнились и жили слухами, кочевавшими от улуса к улусу порой быстрей газет. И когда Виталий приезжал в какую-нибудь глубинку с концертом, ему не раз приходилось начинать встречи с селянами совсем не с песен. Он только диву давался, как сумели дойти в такую глушь слухи о волшебном «поющем докторе», но, конечно же, никогда и никому не отказывал в помощи. А иногда получалось наоборот – ехал с медицинской бригадой в дальнее село на обследования, а по вечерам приходилось играть и петь в клубе или больнице недавним пациентам.
Как-то раз во время сенокоса его попросили съездить с выступлениями в один из заречных районов: лето в тот год выдалось знойным, травы горели, план не шёл, и надо было как-то поддержать людей. Ну, раз надо – значит, надо. Виталий рано утром подхватил свой баян, направился в аэропорт и уже через несколько часов, когда сенокосчики собрались на свой стан пообедать, устроил для них небольшой концерт. А потом, как водится, рассказал о последних новостях столичного Якутска. Было видно, как после его задушевных песен, от которых веяло прохладой снегов и рек, посветлели и помягчали усталые и обожжённые солнцем лица людей. Показалось, что они как-то легче поднялись из-под тени брезентового навеса и, негромко делясь впечатлениями, направились на ожидавший их луг. Задержалась только одна девушка. Немного смущаясь, она подошла к Виталию и сбивчиво произнесла:
– Простите, пожалуйста… Мама наша… болеет сильно… Вы не могли бы её посмотреть…
– Конечно, посмотрю, – согласился Виталий. – А где она?
– В селе. Шофёр наш дом знает, довезёт, – обрадовалась девчушка. – Маму нашу Александрой Павловной зовут… Она вас ждёт, мы знали, что вы не откажитесь…
– А что с ней?
– Сказали, плохая болезнь… – Девушка, показывая, провела ладонью круг по своему животу. – Из райцентра домой отправили…
Через полчаса вернувшись в село на том же «Уазике», на котором он приезжал на стан, Виталий зашёл в небольшой домик с плотно зашторенными окнами и в полумраке увидел женщину, лежащую в постели. Она была уже немолодой, хотя, конечно, болезнь добавила возраста иссушённому недугом лицу. Женщина слабо улыбнулась Виталию и попыталась приподняться на кровати, но он, поздоровавшись, жестом остановил её. Ответив на приветствие, Александра протянула Виталию толстую медицинскую карту и несколько рентгеновских снимков. Чтобы лучше рассмотреть их, он подошёл к ближнему окну и сдвинул в сторону штору. Достаточно было пары минут, чтобы увидеть и понять, что у больной онкология, причём в уже безнадёжной форме. Потому районные врачи и выписали её домой… Но Виталий не спешил. Исполняя последний долг врача, он присел к кровати, взял Александру за руку, назвал по имени-отчеству и начал обстоятельно расспрашивать о болезни, о том, как всё началось, как она себя чувствует, какие лекарства принимает. А потом, конечно, сказал, что она непременно поправится, что надо не сдаваться, что он постарается отправить ей из Якутска самые хорошие лекарства. И перевёл разговор на другую тему – кем она работала, сколько у неё детей, где они теперь живут и кем стали…
О том, что всю жизнь была простой дояркой, Александра лишь упомянула. А вот разговор о детях, вышедших в люди, оживил женщину. На какое-то время она словно забыла о болезни и боли, принявшись негромко, но обстоятельно и с гордостью рассказывать о всех своих шести дочерях и сыновьях. Увидев, с какой человечностью и неподдельным вниманием слушает её доктор, в конце рассказа Александра вдруг решилась:
– Вы простите, я ведь вас не только как врача позвала… – Она сунула руку под одеяло и вытащил оттуда толстую тетрадь. – Вот, мои стихи… Недавно сочинять стала, как заболела… Будто кто-то сверху диктовать стал… Может, посмотрите?..
– Обязательно, посмотрю, – по-доброму улыбнулся Виталий, ободряя её. – Мне очень интересно будет!
Понимая, что как врач уже бессилен, Виталий, конечно же, хотел помочь Александре чисто по-человечески:
– Я сегодня у вас в селе ночую. Вечером стихи ваши почитаю, а утром перед отъездом загляну к вам, и мы о них поговорим…
Устроившись к концу дня в сельсовете, где ему поставили раскладушку прямо в кабинете местного главы, Виталий достал и раскрыл тетрадь Александры. Стихов было немало, но, естественно, они оказались не очень-то умелыми, часто не совсем складными. Но в то же время – искренними, подкупающими своей простотой, безыскусностью и той мудростью, что принято называть народной. «Ей бы подучиться у хорошего поэта, руку набить, могла бы неплохо писать… – Виталий вздохнул. – Вот только у кого в этом маленьком селе ей учиться, да и поздно уже, судя по всему…»
Какими бы ни были стихи Александры, завтра её надо будет обязательно похвалить, порадовав и поддержав, может быть, перед самым уходом из жизни. И Виталий вновь раз за разом перечитывал стихи, отмечая для себя лучшие. А потом остановился на «Благословении матери». Это было и напутствие в жизнь детям от Александры, и её завещание им. Виталий вспомнил, с какой любовью и какими словами она говорила о своих выросших уже сыновьях и дочках, какое тепло светилось в её глазах в эти минуты… И он понял, что может для неё сделать…
В ту июльскую белую ночь Виталий так и не уснул – просидел за баяном до самого утра, подбирая и пробуя то одну, то другую мелодию. И в конце концов, нашёл такую, что невольно ощутил самим сердцем – песня получилась. И не только необходимая для прощального подарка Александре, а, может быть, вообще одна из его лучших.
Взволнованная поэтесса встретила Виталия с затаённой надеждой, робко веря, что ему пришлось по душе хотя бы одно её стихотворение. Но гораздо заметнее на лице Александры читалось опасение, что неумелые стихи простой сельской доярки вряд ли понравились искушённому столичному сочинителю. Однако Виталий, лучезарно улыбнувшись, поздоровался с ней, как с доброй старой знакомой, и искренне произнёс:
– Замечательные у вас стихи! Прекрасные! Всю ночь перечитывал и не мог оторваться. А одно стихотворение так понравилось, что я просто не удержался и написал песню…
– Песню?!. На мои стихи?!. – Александра задохнулась от неожиданного счастья.
– Да, «Завещание матери»…
Виталий достал из чехла баян, сел на краешек кровати, прикоснулся к клавишам и запел. Из глаз потрясённой женщины потекли слёзы радости.
Прилетев в Якутск, он первым делом пошёл на республиканское радио, уговорил друзей сразу же сделать запись и побыстрее поставить её в эфир – чтобы Александра успела услышать свою песню.
А назавтра с одним из попутчиков отправил в далёкое село лекарства. Обезболивающие. Это было всё, чем он ей мог помочь как врач.
«Завещание матери» и впрямь оказалось песней особенной – одновременно глубокой и простой, мудрой и душевной. На радио пришло множество трогательных откликов, в том числе, конечно, из села Александры. И позже Виталия не раз просили исполнить эту песню в самых разных местах огромной Якутии самые разные люди.
Вот и здесь, в Терюте, на вчерашнем концерте, когда он уже закончил выступление, с первого ряда поднялась немолодая женщина и негромко произнесла:
– Спойте, пожалуйста, «Завещание матери»…
И он вновь на несколько минут перенёсся из зимнего заснеженного Оймяконья в знойный сенокосный июль, а потом в дом Александры, где блестели слезами негаданного счастья её глаза…
А когда спустился со сцены в зал, женщина, попросившая Виталия спеть любимую песню, подошла к нему и протянула небольшую баночку с вареньем:
– Вот, возьмите пожалуйста… Голубичное, сама собирала и варила… Чай попьёте вечером… У меня сын такой же, как вы, в городе живёт…
Он, конечно, немного смутился, но поблагодарил и взял. Нельзя не взять, если человек так, по-матерински, от души угощает…
Неторопливо шагая из клуба в гостиницу и не замечая мороза, он подумал о том, как по-разному появляются на свет и какой непохожей жизнью живут его песни. «Завещание матери» оказалось самым необходимым и быстродействующим лекарством прямо в день появления на свет. А вот «Цветку на скале» пришлось ждать своего часа десятки лет. И всё-таки он дождался, подтвердив в очередной раз истину, что ничего случайного в жизни не бывает…
В нелепые девяностые страна металась из одной крайности в другую, делая немало глупостей. Но при этом для дальних российских окраин Москва была всегда права по закону старшинства и силы. На любое решение сверху приходилось молча брать под козырёк, хоть и глотая порой обиду. Вот и над родным медфаком Виталия внезапно сгустились тучи – в Москве вдруг решили, что выпускать своих врачей на Крайнем Севере нет необходимости: и по деньгам накладно, и в центре достаточно институтов – пусть студенты там и учатся. А чтобы подвести базу под очередную мудрость столичной власти и соблюсти видимость объективности, в Якутск направили комиссию московских медицинских светил, которые должны была найти на месте нужные аргументы. Председателем комиссии специально назначили именитого профессора родом с Кавказа, никогда не знавшего близко якутян и, естественно, не питавшего к ним особых чувств.
На медфаке загрустили, но встретили гостей, как и принято на Севере, – с открытым сердцем. Честно рассказали о своих успехах и недостатках, показали всё, что хотела выведать комиссия. И даже вечер дружбы устроили в выходной накануне вердикта – несмотря на то, что проверяющие явно не были расположены к какой-то дружбе.
На вечере дали слово и Виталию. Как одного из доцентов медфака москвичи его уже узнали за время проверки, но теперь Виталия представили известным автором песен на якутском языке. Конечно, все ожидали, что он сейчас выдаст знаменитую на весь Советский Союз «Тундру», но Виталий вдруг сказал:
– Я спою нашим гостям песню на русском языке, которую написал на слова недавно ушедшего из жизни великого поэта Кайсына Кулиева… «Цветок на каменной скале»…
Такое начало оказалось для москвичей неожиданным, они невольно переглянулись, а председатель комиссии метнул пронзительный взгляд горца в поющего доцента и с удивлением поднял бровь. Он явно не ожидал услышать за тысячи километров от родного Кавказа имя земляка-поэта, да к тому же среди медиков…
А Виталий продолжил:
– Я сочинил эту песню много лет назад, ещё совсем мальчишкой. Меня поразила тогда горечь незаслуженной обиды поэта, но всю глубину её я понял лишь совсем недавно, когда узнал правду о его жизни…
В зале зазвенела тишина. Виталий запел. Когда под высокий потолок медленно уплыла последняя нота, москвичи восхищённо зааплодировали первыми, а потрясённый председатель комиссии сидел, уронив лицо в ладони и не двигаясь.
Когда наутро кавказский профессор вошёл в актовый зал факультета, где собравшиеся с замиранием сердца ждали приговора, то первым делом отыскал взглядом Виталия, подошёл к нему, пожал руку и протянул солидный том своего научного труда, на обложке которого было начертано размашистым подчерком: «Моему другу – с восхищением и благодарностью!» А потом поднялся на кафедру и произнёс:
– В эти дни мы увидели, какие замечательные педагоги работают в вашем институте. Мы посовещались и решили: такой институт закрывать нельзя!..
Слова профессора потонули в аплодисментах зала. Так «Цветок на каменной скале» спас якутский медфак…
Да, можно пережить всё, если подобрать нужную песню, – Виталий снова возвратился к мысли, с которой начинался сегодняшний вечер в Терюте. Но теперь настроение было другим: погода шептала, что завтра он обязательно улетит домой. Обязательно улетит. И пусть днём позже, но отметит праздник. Соберёт вместе родных и близких и споёт им свой «Терютский вальс»… Но, если по справедливости, то ведь именно тут, в этом маленьком, ни на что не претендующем селе, которое и не знает, что теперь всегда будет жить в его словах и мелодии, люди должны услышать этот вальс первыми…
Виталий подошёл к окну и посмотрел на улицу. Сияние погасло, укатило куда-то за дальние перевалы, но ясное небо было густо усеяно весёлыми звёздами, а в доме через дорогу ярко горели огни и двигались силуэты людей, которые, похоже, ещё долго не собирались спать. Он немного подумал и, не став одеваться, закинул за плечо баян, взял стоящее на столе шампанское и шагнул за порог – туда, где ждали его всегда…