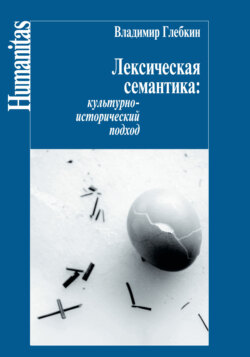Читать книгу Лексическая семантика. Культурно-исторический подход - Владимир Глебкин - Страница 6
Часть I
Модели языка как автономной системы
Глава 1
Мировоззренческие основания и методология генеративной грамматики
1.2. Эмпирические и методологические основания теории генеративной грамматики
ОглавлениеОбратимся теперь к системе обоснований Хомским сформулированных выше утверждений, к экспликации их доказательной базы. В ней есть две составляющие: мировоззренческие основания базовых методологических постулатов и обоснование конкретных лингвистических моделей, описаний, наблюдений. Мы начнем с первой составляющей, наиболее важной для нас в контексте данной работы. В целом аргументация Хомского распадается здесь на два блока: первый касается специфики порождения и понимания человеком и, прежде всего, ребенком раннего возраста разнообразных языковых выражений и конструкций, второй обращается к рационалистической традиции XVII–XVIII веков, выступающей для американского лингвиста как главный методологический авторитет.
Начнем с первого блока. Аргументация Хомского выглядит здесь следующим образом: отталкиваясь от принципа «остранения», предложенного Шкловским, он предлагает своему потенциальному собеседнику удивиться той легкости, с которой человек усваивает громадное число фонологических и синтаксических моделей, являющихся частью нашей языковой компетентности. Создание новых выражений кажется повсеместной практикой нормального человеческого поведения. Точное повторение высказывания представляет собой скорее исключение, чем правило, и проявляется лишь в ряде ритуальных формул (приветствие, прощание и т. д.)[26]. Особенно поражает способность к языку ребенка: количество предложений, которые он уже в раннем детстве оказывается в состоянии понимать, больше, чем число секунд, которые он прожил[27]. По Хомскому, полноценное осознание приведенных выше наблюдений делает абсурдной гипотезу эмпирического овладения языком по аналогии и ведет к однозначному выводу о наличии априорных структур, отвечающих за языковую компетенцию. При этом следует отметить, что он почти не ссылается на какие-либо психолингвистические эксперименты[28], и некоторые интуитивно очевидные для него факты кажутся, по крайней мере, неочевидными для других[29]. Место экспериментов занимают активно используемые сравнения, которые Хомский обрушивает на читателя (некоторые из них уже приводились выше): способность ребенка говорить аналогична его способности дышать или иметь две руки, различие языковых способностей у людей можно сопоставить с различием форм и характеристик сердца, способность ребенка к языку аналогична способности птиц к строительству гнезд или к производству характерных звуков и т. д.[30]. Не доказывая ничего по сути, они выступают как важное средство убеждения читателя.
В обращении Хомского к рационалистической традиции XVIIXVIII веков можно выделить три составляющие. Первая (и наиболее важная для нас) связана с проходящими сквозь все его работы и во многом определяющими их структуру и эволюцию взглядами о том, что представляет собой подлинно научная теория. Так, он отказывается считать подлинными науками описательные дисциплины, к которым относит, например, социологию или естественную историю. Эти дисциплины, по его мнению, включают в себя массу интересных наблюдений, определенное число генерализаций, но не предлагают универсальных объяснительных принципов. Американский лингвист демонстрирует различие между подлинными и неподлинными науками, предлагая два различных понимания слова «интересное» (interesting). Факты и наблюдения социологии и естественной истории интересны сами по себе, как интересна новелла, например; факты физики, часто не содержа в себе ничего любопытного для стороннего наблюдателя, интересны как возможность подтвердить или опровергнуть фундаментальные теоретические предсказания (Chomsky 1998 (1977), p. 56–59, ср. р. 78–79, 179). Физика Ньютона, сводящая громадное разнообразие не имеющих, на первый взгляд, между собой ничего общего явлений (таких, как падение яблока на землю и движение планет вокруг Солнца) к одной охватывающей их закономерности (закону всемирного тяготения) воспринимается Хомским как идеальный прототип подлинно научной теории. Способность к языку, по Хомскому, является столь же универсальным свойством человека, как способность притягиваться к другим телам – свойством природных объектов, и поэтому лингвистика, если она претендует на статус подлинной науки, должна опираться на простые и универсальные закономерности, аналогичные открытым Ньютоном[31].
Еще одним фундаментальным методологическим утверждением Хомского, которое, однако, лежит не в основании его взглядов на язык, а, скорее, представляет собой универсальное обобщение этих взглядов, является представление об ограниченности теоретических моделей, которые может создавать человек, и о предопределенности возможного спектра моделей его антропологическими особенностями. Американский лингвист опирается здесь на представление Декарта о врожденных человеку идеях и на предложенное Пирсом понятие абдукции (Chomsky 2006, p. 79–80). В целом за позицией Хомского стоит вырастающее из его понимания языка представление о конструируемых человеком моделях реальности как результате неограниченного использования ограниченного набора ресурсов[32].
С данной установкой связано и предложенное Хомским противопоставление проблем (problems) и мистерий (mysteries). Под проблемами он понимает возникающие в процессе познания вопросы, которые допускают корректные и верифицируемые ответы, подтверждающиеся всем ходом развития науки (по каким законам тела притягиваются друг к другу, например); под мистериями – вопросы, ответы на которые все еще темны, как и много лет назад, несмотря на кипы бумаги, переведенные для их разрешения (например, проблема существования и внутренней организации иных, отличных от человеческого, типов сознания). Мистерии характеризуют ограничения человеческого познания, и в этом смысле мистерии для людей отличаются от мистерий для крыс или для условных марсиан, например[33].
Вторая и третья составляющие в обращении Хомского к рационалистической традиции XVII–XVIII веков связаны соответственно с утверждениями о врожденном характере языка и уникальности присущей людям языковой способности[34] и с непосредственным грамматическим и логическим анализом, с попытками выявления глубинных грамматических структур, предпринятыми в различных трактатах XVII–XVIII веков[35].
Если же говорить об обосновании Хомским конкретных лингвистических наблюдений, то ключевой здесь оказывается процедура интроспекции, которую мы обсудим чуть ниже.
26
Chomsky 2006, p. 21, 88. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 98.
27
Chomsky 2006, p. 100. Ср.: Chomsky 1998 (1977), p. 63; Chomsky 1998a (1975), p. 4, 161, 173; Chomsky 2000, p. 61–62, 120.
28
В тех редких случаях, когда Хомский ссылается на данные экспериментов, бросается в глаза явная предзаданность интерпретаций, допускающих прямо противоположные толкования. Так, он упоминает исследование Л. Глейтман (Gleitman 1990; см. также: Fisher et al. 1994), где утверждается, что, по интерпретации Хомского (и отчасти автора статьи), маленькие дети осваивают значение придуманных экспериментатором слов, опираясь на синтаксические конструкции, в которые эти слова помещаются (Chomsky 2000, p. 122). Однако при этом упускается из виду, что каждая такая конструкция сопровождается наглядной демонстрацией синтаксически заданного действия, и гораздо более убедительным в данном случае кажется утверждение, что ребенок реагирует не на универсальные синтаксические закономерности, а на конкретную ситуацию. Пожалуй, наиболее интересным из экспериментальных «доказательств» модели Хомского кажется исследование Н. Смита и коллег, в котором они описывают некоего Кристофера, получившего в младенчестве мозговую травму и испытывающего серьезные проблемы в координации, в осуществлении повседневных бытовых действий, трудности в выполнении ряда простейших интеллектуальных тестов, но одновременно обладающего способностью переводить с 16 языков на английский (Smith, Tsimpli 1995; ср. Chomsky 2000, p. 121). Однако и в этом исследовании теоретическая рамка, в которую оно помещалось, определялась конкретной теорией (Теорией принципов и параметров), что до известной степени предопределило интерпретацию. Исследование похожих по ряду внешних характеристик психологических феноменов, в котором перед испытуемым ставятся иные вопросы и задается иная проблемная рамка, показывают, что результаты исследования могут эксплицировать психологические механизмы, весьма далекие от интерпретации Хомского. См.: Лурия 1994.
29
Так, например, крайне сомнительным выглядит утверждение Хомского, что, строя вопрос к фразе «The man who is tall is in the room», ребенок безошибочно произносит «Is the man who is tall in the room?» вместо «Is the man who tall is in the room?» (Chomsky 1998a (1975), p. 173–174). Сложно представить себе ребенка, который произносит подобные фразы в устной речи.
30
См.: Chomsky 2006, p. 152; Chomsky 1998a (1975), p. 38, 155.
31
См.: Chomsky 1995a, p. 3–4; Chomsky 1998 (1977), p. 78; Chomsky 2000, p. 83–84, 108–109, 166; Chomsky 2006, p. IX, 174, 180. Важно отметить, что, подчеркивая корректность проведенной параллели, Хомский настаивает на природном характере языка, принципиально не отличающем его от физических объектов, и устанавливает прямые соответствия между лингвистическими и физическими теориями, а также между «наивной лингвистикой» и «наивной физикой» (Chomsky 2000, p. 106–133).
32
Хомский иллюстрирует соединение в человеческом познании ограниченности и бесконечности образом целых и действительных чисел: ряд целых чисел бесконечен, но целые числа составляют ничтожную часть более обширного класса – класса действительных чисел (Chomsky 1998a (1975), p. 124).
33
См.: Chomsky 1998a (1975), p. 137–138; Chomsky 2000, p. 83, 107; Lycan 2003, p. 22–23; Chomsky 2003, p. 262.
34
См.: Хомский 2005 (1966), с. 23–28; Chomsky 2006, p. 9–12.
35
См.: Хомский 2005 (1966), с. 74–110; Chomsky 2006, p. 13–17. Хорошей иллюстрацией интерпретации Хомского является приведенный в его работах анализ авторами «Грамматики Пор-Рояля» высказывания «Невидимый Бог сотворил видимый мир», в котором ими выделяется уровень слов («невидимый Бог» «сотворил», «видимый мир») и уровень смыслов (суть предложения здесь сводится к трем утверждениям: «Бог невидим», «Мир является видимым», «Бог сотворил мир»).