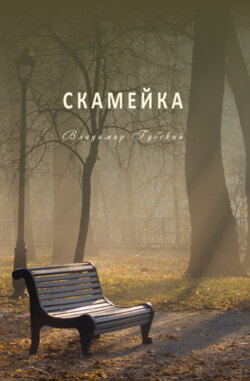Читать книгу Скамейка - Владимир Губский - Страница 3
Очерки и рассказы
Иерусалим
ОглавлениеНе знаю, какими словами можно описать те чувства, которые испытывает человек, оказавшийся впервые в местах, связанных с Библейской историей и Евангелиевским повествованием.
Четыре часа полёта на «машине времени» номер 767 – и мы на два тысячелетия в прошлом. Всё так же жарко, как в тот день, в пятницу, когда Пилат на открытой веранде допрашивал Иисуса. Ещё 62 километра на восток от берегов древней Яффы, через холмы, поросшие хвойными лесами (первое моё удивление) – и вот он, неожиданно возникший из-за поворота Вечный город. Он узнаваем сразу – по огромному золотому куполу на Храмовой горе.
Иерусалим – загадочное, необыкновенное слово, вобравшее в себя всю историю нашей цивилизации. Начало всех начал. Нет таких слов, которые могли бы передать весь трепет и восторг души человека, почитающего историю и оказавшегося у её истоков.
Древний Иерусалим! Со всего мира едут сюда люди. Какими бы не были они прежде, попадая в Иерусалим, они уже становятся другими. И это преображение делает с ними величественный, поражающий своим внешним видом город, накопивший за тысячелетия столько человеческой энергии, сколько нет её ни в одном другом городе мира. Группа за группой, процессия за процессией – идут по его узким улицам люди разных национальностей, культур, вероисповеданий, слившиеся в одну общую массу как единый народ единого мира.
И нет различий между арабами, евреями, американцами, европейцами, африканцами, индусами, японцами и русскими. Все заняты одним: желанием прикоснуться к древним святыням, окинуть взором стены и купола величественного города, послушать его несмолкаемый гомон, надышаться его жарким, идущим с пустыни, воздухом. Эта земля и каждый камень на ней напоминает нам о событиях, случившихся здесь две тысячи лет назад и перевернувших античный мир.
Первым местом нашего паломничества был русский женский монастырь Святой Марии Магдалины, расположенный за восточными стенами города на Масличной горе в районе Гефсиманского сада. С территории монастыря открылась панорама старого города с доминирующим золотым куполом мечети Омара. Рядом, чуть правее виднелись Золотые ворота, заложенные уже после того, как через них в город вошёл Иисус. Нам повезло: монастырь был открыт по случаю престольного праздника, который бывает лишь раз в году, и мы присутствовали на праздничной литургии.
Среди православного люда, заполнившего храм, выделялась разновозрастная группа людей, одетых в форму скаутов; на рукавах их одежды были нашиты шевроны цвета российского флага. На площадке перед храмом я познакомился с Игорем и Ольгой – скаутами из России. От них узнал, что группа сборная, состоит из потомков белой эмиграции, разбросанных по всему миру. Все они считают себя русскими и очень дорожат этим званием. Как бережно и трепетно сохраняют они родной язык и православную веру – две главные составляющие, которые позволяют каждому из них идентифицировать себя как русского, пусть даже в четвёртом поколении живущего вне Родины. Разговаривая с Игорем и Ольгой, я внутренне радовался тому, как созвучны их рассуждения о России моим горестным мыслям; отрадно было услышать, что и в других странах есть кто-то, кому не безразлична судьба её. Подошёл Борис – мужчина лет семидесяти, он из Вашингтона, входил в своё время в экспертную комиссию по опознанию останков семьи Романовых. Запомнились его слова: «Никто не хочет, чтобы Россия погибла – она всем нужна». Я крепко пожал ему руку, а у самого слёзы на глазах.
Бедные наши дети, когда же их будут учить и воспитывать так, как учат и воспитывают русских, оторванных от своей Родины? Просмотрел недавно в «Российской газете» представленный вариант списка ста фильмов, которые предлагается показывать детям в школах. Составили его наши популярные актёры, режиссёры и телеведущие. Из сотни названий – более трети (36) – фильмы западные, а наших фильмов, таких как: «Станционный смотритель», «Чапаев», «Гусарская баллада», «Герой нашего времени», «Барышня-крестьянка», «Алые паруса», «Капитанская дочка», «Тарас Бульба» – в списке вообще не оказалось. И о чём тут говорить?
С наступлением темноты и появлением первой звезды над Иерусалимом прозвучал громкий выстрел, и мусульманское население города приступило к долгожданной трапезе, разместившись на вытоптанной траве у подножия древней крепостной стены.
Время приближалось к полуночи, когда с севера через Дамасские ворота мы вошли в Старый город. Держась плотной группой, чтобы не потеряться, мы протискивались по запруженной товарами и шумной толпой узкой улице, спускаясь вначале вниз по отполированным веками плоским камням мостовой, а затем, медленно поднимаясь в гору, которая когда-то звалась Голгофой и находилась за стеной города. Свернув направо, мы оказались в переулке совершенно безлюдном и тихом – это был уже христианский квартал; арабы сюда не заходят, хотя никакой видимой границы и не существует. Пройдя сквозь арочную дверь, мы оказались в обширном каменном дворе и замерли от неожиданности: перед нами на фоне чёрного неба стоял величественный, освещённый множеством фонарей, фантастически нереальный древний храм Гроба Господня. Начиналась ночная литургия, и кроме русских паломников в храме никого больше не было. Необычное, непохожее ни на что виденное мною прежде, внутреннее пространство храма завораживало. Освещённый только светом многочисленных свечей и лампад, храм представлял зрелище, от которого захватывало дыхание. Само время впиталось в его отполированные камни. Византия, крестоносцы и более поздние эпохи – всё переплелось в этом каменном лабиринте истории.
Благоговейный трепет охватил нас; тихие и покорные стояли мы в храме, слушая непривычные греческие распевы. В центре, под куполом огромной ротонды возвышалась Святая Кувуклия. В ней и находится Гроб Господен. Совершая богослужение, в неё по очереди заходили с кадилами в руках, сначала греческие, затем армянские, потом коптские священнослужители. Паломников пускали по три-четыре человека: больше не помещалось в крохотном помещении. Невероятно сложно описать то чувство, которое испытывает человек, прикасающийся к святыне: оно так велико, что сражает любого, входящего туда и невозможно сдерживать слёзы.
Было четыре часа утра, когда мы возвращались в гостиницу по опустевшим улицам города, а с восходом солнца мы уже поднялись и направились к восточным – Львиным воротам, чтобы пройти Крестный путь Христа до Голгофы. Рядом с воротами в маленькой церкви Рождества Пресвятой Богородицы молодая монашка принимала записочки. Простыми словами она поведала нам, как мы, русские сильны своей верой и духом. Это чувствуют все в городе. «Арабы, хотя и шумят, но боятся нас, – говорила она, – они с детства сидят в своих двориках, торгуют на улице, ничего не видят и нигде не бывают, слабы и малодушны. Мы сильнее их». После таких слов наши плечи как-то сами собой распрямились и мы шли Дорогой Скорби, и по всем последующим дорогам с таким чувством уверенности, что порою нам казалось, что мы уже не в далёкой стране, а у себя дома. Да и как могло не показаться, если всюду мы посещали наши православные храмы. Все дни и ночи пребывал с нами наш батюшка, отец Алексей – вдохновитель и руководитель нашей группы прихожан Георгиевского храма. Были среди нас и певчие хора. Когда они начинали петь – будто ангел спускался на землю, и замирала душа.
Приёмный зал Патриарха Иерусалимского Феофила по убранству не уступал Кремлёвскому Дворцу. Патриарх тихо появился в дверях, две группы русских паломников и одна небольшая группа сирийцев из Австралии встречали его стоя. Сказав приветственную речь на трёх языках, Патриарх Феофил приступил к заведённому по протоколу приёму делегаций, ответному дарению подарков, и благословлению всех пришедших. Затем последовало общее фотографирование. С лёгкой руки нашего батюшки, отца Алексея я был представлен Патриарху Феофилу и преподнёс ему свою книгу с дарственной надписью, он долго её рассматривал, задавая мне вопросы. Затем, вручив мне ответный подарок – барельефное изображение храма Гроба Господня, благословил. Разум отказывался понимать происходящее – настолько невероятным было всё, что происходило на моих глазах, а чувства переполняли душу.
Библейские города: Иерусалим, Вифания, Назарет, Вифлеем, Хеврон, Иерихон, Капернаум из мифов превратились в реальность, но в эту реальность верилось с трудом. Мы окунались в солёные воды реки Иордан в том самом месте, где Иоанн крестил Иисуса, а в десяти метрах от нас, на противоположном берегу реки под навесом с автоматами в руках сидели иорданские пограничники, на которых мы не обращали внимания.
В 20-ти километрах от Галилейского озера, на краю библейской долины Израэль одиноко возвышается гора Фавор. На её вершине стоит православный греческий Свято-Преображенский монастырь. Маленькие автобусы как жучки снуют вверх-вниз, поднимая и опуская паломников, от перепада высоты закладывает в ушах. Стоя на вершине и вглядываясь в жаркое марево долины, так и хотелось сказать словами апостола Петра: «Наставник, хорошо нам здесь быть!»
Спускаясь с горы Фавор, будто планируя на маленьком самолёте по бесконечному серпантину, мы ещё не знали, что процесс внутреннего переустройства, преображения в душе каждого из нас уже стал совершаться. Мы стали осознавать это позже, уже по прилёту в Домодедово, – может быть в те несколько часов, пока тихо и спокойно ждали заказанный нами автобус.
Мы вернулись другими. Не раздражёнными и усталыми, как это часто бывает, а с добрым сердцем и светом в глазах.
Пройдёт время, улягутся в голове впечатления, всплывут в памяти названия мест и всё виденное и пережитое разложится по полочкам. Будут стоять в тёмных местах заветные бутылочки со святой водой, набранной в Иордане, и мы с теплом и грустью будем вспоминать семь дней августа 2012 года, пролетевшие на Святой Земле, как один миг.
19.08.2012