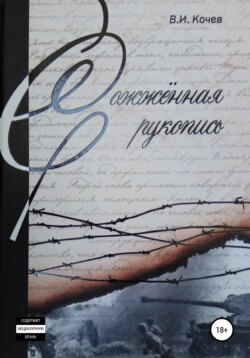Читать книгу Сожженная рукопись - Владимир Иванович Кочев - Страница 12
В лесу дремучем нет покоя
Пути судьбы нам неизвестны, их путает не Бог, а черт
ОглавлениеТоварняк тронулся. Удача снова не покидала Бледного: нашлась площадка, на которой можно стоять. Ветер рвал тепло из-под одежды. Сосны с недоумением смотрели на чумазого мужчину с портфелем, футляром, одетого в нелепое одеяние англичанина, зачем-то едущего в обратную сторону. Но пахан ушёл в себя, не чувствуя ни холода, ни голода, ни горя, хотя ехали стоя уже всю ночь. Остальные, глядя на него, терпели. Товарняк отчего-то остановился между разъездами. До следующей станции – пять-десять километров. По каким-то соображениям Бледный решил сделать остановку. Пройтись прогуляться пешком, побыть в этой дикой и чистой природе, а может быть, и запутать следы.
Солнце уходило, оставляя свои последние лучи. Стена деревьев заманчиво ждала путников. Неизвестность притягивала. Шайка углубилась в лес. Костёр распалился, и всё вокруг потемнело. Огонь притягивал и сближал. Бледный сжег свой футляр, а в портфеле оказалась копчёная колбаса, консервы и водка. Братишки повеселели, развалясь на ласковую траву, разговорились о шмарах.
Толстый ствол «сухаря» горел ровно, намереваясь греть путников до утра. Онька лежал на спине, звёзды приветливо светили из тёмного неба. Пахан лежал немного в стороне. Но центром был он, осью всей этой круговерти, тайги и неба. Этот центр перемещался вместе с ним. Его воля проникала без слов, он знал всё и не ведал страху. Уверенность пахана, сила огня, и вечность неба вливались в сознание. Онька уже не чувствовал беспокойства. Страх навсегда сгорал в костре, улетучивался вместе с искрами. Сухарь догорал, но огне-вище ровно грело накопленным жаром. Братишки спали, подставляя теплу то один, то другой бок. Беззаботно прижавшись к земле, радовался сну Сёмка. Мужская постель – это сон у огневища. Неземной казалась земля в этот бесконечный миг. Необычная тишина – можно слышать самого себя. Солнце ещё не взошло, но свет, мутный и фиолетовый проникал отовсюду.
Бледный, облокотившись, глядя на жаркие угли, напряжённо молчал.
«Ты за белых или за красных?» – вдруг спросил он. Вопрос был неожиданный и нелепый, как и его одежда.
«За каких белых, красных?» – недоумевал Онька.
«Ну, если бы сейчас вернулся восемнадцатый год?»
«Наши все за красных воевали, – чему-то радуясь и как бы оправдываясь, выпалил Онька. – Дядя Яша командир-партизан, колчаки его в перестрелке ранили, штыками лежачего кололи. Памятник им, красным героям, стоит на селе. А дядя Ваня Перекоп брал, награду за то имел. – Андрюша замолчал, волнуясь, и уже совсем тихо добавил: – А сейчас вот раскулачили».
Бледный напряженно молчал, пауза затянулась.
«А я… – с каким то отчаяньем выдохнул он и снова замолчал. Потом приподнялся и, сделав короткий кивок, отчеканил: – Белой гвардии прапорщик Кравцов, имел честь драться с красной сволочью, ранен под Перекопом».
Он раскрыл рубаху и показал рубец. Рассвет стал молочным, солнце ещё не показалось, но восток уже слепил глаза. Прапорщик Кравцов говорил и говорил, как будто сам себе. Не всё доходило до сознания Оньки, отпечатываясь в памяти. Впервые, как ту фортепьянную музыку, он услышал слова: честь, Отечество, Россия.
Семнадцатый год, февраль, революция без насилия и без крови. Словно яблоко красное вызрело и упало само в руки истины. Гимназисты на улице, красный бант на груди, и стихи и стихи, марсельеза. Царя, царский двор – всех в почётное отречение. Демос – народ принял власть. И прекрасно бы было, по-Божески: ждал Россию невиданный взлёт. Да, пришли, ворвались злопыхатели, искусали тот девственный плод. Красиво говорил Кравцов, белым стихом. И началась не война, а драка насмерть. Дралась Россия сама с собой. Братья по крови, языку и культуре убивали друг друга. И вот он, чёрный конец года двадцатого, Крым – последний оплот благородной России. Она, как в крепость, запряталась в Крым. И врата его крепко запёрты. А красные прут. Их трупы смердят у границ Перекопа. А слева и справа топкие Сиваши ограждают белых от красных. Но красные не белоручки – прошли по тем грязным разливам. Прошли там, где и дикие воины, орды не смогли пройти в прошлые века. Рухнула, пала крепость. Продвигались красные по Крыму, но белые им ставили заслоны. А кто-то готовился к бегству, корабли уж стояли в порту в ожидании. А юнкера – надежда и честь уходящей России, бросались безудержно в бой. Среди них и был юнкер Николенька, как звала его маменька в детстве.
Мой отец тогда тоже был в возрасте юнкера, но воевал на другой стороне, стороне победителей. Пройдёт много времени. Отец не любил вспоминать войну. Война – это зло, а гражданская война – грязное зло. А Сиваши вспоминал, как курьёз. Он получил за прошлые бои дорогую награду: армейские тонкого хрома красивые сапожки, и берёг их, как невесту. А тут распоряжение, по гнилым Сивашам, по солёной воде – вброд, в обход путь разведать. Не за себя боялся Иванко, за сапоги хромовые: ухайдакает их гнилая солёная вода.
Рано, рано в темень двинулись местные проводники: дно, где помельче, определяли, да шесты – знаки там втыкали. А красная полурота их прикрывала. Шёл Иванко, как все по пояс в воде. Но он сапожки свои в сухости сохранил: на загорбке их приторочил. Но и ноги о колючки морские не поранил. Он, мастер-сапожник, онучи себе заранее сшил, из подсумка перемётного. Задачу полурота «сполнила». Но заметили их беляки, обстреляли. Вода вокруг кипела-булькала. Да было поздно: шесты расставлены, красноармейцы уж назад брели. В воде не спрячешься, окопчик не выроешь, бегом не убежишь. Терпели да брели и выбрались, обошлось, все целы остались. Морозной корочкой вода уж кое-где покрывалась. На берег выбрались, зуб на зуб не попадал.
Поняли беляки, что не удержать им перешеек: красные с тыла по Сивашам зайдут, сами отходить стали. Но пятились белые умно: заставы, засады да заслоны на пути противника ставили. Умели «офицера» воевать, умирать красиво. И красноармейцы отчаянно шли на последнюю битву. Всем, кто проявит геройство, кожаные тужурки комиссары сулили. Говорили, что по заказу Ревкома в Москве уж их шьют.
В одну из застав и бросили роту юнкеров. Среди них был и Коленька Кравцов. И вот появились красные. Толпой наступают, штыки сверкают, комиссары маузерами машутся. Интернационал запели: «Это есть наш последний и решительный бой». Они тоже, как «офицера», красиво в атаку ходить научились.
Лежат юнкера и целятся: команды ждут. Поручик – георгиевский кавалер – за пулемётом, палец на гашетке. Юнкера лежат, «глаз на прицеле», команды ждут. Страшно – красная смерть надвигается. Вот уж близко, как похоронную песню – Интернационал затянули. Мурашки по телу, но юнкера не стреляют, команду ждут. Но вот, застучал пулемёт, захлопали часто винтовки. Порвалась на слове песня. Падают от хлопков те люди, как косой валит их пулемёт. Кровавую баню устроили юнкера красным убийцам. Разлилась кровь красных по крымской земле. Побежали назад неубитые, только мелькают подмётки.
Достал тот поручик портсигар, закурил, смеясь, только папироска чуть-чуть приплясывала. И все засмеялись да закурили, и кто не курил. И тут, будто ждал, прискакал нарочный. Доложил честь по чести поручику: имеет поручение от командующего вручить офицерские погоны юнкерам, то бишь, уже офицерам.
И открыл подсумок. Прицепили погоны – все в раз офицерами стали. Солнце светит, золото на плечах блестит. И выпускной парад вот-вот начнётся.
Отпугнули красных, но они не отступятся. У варваров волчий закон: они пожирают своего самого слабого. За самовольный отход каждый десятый должен быть расстрелян. Таков приказ – закон Троцкого, председателя реввоенсовета, наркома, военмора.
И вот они снова идут, в два раза лавина шире. Падают, да идут. Вот-вот и в атаку кинутся. А как «ура» заорут, заматерятся, тогда русского не остановишь – он без ума, страх потерял. Скипела вода в рубашке ствола «Максима», да и лента последняя кончилась. А ружейным огнём не многих убьёшь. Встал поручик – георгиевский кавалер, достал серебряный портсигар, закурил и громко крикнул: «Спасибо, братцы, мы приказ исполнили – придержали противника. Отходите, спасайтесь».
И кто-то дёрнулся, будто ждал той команды. А кто-то стоял, ждал, глядел на поручика. А тот взял винтовку, примкнул штык и пошёл один в контратаку. Крест георгиевский на солнце отсвечивал. Награда та получена ещё за германскую войну. В Гражданскую войну офицеры не пачкали свою честь: крестами за драку с братьями по крови не награждали.
И пристроились к нему, кто бежать от врага стыдился. Идут мальчуганы стальными штыками вперёд, золотые погоны блестят, папиросы дымят. А лавина орущая на них катится. Коля подоспел к георгиевскому кавалеру, когда у его ног уж корчились враги. Но лавину не остановить: задние прут на передних. Но и смертник каждый, что десять. Почти сам наскочил на штык такой же юнец, как Коля. Уронил винтовку, схватился за живот и красноармеец – по годам ему отец. Но вот удар по голове, как бревном. Коля на миг забыл, где он. Осел на колено, выпустил винтовку. А спереди на него уже летел человек, беззвучно раскрыв рот. Штык входил в грудь Коли без боли.
Быть может, и отец мой был в том бою. Но знаю точно – не он ткнул «лежачего». В нашей деревне в кулачном бою, лежачего «боле» не били. Таков неписаный кодекс мужицкой чести.
Очнулся Коля в лазарете, забыл себя и время. Закрывал глаза, а тот человек летел на него, широко раскрыв рот, крича без звука. Штык снова входил в тело, боль резала сознание. Коля, вскрикивая, просыпался. Долго ещё за что-то мучил его ровесник. Подходил человек в белом халате, щупал пульс. Водил перед глазами ладонью, «бред, бред», – объяснял он какому-то человеку в кожаной тужурке и с маузером. Ночью разбудила няня, добрая, как мать, и шепотом предупредила: пожалели тебя, сорвали офицерские погоны, записали вместо убитого красноармейца. Фамилия твоя – Коровин. Вот так и спас его ровесник, которого Коля, быть может, и приколол.
За окном болталась красная тряпка, гремел духовой оркестр. Праздновали освобождение Крыма и третью годовщину Октября.
И ещё один удар довелось принять Коле. Глянул в зеркало, замер: волосы побелели, а при волнении и лицо бледнело. Ходячие раненые не спеша раскрывали кисеты, крутили козьи ножки. Радовались, что живые, да хвалились, костили белую контру.
«Офицеря идут, фасонят, будто на смотру, паперёсками чадят. Всех перекололи, растуды их, мать твою в качель».