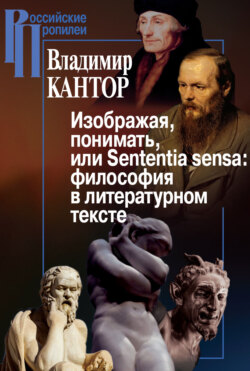Читать книгу Изображая, понимать, или Sententia sensa: философия в литературном тексте - Владимир Кантор - Страница 11
Cвет бытия
В парадигме дантовского «Ада»
(«Отец Горио» Бальзака и «Преступление и наказание» Достоевского)
Благообразие парижского ада
ОглавлениеУ Станислава Ежи Леца есть такой афоризм: «Мне казалось, что я опустился на самое дно. И тут снизу постучали».
Начнем с «Отца Горио», с Парижа. Сюжет романа очень прост, хотя невероятно насыщен как бы свернутыми в пружину элементами будущих сюжетов. Эти пружины разожмутся в других текстах Бальзака. В пансионе Воке живут постояльцы, «нахлебники», как их именует хозяйка. Все они играют свою роль, но в центре сюжета два, может, три героя. Это отец Горио, бывший вермишельщик, ушедший на покой, но скатывающийся на самое дно, поскольку все его деньги высасывают дочери, запутавшиеся в соблазнах парижского света. И губящие его. Здесь совершенно очевиден парафраз шекспировского «Короля Лира».
Затем студент Школы Правоведения, молодой юрист, гасконец Эжен Растиньяк, приехавший в Париж делать карьеру. В провинции остались в бедности мать и две любимые сестры, которые жертвуют ему последние деньги, и он понимает, что должен разбогатеть во что бы то ни стало, чтобы помочь сестрам и матери. Ипполит Тэн сравнивает его с Гамлетом, видя, что «за этой частной историей нашего века скрывается другая вечная история сердца, история шекспировского Гамлета, этого идеального юноши с душой, облагороженной ласками близких и иллюзиями детства, который, попав сразу и внезапно в тину жизни, задыхается, борется, рыдает и в конце концов или примиряется, или погибает»[84]. На мой взгляд, Тэн не почувствовал принципиальную разницу между шекспировским героем и героем Бальзака. Гамлет пытается мир исправить. И в этом смысле ему ближе, конечно, Раскольников. У Бальзака Растиньяк хочет войти победителем в общество, Раскольников хочет общество переустроить.
И наконец третий, весьма важный персонаж, некто Вотрен. Это был «человек сорока лет с крашеными бакенбардами – г-н Вотрен. Он принадлежал к тем людям, о ком в народе говорят: “Вот молодчина!” У него были широкие плечи, хорошо развитая грудь, выпуклые мускулы, мясистые, квадратные руки, ярко отмеченные на фалангах пальцев густыми пучками огненно-рыжей шерсти. На лице, изборожденном ранними морщинами, проступали черты жестокосердия, чему противоречило его приветливое и обходительное обращение. <…> Если какой-нибудь замок оказывался не в порядке, он тотчас же разбирал его, чинил, подтачивал, смазывал и снова собирал, приговаривая: “Дело знакомое”. Впрочем, ему знакомо было все: Франция, море, корабли, чужие страны, сделки, люди, события, законы, гостиницы и тюрьмы. Стоило кому-нибудь уж очень пожаловаться на судьбу, как он сейчас же предлагал свои услуги; не раз ссужал он деньгами и самое Воке и некоторых пансионеров; но должники его скорей бы умерли, чем не вернули ему долг, – столько страха вселял он, несмотря на добродушный вид, полным решимости, каким-то особенным, глубоким взглядом».
Бальзак нашел ход – показать дьявола в обличье обыкновенного человека, почти обывателя, так что до конца не ясно, дьявол он или нет. Но прикосновение Вотрена к мирам подземным внятно даже из его блатной клички: Обмани-Смерть. Это, конечно, не просто кличка, а очевидный символический намек. Вотрен – искуситель. Он прямо говорит Растиньяку: «Вы молодой человек, красивый, щепетильный, гордый, как лев, и нежный, как юная девица. Для чорта прекрасная добыча!»
В.Н. Захаров заметил: «В истории мирового искусства Достоевский относил себя к христианской традиции. Об этом он не раз заявлял сам в течение всей жизни. Примечательно, что в юности он включил в ряд христианских поэтов и Бальзака»[85]. И вот перед нами роман Бальзака очень религиозный, роман искушений. Искушаем любовью к дочерям отец Горио, искушаем бедностью и желанием помочь близким Растиньяк, его еще провоцирует Вотрен. Он предлагает ему брак на дочери миллионера Тайфера, выгнавшего дочь из дома, но после смерти единственного брата, смерти, которую Вотрен обязуется устроить, она становится наследницей миллионов, а Растиньяк миллионером[86]. Вотрен прямо говорит, что Париж – это ад, войти в высшее общество значит нырнуть в адское пространство. Это некоторое время держит Растиньяка настороже и отталкивает от предложения Вотрена. И Бальзак замечает: «Быть может, только те, кто верит в Бога, способны делать добро не напоказ, а Растиньяк верил в Бога». Бальзак показал, как гибнет верующий человек. Отметим, кстати, и романтический контраст романа.
Отец Горио и банкир Тайфер. Отец Горио, жертвующий все для своих дочерей, впадающий ради них в полную нищету. А с другой стороны, банкир Тайфер, убийца друга в прошлом, категорически не признает дочь, давая ей умереть с голоду или почти с голоду, без помощи. Но именно она обожает отца, готова всем для него пожертвовать, в отличие от дочерей Горио. Все имеет воздаяние. В каком-то смысле Горио расплачивается за свое не очень праведно приобретенное богатство. Он был искушаем вначале деньгами, потом любовью к дочерям, которых он воспитал в духе вседозволенности. И его беда, опуская его по социальной лестнице, переселяет его на чердак, тем самым поднимает символически к небу – он вроде должен прозреть, но он не прозревает. Умирает тихо и блаженно, в слепоте. За гробом старика идут не дочери, а два бедных студента – юрист Растиньяк и доктор Бьяншон. Отца Горио часто именуют «Христос отцовской любви». Но если говорить о христианском контексте, то напомню, что Бог любил своего Сына, но послал Его на крест. «Отец Горио» – едва ли не единственная трагедия Бальзака в полном смысле этого слова, где герой несет трагическую вину.
Но мы не видим в романе ни одного убийства, только за кадром смерть сына Тайфера, да смерть отца Горио, который умирает, можно сказать, от старости, если бы читатель не знал, как изводили его собственные дочери. По словам Ауэрбаха, Бальзак «воздействие общественной среды сравнивает с заразными испарениями, вызывающими тиф»[87]. Тиф заразен. Кроме искусителя Вотрена, у Растиньяка есть кузина, виконтесса де Босеан, которая говорит: «Так вот, господин де Растиньяк, поступайте со светом, как он того заслуживает. Вы хотите создать себе положение, я помогу вам. <…> Чем хладнокровнее вы будете рассчитывать, тем дальше вы пойдете. Наносите удары беспощадно, и перед вами будут трепетать. Смотрите на мужчин и женщин, как на почтовых лошадей, гоните не жалея, пусть мрут на каждой станции, – и вы достигнете предела в осуществлении своих желаний. Запомните, что в свете вы останетесь ничем, если у вас не будет женщины, которая примет в вас участие».
Надо сказать, это ход мысли, присущий цивилизованному обществу, где женщины нашли способ господства над мужчинами. Еще Монтескьё писал: «Суть в том, что всякий имеющий какую-либо придворную должность <…> действует при помощи какой-нибудь женщины, через руки которой проходят все оказываемые им милости, а иногда и несправедливости. <…> Всякий, кто служит при дворе, в столице, или в провинции и видит, как действуют министры, чиновники, прелаты, но не знает, какие женщины ими управляют, похож на человека, который хоть и видит машину в действии, но не имеет понятия о ее двигателях»[88].
И Растиньяк заводит себе такую женщину, баронессу Дельфину де Нусинген, вторую дочь отца Горио. Немножко, конечно, любит, но сколько расчета в этой любви! И вот уже Растиньяк говорит своему работящему другу, медику Бьяншону: «Друг мой, слушай, – обратился к нему Эжен, <…> – иди к той скромной цели, которой ты ограничил свои желания. Я попал в ад и в нем останусь. Всему плохому, что будут говорить тебе о высшем свете, верь! Нет Ювенала, который был бы в силах изобразить всю его мерзость, прикрытую золотом и драгоценными камнями».
Таков первый набросок парижского ада.
«…и тут снизу постучали»
С первых же строк романа Достоевского мы понимаем, что мы попали в какой-то немыслимый для жизни человека мир: «На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины».
Заметим сразу параллель: Раскольников – юрист, как и Растиньяк. Но никто не объясняет ему устройство питерского мира. Тут нет виконтессы Босеан, нет светских дам, нет даже Вотрена. Убийцы здесь другие, простые – убивают, как дышат. Распутство здесь не утонченное, как в Париже, здесь распутство непотребных девок. А уж пьянства в своем аду Бальзак вообще не видит. Ни одного пьяного ни на улицах, ни в салонах, ни тем более в пансионе Воке.
А в Питере? Не в высшем свете, а в Питере Достоевского? Принцессы здесь есть, но другие, нежели у Бальзака, их продажность много грязнее:
«Парень снова посмотрел на Раскольникова.
– У нас, ваше сиятельство, не губерния, а уезд, а ездил-то брат, а я дома сидел, так и не знаю-с… Уж простите, ваше сиятельство, великодушно.
– Это харчевня, наверху-то?
– Это трахтир, и бильярд имеется; и прынцессы найдутся… Люли!»
Попробуем пройти хотя бы некоторое расстояние следом за героем и посмотрим, что он видит. Он идет к старухе-процентщице, которую все, да и он сам иначе как ведьма не называет[89]. Можно, конечно, счесть слово «ведьма» просто бранным, если бы не сопутствующие моменты. Ее портрет: «Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка».
Конечно, здесь не избушка на курьих ножках, но шея куриная. А мы помним из мифологических штудий, что избушка на курьих ножках – сторожевая башня на пути в царство мертвых (царство Смерти). Очевидно, прожив среди каторжан и в далекой провинции, систему народных примет Достоевский не мог не знать. Особенно примет, связанных со смертью, которая буквально гуляет по его романам. Напомню отношение старухи к ее сестре Лизавете, которая смертно боялась Алену Ивановну. Как говорил офицер в подслушанном героем разговоре: «она намедни Лизавете палец со зла укусила; чуть-чуть не отрезали!» Жест абсолютно ведьминский. Но почему же Лизавета, которую все в романе, а потом и критики именуют едва ли не святой, живет с ведьмой и слушается ее, служит ей?
Есть ли в ней какая-нибудь червоточина? Касаткина в комментариях собирает все положительные трактовки Лизаветы. «Чистая сердцем Лизавета», «Лизавета – Богу обетованная», «Лизавета – полюс кроткий, самоотверженно творящий добро для других». Более того, написала статью под названием «Святая Лизавета». В комментариях к роману она уже поправляет себя: «Лизавета – мученица во имя Господне»[90]. Но напомню слова студента, беседующего с офицером о старухе-процентщице, разговор, где едва ли не впервые говорится о Лизавете, причем не прямым словом студента, а голосом автора, который вплетается в рассказ студента[91]: «Была же Лизавета мещанка, а не чиновница, девица, и собой ужасно нескладная, росту замечательно высокого, с длинными, как будто вывернутыми ножищами, всегда в стоптанных козловых башмаках, и держала себя чистоплотно. Главное же, чему удивлялся и смеялся студент, было то, что Лизавета поминутно была беременна…».
Лизавета, стало быть, беременела довольно часто. Мужа нет. Гулящая? Чтобы спасти семью от голода, как Соня? Нет, конечно. А где ее дети? Не аборты же! Они были запрещены. Не топила же она своих младенцев как котят. Значит, сдавала в работные дома… Где ее высокая нравственность? Соня с ней общалась; может, среди прочих причин общения можно назвать и то, что Лизавета была грешная, как сама Соня. С порядочными женщинами Соня не решалась общаться. Боялась сесть рядом с Дуней, сестрой Родиона Раскольникова.
В русской литературе, до романа Достоевского, было лишь одно убийство старухи, я говорю о «Пиковой даме». На эту параллель несколько раз обращали внимание, да и трудно не обратить, поскольку Пушкин был реальный камертон творчества Достоевского. Но никто, кажется, не обратил в этом контексте внимания, как именуется героем старая графиня, к которой Германн пришел тоже с денежным вопросом (ему, кстати, как и Раскольникову, деньги не достались). А она тоже ведьма. Процитирую: «Старая ведьма! – сказал он, стиснув зубы, – так я ж заставлю тебя отвечать… С этим словом он вынул из кармана пистолет. <…> Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла». Намек на пушкинскую графиню Достоевским дан. Уже после убийства старухи, после длительного бреда, Раскольников приходит в себя и видит около себя приятеля-студента Разумихина, который произносит странную фразу:
«Уж не за секрет ли какой боишься? Не беспокойся: о графине ничего не было сказано». Это ставило в тупик даже тонких комментаторов. Альтман говорит, что знакомых графинь у Раскольникова нет, но здесь намек на стихи Пушкина «Паж, или Пятнадцатый год», где поминается «севильская графиня».
Альтман пишет, что у Разумихина «шуточный, но точный пересказ стихов Пушкина»[92]. Но при чем здесь севильская графиня, в которую влюблен 15-летний паж, непонятно. Раскольников ни в кого не влюблен. Но Разумихин, как мы видим, интуитивно все время бродит вокруг убитой старухи-процентщицы, которую вполне мог назвать графиней. Ибо в русской литературе было лишь в «Пиковой даме» убийство старухи из-за денег. Германн, как помним, очень походил на Наполеона. Напомню, что полицейские, трактуя статью Раскольникова, намекают на него, говоря: «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? – брякнул вдруг из угла Заметов». Итак, ведьма и у Пушкина, и у Достоевского. На Наполеона похож Германн, с Наполеоном сравнивают Раскольникова.
Идем с героем далее. Еще шаг – он попадает в «распивочную», тоже своего рода потустороннее царство. «Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз». Распивочная – спуск вниз, в подвал, в подземелье (кстати, дом этот я видел: восемь дверей, ведущих в такого типа подвалы, сохранились). Путь в Аид.
И там он встречает местного жителя, который пропитан испарениями этого подземного царства, – чиновника Мармеладова, которого Писарев назвал «трупом»[93]. Мармеладов рассказывает историю, достойную дантовских, о том, как его 17-летняя дочь Соня вышла на панель, чтобы семья не умерла с голоду[94]. Ему же принадлежат надрывные слова о том, что человеку надо иметь возможность куда-то пойти и что бедность не порок, но нищета – порок. И все почему-то жалеют Мармеладова.
Разумеется, фамилии героев у Достоевского очень смысловые, даже вызывающе смысловые, почти как в театре французского классицизма. Но все же надо трактовать их осторожно, не выводя их все из евангельских смыслов. Когда вдруг комментируются имя и отчество Мармеладова таким образом («Семен Захарыч – Захар – память Божья (евр.). Семен Захарович – Бога слышащий, память Божия»[95]), то приходишь в оторопь. Какое отношение это имеет к пьянице, погубителю своей семьи. Касаткина так трактует фамилию Мармеладов: «“Мармеладов” – фамилия, противопоставленная фамилии “Раскольников”. Сладкая вязкая масса, слепляющая расколотое существование, да еще придающая ему сладость»[96]. Но эта трактовка скорее кондитерская. К тому же, как мы знаем из романа, ничего не слепляется в его семье, и никакой сладости в дома Мармеладова нет.
Мармеладов – фамилия и вправду говорящая, но она заимствованная, мармелад в переводе означает медовое яблоко (см. словарь Фасмера). И человеку, чувствующему язык, сразу приходит иронически-горькое выражение русского человека: «Чтобы жизнь медом не казалась!» Повторю, что Достоевский с лишком десять лет прожил среди весьма суеверного люда, в провинции, между людей «нелиберальных», веривших в сонники. Так вот что говорит сонник: «Сон о том, что вы едите мармелад, означает болезнь и неудовлетворенность судьбой. Кроме того, такой сон может предвещать удовольствия, от которых вы не в силах будете отказаться, отлично понимая, что наносите себе значительный ущерб. Если молодой женщине приснилось, что она делает мармелад, дома у нее сложится неприятная атмосфера». И эта трактовка много больше подходит к судьбе Мармеладова и его семьи. Удовольствия, от которых вы не в силах отказаться, отлично понимая, что наносите себе значительный ущерб. Это почти резюме исповеди Мармеладова.
Тут напрашивается еще сравнение. В «Отце Горио» отец жертвует собой ради дочерей, обеспечивая их светскую распутную жизнь. Конечно, ад! Но у Достоевского дочь жертвует своей чистотой, чтобы спасти отца. Тоже ад, но пострашнее. Какие разные отцы!
Отец Горио тратит все деньги на дочерей, отец Мармеладов в сущности выгоняет дочку на панель, чтобы были ему деньги на выпивку. Соня за свой грех получает тридцать целковых, сравнение с тридцатью сребрениками Иуды слишком прозрачно. Соня предает святое в себе. Поэтому слова ее, что она великая грешница, нас не удивляют. Она, чистая девушка, чувствует так, как проститутка не чувствует.
Мармеладов почти кощунствует: «– Жалеть! зачем меня жалеть! – вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутою вперед рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. – Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! (кощунство очевидное. – В. К.) Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! <…> Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил, и обрел; а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия».
А впереди семья Мармеладова – предел нищеты, когда еще есть попытка не отказаться от человеческого облика – сцена, надрывающая сердце. Интересно, что Достоевский как бы понижает в романе высокие смыслы и евангельской и современной литературы. Кабак в романе называется то «Капернаум» (евангельский ход), то «Хрустальный дворец». В Англии и у Чернышевского это символ всеобщего счастья и примирения, также парафраз Нового Иерусалима. У Достоевского именно кабак – реальный русский вариант всеобщего счастья. Страшный символ.
Отдав свои последние деньги (незаметно положив их «на окошко»), Раскольников возвращается в свою конуру, где он существует, комнату, похожую на гроб; впрочем, парижский герой закладывает свои единственные часы, чтобы хватило денег на похороны «папаши Горио». И еще одна параллель. Как помним, Растиньяк получил письмо от матери и сестер из провинции, живущих в бедности, но достойно. Во всяком случае, они в состоянии прислать Растиньяку деньги, отказавшись от мелких причуд. В семье Раскольникова тоже бедность, не нищета. Из письма матери он узнает, что гордая его сестра красавица Дуня (очень похожая на брата по характеру) из-за бедности вынуждена выносить приставания помещика Свидригайлова, а потом практически продает себя в замужество к ненавистному ей деловому человеку Петру Петровичу Лужину. И Раскольников естественно сравнивает это ее решение с поступком Сони. Ни Дуне, ни ее матери не до женских причуд, лишь бы выжить. И вся надежда на первенца Родю, их всё. Герой способен очень чувствовать близость к матери и сестре, это его реальная ценность в этом мире: «Письмо дрожало в руках его; он не хотел распечатывать при ней: ему хотелось остаться наедине с этим письмом. Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал». В письме мать рассказывает, что Дуня всю ночь молилась перед образом, а наутро объявила, что она решилась на брак. Мать и от Родиона ждет такой же детской веры, и почти не ошибается: «Она ангел, а ты, Родя, ты у нас всё – вся надежда наша и всё упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты Богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость Творца и Искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!»
Раскольников потрясен, он должен помочь, и не знает, как. Выскакивает на улицу, а мысли и чувства просто в диком смятении: «Нет, Дунечка, всё вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чем молилась перед Казанскою Божией матерью, которая у мамаши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить». Хочу сразу сказать, что, пожалуй, за исключением Мармеладова и Лужина, все герои романа Достоевского одержимы чувством самопожертвования. И замечу, немного забегая вперед, что все мысли Раскольникова о реальности, ее оценки, основаны на религиозных ценностях, видятся им в христианском контексте. Ведь и свой шаг к убийству старухи он считает самопожертвованием, сравнивая свой поступок с поступком Сони.
И наконец, последний штрих, который показывает ему будущую судьбу Дуни. Он встречает совсем молоденькую опоенную и, судя по всему, изнасилованную девушку, бессильно севшую, почти упавшую на скамейку. Раскольников пытается помешать новому сластолюбцу, зовет на помощь полицию: «И, схватив городового за руку, он потащил его к скамейке.
– Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару: кто ее знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули… в первый раз… понимаете? да так и пустили на улицу. <…> А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он ее тоже отметил дорогой, сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить ее, – так как она в таком состоянии, – завезти куда-нибудь…»
Он готов быть вполне законопослушным гражданином. Но возможно ли это? «Он пошел домой; но дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул». И снится ему тут страшный сон.
«Приснилось ему его детство, еще в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. <…> В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи…»
84
Тэн И. Этюд о Бальзаке // Бальзак Оноре де. Евгения Гранде. Романы. Харьков, Белгород: Клуб семейного досуга, 2011. С. 13–14.
85
Захаров В.Н. Имя автора – Достоевский. Очерк творчества. М.: Индрик, 2013. С. 73.
86
Не могу не привести этих слов Вотрена, они говорят о его сущности: «“У меня есть друг, обязанный мне очень многим, полковник Луарской армии, только что вступивший в королевскую гвардию. Полковник следует моим советам и стал ярым роялистом; он не дурак и поэтому не дорожит своими убеждениями. <…> Возвращаюсь к моему приятелю. Стоит мне только попросить, и он готов хоть снова распять Христа. Достаточно одного слова дяденьки Вотрена, и он вызовет на ссору этого плута, который ни разу не послал своей бедняжке сестре хотя бы пять франков, и…” Тут Вотрен поднялся, встал в позицию и сделал выпад (курсив мой. – В. К.). – …и в преисподнюю! – добавил он».
87
Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 399.
88
Монтескьё Ш.Л. Персидские письма // Монтескьё Ш.Л. Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2002. С. 175.
89
Вот к ней стучатся закладчики (уже после убийства Раскольников притаился в квартире): Закладчик Кох: «Эй, Алена Ивановна, старая ведьма! Лизавета Ивановна, красота неописанная! Отворяйте! У, треклятые, спят они, что ли?» Далее он же: «Сама мне, ведьма, час назначила. Мне ведь крюк. Да и куда к черту ей шляться, не понимаю? Круглый год сидит ведьма, киснет, ноги болят, а тут вдруг и на гулянье!» И сам Раскольников после разговора со следователем: «А ведьма и число прописала карандашом!»
90
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Комментарии Касаткиной Т.А. М.: Астрель. АСТ. 2008. С. 625.
91
Все подчеркнутые в цитатах слова выделены мной. – В. К.
92
Альтман М.С. Достоевский. По вехам имен. Саратов: изд-во Саратовского университета, 1975. С. 143.
93
«Мармеладов – труп, чувствующий и понимающий свое разложение, – труп, следящий с невыразимо-мучительным вниманием за всеми фазами того ужасного процесса, которым уничтожается всякое сходство этого трупа с живым человеком, способным чувствовать, мыслить и действовать» (Писарев Д.И. Борьба за жизнь // Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: ГИХЛ, 1956. С. 330. Курсив мой. – В. К.).
94
«Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать, лицом к стенке, только плечики да тело всё вздрагивают…». Отметим и запомним эти тридцать целковых.
95
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание / Комментарии Касаткиной Т.А. М.: Астрель. АСТ. 2008. С. 620.
96
Там же. С. 617.