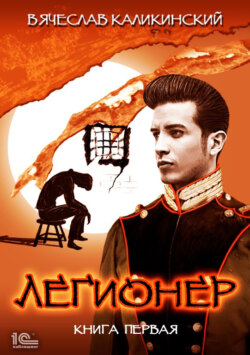Читать книгу Легионер. Книга первая - Вячеслав Каликинский - Страница 3
Книга первая. Что ты наделал, Карл?
Глава первая. Переполох в Гродненском переулке
ОглавлениеВесна в тот год в Петербурге была долгой и слякотной. Тепла она прибавляла по чуть-чуть, постоянно отступала, пряталась с последними почерневшими ледышками в темных подворотнях и вечно-сумеречных узких проходных дворах северной российской столицы. А то вдруг налетала откуда-то на разомлевших по нечаянности под выглянувшим из туч солнышком людей холодом и сыростью. Заставляла ежиться, поплотнее запахиваться в одежду и оставляла лишь мечты о том, что где-то и когда-то бывает тепло.
А уж на ночь нерешительная девица-весна и вовсе куда-то исчезала из Петербурга. И городовые до утра сердито стучали в своих будках промерзшими сапогами по приступкам, кутались в башлыки и до исступления мечтали о том, как утром, отстояв свои часы, нырнут во влажную теплынь трактиров и чайных, где ждут их огненные суточные щи в миске, зубец чеснока и чарка горькой очищенной. Вытянешь ее сквозь зубы, истово, выдохнешь вместе с водочным духом холодную пустоту минувшей ночи – и снова вроде жизнь станет чуть милее. И не беда, что скоро снова топать в полицейскую часть, вспоминать летнее тепло и костерить капризную девицу-весну за ее дикость, переменчивость и нерешительность. А уж если пройдет ночка спокойной, без лиходеев и протоколов, без необходимости лишний раз тащить в околоток ворюгу-чердачника – и вовсе славно!
Вот и в ночь с 29 на 30 мая 1879 года городовой пятого года службы Василий Степанович Скородумов, в очередной раз обходя участок, тоскливо мечтал о конце дежурства.
Конечно, полностью спокойной минувшую ночь не назовешь. С вечера пьяные мастеровые разодрались меж собой, ночью с приказчика загулявшего лихие люди в подворотне шапку сняли. Ну это все пустяки. Скородумов даже в часть никого не сволок – к чему лишний раз ноги бить? Забиякам – по шеям надавал, приказчика протоколом о пьяном состоянии припугнул – все честью, с благодарностью и полтинами разошлись. Обошлась ночка без задавленных и зарезанных – слава те, Господи! Впрочем, дежурство еще не закончилось.
Нет, не миловал Господь, не обошлось – вон кричат и свистят с угла Гродненского переулка, что темным коридором одинаковых плоских доходных домов выперся в Саперную улицу. Бегут и кричат что-то, и не успеть уже городовому Скородумову добраться до спасительного тепла и уюта чайной «Тамбов». Чтоб им ни дна ни покрышки – кричат, зовут. Вот и дворники засвистели – все, «улыбнулась» нынче городовому чарка очищенной и суточные щи! Сожрет их торопливо какой-нибудь извозчик либо мастеровой – тьфу ты, пропасть!
Мальчишки первыми налетели. Сквозь их торопливый стрекот городовой понял, что в Гродненском переулке мертвое тело обнаружилось. И не на улице, не в подворотне где-нибудь, а в третьем этаже доходного дома № 14. Приличный господин, значит, коли в своей квартире преставился. Вздохнул Скородумов, еще раз с сожалением глянул на близкую уже вывеску «Тамбова», плюнул с досады и пошел к месту происшествия, придерживая бьющую его по левой ноге шашку. Мальчишки вперед него брызнули обратно в переулок.
Дворник в подворотне во фронт встал – он, Яков Дударов, из бывших служивых, с понятием. Сдернул шапку и доложил, кивая на человечишку в заляпанной краской фуфайке: так, мол, и так: мертвое тело. Маляр вот и обнаружил, как по стене полез фасад красить с утра пораньше. Мертвое, говорит, женского полу тело.
А дело было так. В тот день ни свет ни заря, как и было условлено с владельцем доходного дома № 14 по Гродненскому переулку господином Дрейером, маляр Прошка Бабунов явился в переулок, чтобы исполнить подряд: покрасить фасад трехэтажного дома. Краску, кисти, доску и изрядный моток прочной веревки с полиспастом Прошка еще вчера, договорившись с земляком-ломовиком, на место работы привез. Старший дворник Яков Дударов вполне определенно обещал помощь – и не обманул: еще подходя к дому, Прошка увидел два железных кольца, закрепленных дворником на коньке крыши.
Прошка начал активно готовится к работе. Прежде всего младший дворник, помощник Якова, был услан в ближайший трактир за четвертью литра горькой калганной настойки: накануне артель Бабунова крепко погуляла, и маляр желал до начала работы «поправить голову». К возвращению гонца краска была разведена и разлита в два низких ведерка с привязанными к ручкам кусками веревки, а широкая доска уже лежала вдоль фасада. Запыхавшийся младший дворник был тут же послан на крышу дома, откуда он, следуя указаниям маляра, и спустил пропущенные через кольца концы прочной веревки.
Прошка, насвистывая, сноровисто завершил на земле остальное: из свисающих концов веревки и доски приготовил подвесную «люльку» для подъема на требуемую высоту.
– Кто ж тебя, дяденька-маляр, будет подымать и держать наверху? – с любопытством спросил белоголовый вездесущий сынишка старшего дворника. – Папаня?
– Нет, Петька, не папаня твой, а вот это самое приспособление – похлопал по полиспасту маляр. – Ты, чем вертеться под ногами, сбегал бы к мамке за соленым огурцом. Покрепче пусть выберет, скажешь – папаня для маляра велел дать. А вернешься – сам все увидишь.
Дворники, которым бабуновские привычки были известны, только посмеивались. Маляр, зайдя из приличия в подворотню, прямо из горлышка выдул отдающую сивухой жидкость, отдал пустую посудину вернувшемуся Петьке, шумно сгрыз прошлогоднего посола огурец и приступил к работе. Петька, как завороженный, глядел на маляра: словно играючи протягивая пропущенную через полиспаст веревку, маляр ловко поднял сам себя до третьего этажа, закрепился там, подтянул к себе одно из ведер с краской и начал плавно махать кистью, закрепленной на длинной жерди.
Впрочем, смотреть на однообразную работу Петьке скоро стало скучно, окрестные дворники тоже разошлись по своим делам, и только старший, Дударов, время от времени выходил из ворот и глядел – как движется работа, да вдоль переулка посматривал, по давней привычке к порядку.
– Слышь, дядя! – окликнул вскоре Дударова сверху Прошка. – Хорошо, говорю, людям! Мы с тобой работаем, а она лежит, спит. Прямо на полу: хорошо, видать, на грудь приняла!
– Кто лежит-то? – не понял Дударов. – Где лежит?
– А во-он в ентом, крайнем окошке, – показал кистью маляр. – Баба какая-то спит.
– Чего врешь-то? – посчитав окна, усмехнулся дворник. – Это квартира отставного надворного советника, господина Власова. Он там один с прислугой живет, да и не видать уж несколько дней ни его, ни старухи. Сам-то ен на дачу собирался съехать, а Семенидова, прислуга евонная, моей бабе говорила, что на богомолье пойдет сразу. Скажешь тоже – «лежит»! Кому там лежать? Да и непьющая она, старуха-то…
– Старуха – не старуха, мне отсюда не видать: стекло отсвечивает. А что лежит баба на полу – точно тебе говорю. И подушка еще под мордой ейной, – упрямо возразил Прошка, продолжая сноровисто красить стену.
Недоверчиво хмыкнув, Дударов совсем было уже собрался уходить с улицы, но что-то его остановило.
– А ну-ка, глянь еще раз, мил-человек! – помолчав, попросил дворник. Он действительно несколько дней не видел ни самого жильца, ни его прислуги. И сейчас, говоря маляру об их отъезде, вдруг ясно вспомнил, что и самого отъезда Власова не наблюдал. И не знал об этом с точностью, хотя по должности своей должен был!
– Счас глянем, – с готовностью согласился маляр. – А ты, Яшка, пока ведерко второе мне ближе к стене переставь. Поднимать сейчас буду, полное оно, не плеснуть бы краской…
Но поднимать второе ведро в тот день маляру Бабунову уже не пришлось. Осушив кистью первое, он аккуратно спустил его вниз, и, пройдя до края доски, долго вглядывался через стекло внутрь квартиры. И, наконец, рассмотрев все, трясущимися руками принялся отвязывать закрепленный конец самоподъемного устройства.
– Беги за полицией, дядя! – громким шепотом закричал он сверху. – Мертвячка лежит в квартире! Не шевелится, и вся подушка под головенкой в крови…
– Ты что, паря? Шутки шуткуешь с пьяных глаз? – рассердился было дворник. – Типун тебе на язык!
– Верно говорю – мертвячка! – уже в голос кричал маляр, торопясь поскорее спуститься на землю. – Посылай за городовым…
Выслушал Скородумов маляра неласково, и тут же на всякий случай потребовал предъявить паспорт – кто их разберет, пришлых работничков? Сегодня здесь, завтра там. С видимым сожалением убедился, что и паспорт есть, и дозволение на жительство в столице имеется. Первым делом поинтересовался – чегой-то маляр на стену полез ни свет ни заря? И сердито дергал усами, слушая пространные объяснения и про краску, и про то, что инструменты приходится у чужих людей держать, и про частые подряды на обновление фасадов. А насчет мертвого тела, при виде которого он только что с доски не свалился и руки дрожью дрожат до сих пор – верное дело! Бабунов даже перекрестился. Городовой всем телом к дворнику развернулся – что ты, братец, скажешь? Как допустил?
Дворник засуетился, подтвердил, что есть в квартире лицо женского пола, прислуга. Да только еще третьего дня должна была с барином, отставным чиновником Власовым, на дачу съехать. А вот съехали жильцы либо нет – дворник не знает, подвод мебельных не видел. Вот почтальону никто два раза не открыл, это точно! И дрова он, дворник, напрасно барину Власову вчерась поколол – дверь никто так и не открыл. Стало быть, съехали.
Все эти задачки настроение городовому испортили окончательно. Посулив мужикам отсидку в «холодной», Скородумов отправил дворника к управляющему за ключами, а сам, нещадно колотя по ступеням ножнами шашки, поднялся на третий этаж. Сначала покрутил звонок, потом загрохотал по двери руками – но никто не открывал. Наконец пришел дворник с ключами и свечкой, и в ее неровном свете острые глаза маляра, почтительно суетившегося за спиной городового, углядели под дверью, на ступенях и перилах темные пятна. Кровь!
Скородумов, перекрестясь, зазвенел ключами, выбирая нужный.
Наконец дверь распахнулась, и на площадку сразу выкатилась душная волна тления. Городовой поправил свечу и, велев остальным дожидаться на лестнице, шагнул в квартиру. Очень скоро там загремело, затопало, и бледный городовой, изрядно перепугав собравшихся на площадке жильцов, бегом выскочил из квартиры. Отдышавшись на свежем воздухе, Скородумов закрыл поплотнее дверь, загородил ее для верности спиной и махнул рукой обоим дворникам, жавшимся вместе с жильцами на лестнице:
– Дударов, ты поди-ка стань под окна сей квартиры, – распорядился он. – И ни шагу оттель! А ты, как тебя, духом в часть беги, расскажи там: два мертвых тела в фатере. Мигом!
Вскоре в Гродненский переулок прикатили две пролетки из полицейской части с сыщиками и двумя уголовными хроникерами, забредшими в часть еще с вечера в поисках свежих новостей для газет. В квартиру газетчиков, конечно, не пустили, дозволили только заглянуть в прихожую, наполненную тяжелым сладковатым смрадом, и в кухню – глянуть на убитую прислугу. После этого хроникеров не слишком деликатно выставили вон, и полицейские принялись за свою рутинную работу.
Едва закрытый полицейский возок увез трупы двух убиенных, как в переулок влетел, нахлестывая лошадь, лихач с известным, наверное, всему Санкт-Петербургу начальником Сыскной полиции столицы. Дворник Дударов вытянулся при виде начальства во фронт, городовой Скородумов лихо откозырял и доложил о происшествии, прибавив, что сыщики, судебный следователь Павлов и его письмоводитель уже в квартире и первый осмотр закончили.
Полицейская сыскная машина второй половины XIX века при отсутствии нынешных быстрых средств связи и передвижения была тем не менее удивительно мобильной. Так случилось и с убийством в Гродненском переулке: уже спустя час после обнаружения трупов сыщицкая команда выехала на место происшествия на дежурных при полицейской части извозчиках. Еще через полчаса об убийстве был поставлен в известность следователь окружного суда: предупрежденный посыльным из части. Он спешно выехал на место происшествия со своим письмоводителем. Сыщики же по дороге в Гродненский заехали за доктором. А на квартиру к Путилину, нахлестывая лошаденку, помчался лихач-доброволец: начальник Сыскной требовал, чтобы его немедленно ставили в известность обо всех неординарных преступлениях в столице.
Возле казенной квартиры Путилина, на Лоскутной улице, часто и днем и ночью вполне добровольно дежурили извозчики – несмотря на то, что по должности Ивану Дмитриевичу полагался служебный выезд с кучером. Казенных лошадей Путилин использовал только на запланированные выезды и в экстренных случаях. Ждать Иван Дмитриевич не любил, и когда его поднимали в ночь-заполночь по поводу серьезных преступлений, то всегда пользовался услугами извозчиков, «ванек» либо лихачей. Пока кучера Федора растолкаешь, пока он запряжет – так оно быстрее было.
В этот утренний час Иван Дмитриевич Путилин уже собрался было в канцелярию градоначальника, где ежедневно бывал с докладом о криминальных столичных событиях последних суток. Украдкой – его супруга терпеть не могла чтения за столом – он проглядывал свежие номера газет. У начальника Сыскной полиции, редко возвращавшегося со службы домой до полуночи, было свое расписания рабочего дня. В присутствии он появлялся обычно уже после полудня.
Путилинский конюх Федор, навесив на конские морды торбы с овсом и всласть наговорившись с дворником, совсем было нырнул уже в каретный сарай, однако, услыхав в конце улицы дробный топот копыт, приостановился. Ну так и есть: опять по душу его барина скачут!
– Куды прешь? – Федор попытался тяжелым брюхом оттеснить нахального извозчика от парадного. – Что за дело до барина?
Потыкавшись без толку в непреодолимое брюхо, извозчик вынужденно отступил. И, задрав бороденку к открытым форточкам второго этажа, нарочито громко, с расчетом проговорил:
– Двойное, сказывают, убийство! Пусти, не засти! Велено срочно Ивану Дмитриевичу доложить!
– Ты не ори! Говори, где убийство, да и ступай себе. Сам барина свезу, коли ему охота будет, – в последнее время Федор, чьими услугами пользовались крайне редко, начал всерьез опасаться своей очевидной ненадобности и конца тихой и спокойной жизни.
– Ты? Свезешь? – усмешливо, но на всякий случай отступив еще на шаг, спросил извозчик. – Да ты на лестнице, не дойдя, уснешь. Аль лопнешь от усердия – ишь, пузо наел на господских хлебах!
– Ах ты, сопля чухонская! – начал сердиться Федор. – Сказано тебе: сам свезу! Куда тебе со своей дохлятиной? Сказывай, где убийство случилось – и ступай себе.
Однако острый слух Путилина уже вычленил из перебранки под окном слово «убийство». Он скомкал салфетку, с большим облегчением отодвинул тарелку с отвратительной фруктово-овощной мешаниной, рецепт которой его супруга вычитала в модном разделе о правильном питании какого-то журнала, и подошел к окну. Рама чуть скрипнула, и в столовую вместе с гомоном голосов ворвался сырой ветер с Невы. Путилин громко откашлялся, спорщики как по команде подняли головы и сдернули шапки.
– Что разорались, людей нервируете? Где?..
– В Гродненском, ваше сиятельство! «Наружка» за следователем в евонную камеру поехала и туда. Дохтура должны привезть – отрапортовал извозчик. – Мне ждать, ваше сиятельство, или как?..
– Жди, я сейчас.
Извозчик с торжеством поглядел на барского кучера, выбил шапку о колено и с достоинством направился к своей лошади.
Через сорок две минуты Путилин уже поднимался по лестнице злополучного дома в Гродненском переулке.
– Ты обнаружил покойника? – не оборачиваясь, спросил топающего рядом городового Путилин. – Хорошо, не уходи пока никуда.
В квартире Путилин быстро прошел по комнатам, постоял там, где мелом были обозначены места расположения трупов. Снова обошел квартиру, изредка останавливаясь и приглядываясь к интерьеру, и, наконец, сел на диван в кабинете, где собралось большинство должностных лиц.
– Итак, господа, у нас два трупа по меньшей мере трехдневной давности, – Путилин начал ловко крутить из левой баканбардины косицу. – Неприятно, господа! Сегодня утром собирался докладывать господину градоначальнику об отсутствии сколько-нибудь серьезных происшествий – и на тебе. Да еще два-три дня тому назад! Александр Елпидифорович просто не поймет нашей нерасторопности, господа! Итак, что мы имеем?
Не считая Путилина, выше всех здесь был следователь окружного суда. Стало быть, и вопрос был адресован прежде всего ему. Почувствовав устремленные на него взгляды, следователь заметно смутился, долго откашливался, и, наконец, начал:
– Личности убитых установлены. Хозяин квартиры – некто Власов, отставной чиновник по медицинской части. Второй труп – прислуга Власова, мещанка Семенидова. Оба убиты холодным оружием. Прислуга – в кухне, хозяин – на диване в кабинете. У обоих перерезано горло – как говорится, от уха до уха. Под голову старухи убийца подложил подушку – по всей вероятности, чтобы кровь не натекла под половицы. Мужское тело так и осталось на диване, где предположительно и находилось в момент смерти.
– Вы полагаете, что убийца был один? – склонил голову Путилин.
– На обоих телах совершенно сходные раны – покраснев, объяснил следователь. – Убийца подходит к жертве сзади, обхватывает шею одной рукой, поднимает ей голову и наносит рукой удар ножом или кинжалом чуть выше левой ключицы. Жертва пытается вырваться и, сама того не желая, весом своего тела помогает убийце перерезать шею до правой ключицы. Почерк один, так что, полагаю, и преступник был здесь один.
– Убедили. Ну, а дальше что, голубчик?
– Вряд ли целью убийства было ограбление, – продолжил следователь. – Об этом свидетельствует оставшийся при покойном явно дорогой брегет на золотой цепочке. На кухне, в шкатулке, обнаружены деньги – очевидно, на хозяйственные нужды. В шкапу – несколько дорогих мужских пальто на меху. И вместе с тем…
– Что, голубчик? – подался вперед Путилин.
– Бюро и шкап для бумаг носят следы торопливого обыска. Кроме того, мы обнаружили на полу у бюро желтый портфель свиной кожи – полагаю, брошенный не хозяином. Портфель имеет следы пыли и извести. Уверен, что портфель стоял за шкапом – там обнаружился чистый от пыли прямоугольный участок пола и царапины от замочков на стене. Портфель пуст, однако на бюро в беспорядке свалены ценные бумаги и облигации, причем явно не хозяином-аккуратистом.
– Голубчик, а ну, поглядите-ка на моих сыскарей! Землю копытом роют, в бой рвутся. Вы скажите им только – куда бежать, кого искать, а?
– Я не фокусник, уважаемый Иван Дмитриевич! – снова покраснел следователь. – А предположения относительно розыска убийцы слишком расплывчаты. Я, например, склоняюсь к мысли о том, что покойный Власов, подобно многим отставным чиновникам, занимался ростовщичеством. Играл с огнем, как говорится – и доигрался. Нужно хорошенько порасспросить дворника, соседей Власова, просмотреть все бумаги покойного. Только тогда можно будет и конкретные указания к розыску вашим сыщикам дать.
– Верно рассуждаете, голубчик! – вздохнул Путилин. – Этим вы и займитесь – бумагами, соседями. Вам спешить некуда, вам к его высокопревосходительству Зурову с отчетом не ходить, на вас не станут ногами стучать и в неусердии обвинять… Значит, на сию минуту решительно никаких указаний к розыску дать не можете?
– Не могу-с…
– А квартиру внимательно осмотрели?
– Всю как есть, ваше высокопревосходительство.
– Угу. И вот то полотенце в углу видели? Кровь на обоих умывальниках видели? У входных дверей, на лестнице?
Почуяв подвох, следователь Павлов снова покраснел, сгорбился за столом и преувеличенно внимательно стал смотреть в бумаги.
– Так как же, голубчик? – не отставал Путилин.
– Раны широкие и кровеобильные. Убийца испачкался и наследил повсюду. Умывался, полотенцем кровь вытирал.
– А вы обратили внимание, голубчик, что кровь на полотенце несколько светлее, чем натекшая из ран жертвы? А капли на полу, у двери, на лестнице? Это не капли, а поток целый! С убийцы просто лило, извините, кровью! Это же как надо перепачкаться, чтобы с тебя до лестницы текло? И потом: умывальников два, а полотенце в наличии одно. Где же второе? Вряд ли господин Власов при жизни был настолько беден или скуп, чтобы иметь в доме на два умывальника одно полотенце… Эх, молодежь, молодежь! Ну-ка, молодцы, – Путилин повернулся к сыщикам. – Марш по окрестным аптекам! Выясните в ближайшей полицейской части адреса всех частнопрактикующих врачей в округе. Все это – в радиусе трех-четырех кварталов. Не найдете – расширим круг, весь Санкт-Петербург перетряхнем.
– Чего искать-то в аптеках да у докторов? – криво усмехнулся следователь.
– Не чего, а кого! Преступник в пылу борьбы с Власовым явно и сам порезался. Кровь артериальная, она светлее венозной. И хлещет сильнее. Одно полотенце в крови, второго и вовсе нет – о чем это говорит? Что рана у преступника серьезная, он наверняка обратится за медицинской помощью. Найдем место, где раненому медицинскую помощь подавали – глядишь, и полотенце второе всплывет. Его, конечно, могли и выбросить, но чем черт не шутит!..
Путилин еще раз окинул внимательным взглядом кабинет убитого.
– Часы настольные вон валяются на полу. Они от удара стали и показывает девять с четвертью. Утра или вечера? Ну-ка, голубчик, что скажете?
– Откуда же мне знать, Иван Дмитриевич? Сие знает только преступник, который, по вашему предположению, уронил эти часы.
– А вот я думаю, что это был вечер, голубчик! Видите – свечи в кабинете и на кухне? Догорели до конца. А кто ж с утра свечи жжет, а? Далее: На кухне остатки обеда, помойное ведро полное. На столике возле хозяйского дивана – рюмка с остатками мадеры и окурок сигары – не с утра же Власов вино хлестал и табачком «закусывал», а, голубчик?
Путилин подошел к входной двери и попытался наложить ладонь правой руки на кровавый отпечаток.
– Убийца явно выше и крупнее меня, как видите: моя ладонь в его отпечаток не ложится. Ищите, ребята. А ты, Жеребцов, по соседям иди. Попытай-ка их насчет приятелей и гостей Власова. Знакомый у него тут был, хороший знакомый! Разве постороннего человека допустят со спины подходить? Извините старика за урок, Платон Сергеевич – но глаза человеку дадены для того, чтобы смотреть. А не как антураж для модного нынче пенсне-с…
С досадой крутанув напоследок бакенбардину, Путилин, расстроенный невнимательностью следователя и необходимостью предстоящими объяснениями с градоначальником, вышел из квартиры и направился прямо в дворницкую под лестницей. А перед уходом мотнул головой, выпроваживая сыщиков.
– Ну-с, дворник, как тебя? Дударов Яков? Ага, Дударов. Как же ты, дорогуша, обязанности свои исполняешь, если не помнишь – кто к жильцам идет, кто выходит, когда они сами входят-выходят? А?
– Виноват, ваше превосходительство! Дом наш тихий, говорю, вот все дни в один и сливаются!
– «Сливаются»! Ну а жилец квартирный, Власов-покойник – он-то куда-нибудь обычно ходил? Или дома сиднем сидел?
– Почему сиднем? В сад ходил по хорошей погоде – это до обеда обычно. А после обеда спал немного, выходил редко очень, до кухмистерской Рябушкина дойдет или до аптеки – и обратно. Иногда и далече ходил, а куда – нам же не докладывают. Вот, говорил, погода установится – и на дачу съеду, душно ему тут, в городе было-с… И съехал вот, – дворник перекрестился, а вслед за ним перекрестилось и все его семейство.
– Двадцать пятого мая господина Власова видел?
– Не помню, ваше высокопревосходительство! – плачуще замотал головой Дударов.
– Не помнишь… Ну-ка, что в газетке про этот день писано было? Ага, не то, не про то… Во! А скажи-ка, братец Дударов, дождик когда последний раз был?
Дударов подозрительно, ожидая подвоха, покосился на представительного начальника сыска. И вдруг посветлел лицом, хлопнул картузом об пол.
– Вспомнил, ваше высокопревосходительство! Вспомнил – дай вам Бог здоровьица! Дождь ведь в тот день лил с утра. Господин Власов один раз только под ворота вышли, на погоду пожаловались: дождался, мол! Нет, мол, чтобы вчера на дачу съехать! Чего ж не съехали, спрашиваю? Дело есть, говорит, гостя сегодня жду. И вправду: приходил к нам в тот день офицер молодой. Затемно уже было…
– Офицер, говоришь? – насторожился Путилин. – Кто таков? Видел раньше?
– А как же, ваше высокопревосходительство! Он, почитай, редкую неделю не приходил, офицер этот. Старый знакомый господина Власова, как же!
– Хм! Офицер, говоришь? Молодой – а знакомый старый – нахмурился Иван Дмитриевич Путилин. – Чего несешь-то братец?
– Истинную правду, ваше высокопревосходительство! – Дударов для верности снова перекрестился. – Офицер этот господину Власову еще по прежней квартире, как я понимаю, знакомый: когда юнкером был и у господина Власова комнату снимал. Вот я и говорю – старый знакомый! Господин Власов его привечали, Карлом называли, а чаще Карлушей, как сродственника какого…
– А они не в родстве? – быстро спросил Путилин.
– Не могу звать, ваше превосходительство! Говорил мне как-то господин Дрейер, управляющий наш, что у господина Власова только и есть что брат. А так – ни жены, ни деток ему Бог не дал.
– Так, Дударов… Стало быть, приходил 25 мая Власову его бывший жилец-офицер? – покашлял Путилин.
– Приходил, ваше высокопревосходительство! Пришел как обычно, часов около шести. Только он в фатеру – прислуга господина Власова в лавку поковыляла: барин-де за лимонадом отправил. Все на ноги жаловалась, да ворчала: приспичило хозяину, дескать…
– Странно, братец! – Иван Дмитриевич Путилин снова взялся за свою левую бакенбардину, и вскоре, к восторгу Петьки, лицо начальника сыска украсила вполне настоящая, хоть и короткая, косица.
Заметив внимание мальчишки к своей внешности, Путилин чуть сконфузился, косицу тут же расплел, бакенбарды расчесал, посуровел лицом и продолжил:
– Странно все-таки, братец! Ты старухе-страдалице на дороге попался – почему она тебе, к примеру, поручения сего не передала?
– Не могу знать, ваше высокопревосходительство! Я-то предложил Семенидовой сбегать в лавку заместо нее – потому как завсегда жильцам услужить готов. Дык ведь насильно мил не будешь, верно? Отказались она: может, на чаек пожалела дать… Охала, ворчала Семенидова, упокой, Господь, ее душу. И сама в лавку поковыляла.
– Так-так! – Путилин с силой потер лоб. – А когда офицер окончательно уходил – видел его?
– На часы не смотрел, ваше высокопревосходительство! – Дударов опять подпустил в голос плачущие нотки. – Слышу, сапогами стучат – ну и высунулся из окошка. Смотрю – офицер уходит. Со спины его видел – шинель внакидку, сапоги – он!
– Ладно, Бог с тобой, Яков. Толку от тебя самая малость, как посмотрю. Ну-ка, о Семенидовой мне расскажи лучше, хозяюшка, – Путилин повернулся к доселе молчавшей дворничихе. – Что она? Как? Не из кликуш? И в тот вечер – после того, как за лимонадом сходила – сразу к себе поднялась? Или как?
Расчет Ивана Дмитриевича Путилина был таков: ввести в разговор перепуганную насмерть дворничиху. Кому, как ни ей, знать все домовые тайны, тщательно оберегаемые обычно прислугою – тем более пожилой.
Расчет оказался верным: поначалу Анна Семеновна, судорожно вцепясь в руку сынишки, только тихонько подвывала и хлюпала носом. Но у Путилина было великое терпение и оригинальная метода общения с разными людьми. Успокаивая дворничиху, Иван Дмитриевич вдруг жестом фокусника достал из пустой вроде шляпы и ловко вручил взвизгнувшему от счастья мальчонке незамысловатый леденец на палочке. Глядя на осчастливленного сынишку, дворничиха понемногу успокоилась.
– Так что, голубушка, с Семенидовой этой? Забегала, поди, к вам в дворницкую – или просто поговорить останавливалась? Что она за человек-то? Ты же у нас наблюдательная, как и муж по должности, – польстил Путилин.
Мало-помалу дворничиха разговорилась. Впрочем, и тут Путилин выяснил немногое – но весьма исчерпывающее. Прислуга Семенидова была обычной бедной старушонкой, взятой в услужение состоятельным дальним родственником по мужской линии. Религиозный фанатизм Семенидовой (хождение на богомолье) подтверждения не нашел – во всяком случае, в отношении кликушества и прочих крайних проявлений характера, влекущих за собой подозрительные знакомства. Службой своей Анна Семенидова была премного довольна. Часто поминала, что ради нее, как родственницы, господин Власов отказал от места прежней прислуге, проработавшей ранее у него три или четыре года.
Жизнь надворный советник, ныне покойный Власов, вел трезвую, тихую и степенную. Проснувшись, имел обыкновение вставать сам. Одевался, умывался, даже платье сам чистил. Ждал со стаканом кофея (или чая – по погоде и настроению) почтальона. Листал календарь, читал газету. Если погода была ясной, то, отдав распоряжение прислуге насчет обеда, ненадолго выходил прогуляться. Если моросил дождь, то дремал в кресле у окна.
Из всех родственников Власова дворничиха упомянула брата Петра – заштатного преподавателя гимназии где-то в российской глубинке. Брат был беден – и, как положено, присылал Власову поздравительные открытые письма на Пасху и Рождество Христово. Надворный же советник, без всякой «поздравительной ерунды», «отвечал» брату скромными денежными переводами. Квитанции сохранял – более того: на особую бумажку выписывал суммы сделанных им пожертвований. Чем старуха Семенидова и была неоднократно обижена: хозяин не делал разницы между рублем, пожертвованным неизвестному студенту на улице и таким же рублем, но подаренным ей, дальней родственнице, по случаю какого-то праздника.
Относительно офицера выяснилось: Власов, своих деток не имеющий, очень был привязан душой к молодому человеку, приехавшему несколько лет назад в Петербург поступать по военной части и случайно набредшему на билетик во власовском окне, еще на прежней его квартире. Сдав молодому человеку комнату, г-н Власов, по его же словам, долго к нему присматривался.
– Немчура ведь! – вставил дворник.
Но в конце концов Власов к постояльцу душой потеплел, следил за его карьерой, экзаменами на офицерский чин. Ждал весточек от него, когда молодой офицер уехал на войну в Туркестан, а потом и на турецкую войну. Долго не хотел менять квартиру – «вот, мол, Карл вернется – а меня нету!» Очень был обрадован надворный советник, когда офицер, вернувшись с войны награжденным, навестил его. Хвастал Егор Алексеевич орденами подопечного, как своими собственными. Велел своему знакомому Флерову, у которого квартировал до получения казенного жилья офицер, оказывать ему всяческое уважение – когда тот, по старой памяти, запанибрата попытался было с ним держаться.
Офицер приходил к Власову два-три, много – четыре раза в месяц. Каждый раз жилец непременно провожал его – либо до входной подъездной двери, либо до ворот, по погоде. Расставались очень приязненно, по-родственному. К отставному надворному советнику гости нечасто, но все же ходили – ни одного из них он не отмечал так, как этого офицера.
Путилин, слушая все это, быстро терял к офицеру профессиональный интерес. Но все же поинтересовался: а в тот вечер Власов провожал своего гостя? Дворничиха развела руками: не заметила. Дождь ведь лил, а у нее еще, как на грех, зубы на погоду разболелись, прилегла к печке и задремала.
– Значит, подозрительных знакомых у вашего покойного жильца так и не было? – подал голос с порога незаметно спустившийся судебный следователь. – Ну а кого вообще еще можете назвать?
Получив отрицательный на сей счет ответ, следователь уныло втянул голову в плечи и покосился на Путилина: вот оно, мол, как бывает…
Тот же, хмурясь и покусывая нижнюю губу, стал собираться. Дворника похлопал по спине, мальчишку потрепал за вихры. Со следователем Иван Дмитриевич попрощался за руку, пару оставшихся сыщиков поманил за собой и что-то сердито выговорил им уже на улице. Сел в коляску дожидавшегося лихача – и уехал.
Скоро на подмогу сыщикам из полицейской части прибыло подкрепление из личного, как считалось, резерва начальника Петербургского сыска. Поиск человека с порезанной, как предполагалось, рукой, закипел. Начали искать и офицера, благо тут след был: один из сыщиков пошел по старому адресу Власова, и из домовой книги в тамошней полицейской части быстро установил, что его знакомцем был прапорщик Саперного лейб-гвардии батальона Карл Христофорович фон Ландсберг. Однако найти и расспросить его не удалось: как сообщили в казармах Саперного батальона, прапорщик Ландсберг 26 мая испросил у командира краткосрочный отпуск по случаю болезни матери, и выехал по железной дороге в свое имение куда-то в Ковенскую губернию.
* * *
А 1 июня в камеру к судебному следователю Павлову вихрем, без доклада, ворвался один из путилинских «резервистов» – агент Жильцов. Оказалось, что в аптеке Фридлендера, что у Каменного моста, с уверенностью вспомнили, что поздним вечером 25 мая подавали медицинскую помощь… саперному офицеру, по приметам схожему с фон Ландсбергом!
Из рапорта сыскного агента следовало, что к Грингоффу (так звали младшего провизора аптеки, дежурившего в ту ночь) обратился офицер, правая рука которого была обернута окровавленным платком. Размотав его, Грингофф увидел глубокую резаную рану у основания двух пальцев – мизинца и безымянного. Судя по артериальному кровотечению, рана была глубокой и требовала хирургического вмешательства. О чем Грингофф, оказывая первую помощь, и заявил офицеру. Он наколол льда, завернул его в салфетку и дал офицеру жгут – предупредив, что долго им пользоваться нельзя. Грингофф также сообщил офицеру адрес ближайшего частного доктора и даже разбудил мальчишку-рассыльного, чтобы тот проводил офицера – но офицер отказался. И, поблагодарив, уехал. Рану свою он объяснил собственной неосторожностью: вставлял-де саблю в ножны и порезался. Лично он, Грингофф, считает подобное объяснение неубедительным: саблей, скорее, можно было порезать левую руку, придерживающую ножны.
С этим судебный следователь Павлов и отправился в казармы Саперного батальона. Там он прежде всего разыскал военного доктора, который подтвердил, что в ночь с 25 на 26 мая подавал помощь делопроизводителю батальона прапорщику фон Ландсбергу.
На штатского следователя доктор Мартов смотрел с плохо скрытым пренебрежением, и когда Павлов поинтересовался: не вызывали ли у военного медика, человека, понимающего толк в ранах, сомнения по поводу объяснений Ландсберга, только фыркнул. На службе, милостивый государь, все бывает, мол!
Дома следователя поджидала телеграфная депеша от самого Путилина: он срочно приглашал того к себе на Казанскую, в присутствие.
Про ранение знакомца Власова, сапера Ландсберга начальнику сыска доложить уже успели. Очень заинтересовался Путилин и бумагами, которые следователь нашел в изъятом архиве покойного Власова. Иван Дмитриевич велел подать всем чаю с бубликами и быстро просмотрел эти бумаги.
Из записей Власова следовало, что Карл фон Ландсберг сделал у него более полугода назад заем на сумму 5 тысяч рублей – в виде ценных бумаг. А в начале нынешнего года – новый заем в 4 тысячи, уже наличными – для чего Власов продал два своих заемных билета по 2 тысячи рублей. По поводу обеспечения заемных сумм стояла пометка Власова: «прост. расписка». Срок возвращения обоих займов был определен по первому требованию.
Кроме того, был найден черновик поздравительного письма. Судя по тексту – письмо приготовлялось Власовым ко дню бракосочетания Карла фон Ландсберга. В этом письме отставной надворный советник с торжественностью сообщал, что в качестве подарка новобрачному преподносит ему погашенный вексель на сумму девять тысяч рублей. Даты в черновике письма не было.
Нашел Павлов и завещание Власова, в котором тот единственным своим наследником и душеприказчиком называл опять-таки Карла фон Ландсберга. Ему же было вверено оказание посильной финансовой помощи семейству брата Власова – не менее ста рублей в год. Наследство покойного заключалось в ценных бумагах на сумму около сорока тысяч рублей.
– Ну, что вы обо всем этом думаете? – поинтересовался Путилин, возвращая бумаги следователю.
– Дарственная и завещание у меня никак «не пляшут», – пожаловался следователь. – А так все вроде ясно: Ландсберг занял у Власова крупную сумму, отдать не смог. Пришел к старику просить отсрочки, а тот отказал. Ну Ландсберг его и того… со старухой вместе. Но проклятые дарственная и завещание, повторяю, меня смущают. Ладно, Ландсберг про них мог и не знать. Но Власов-то знал, что прощает ему долг! Зачем ему в тайне сие держать? Ну а все остальное вполне вписывается в схему. Аптекарь, не сомневаюсь, опознает Ландсберга: подобных совпадений, извините, не бывает! Болезнь матери? Чушь! Убил и уехал от греха подальше ждать, пока все уляжется. Вот увидите!
– Ну а длительное знакомство Ландсберга с Власовым вас не смущает? Их добрая дружба, теплые отношения? Жили-жили душа в душу, и вдруг – бах, ножом по горлу?
– Смущает, ваше высокопревосходительство, – согласился следователь. – Но что делать – улики-то больно тяжкие.
– Что думаете делать, господин следователь? – перешел на официальный тон Путилин.
– Ехать в Ковенскую губернию и арестовывать Ландсберга! – пожал плечами следователь.
– Воля ваша, – Путилин постучал пальцами по столешнице и начал в который раз терзать свою бакенбардину. – Хочу только предостеречь вас, мил-человек: арест офицера-гвардейца из славного батальона под высочайшим патронажем – это вам, батенька, не фунт изюму! Шум-то, представляете, каков будет? И не дай Бог что – от вас же мокрого места не останется! Кстати: а вы знаете, на ком должен был жениться фон Ландсберг?
– На девице, поди! – усмехнулся следователь.
– Вот вы смеетесь, голубчик! И напрасно! Девица девице рознь! – вздохнул Путилин. – На дочери графа Эдуарда Ивановича Тотлебена, одного из царских фаворитов! Она же – фрейлина двора Ее императорского величества!
Павлов, допивая чай, от неожиданности проглотил дольку плавающего в стакане лимона, поперхнулся и долго кашлял под выразительным взглядом начальника Петербургского сыска.
– И что же теперь делать? – упавшим голосом спросил наконец Павлов.
– Исполнять свой долг. И не пороть горячку! – поднял палец Путилин. – Пару толковых сыщиков я завтра же курьерским поездом отправлю в Ковенскую губернию: пусть осторожно, издали понаблюдают за нашим гвардейцем. Далее: вместе с расписками Ландсберга из портфеля Власова исчезла и часть ценных бумаг. Сегодня же отправить людей по банковским конторам и меняльным лавкам. К командиру батальона, князю Кильдишеву, завтра съезжу сам, предупрежу осторожно об имеющемся подозрении. Сегодня же вечером или завтра утром проведем на квартире Ландсберга литерное мероприятие номер один – не желаете ли поучаствовать?
– Негласный осмотр помещения? Пожалуй, стоит…
Ретроспектива-1
…Он не был в своем поместье больше двадцати лет – с тех самых пор, когда слякотной осенью 1872 года был увезен старшим братом в Санкт-Петербург и стал вольноопределяющимся в саперном батальоне. Уехал – и словно вынул свою семью из сердца и положил ее на некую дальнюю пыльную полку. Карл много раз размышлял об этом.
Удивительное дело, думал он. Поразительно: он уехал из дома с отчетливым чувством великого облегчения. Так покидают чужой дом необласканные судьбой и людьми пасынки, с подобным чувством прочь и навсегда уезжает от постоянных попреков куском хлеба дальняя родня хозяев.
«Почему в доме Ландсбергов было принято холодное вежливое внимание старших к младшим – и не более, – часто размышлял Ландсберг. – Может, окончательное разобщение семьи произошло в год смерти отца? Скорее всего – да… Отец, при всей его отстраненности от домашних дел, при всей своей молчаливости был, наверное, единственным стержнем. Стержня не стало, и семья распалась на самостоятельные звенья. Они не отталкивали друг друга, но и взаимного притяжения тоже не было».
Но почему же тогда, после страшного вечера 25 мая 1879 года, убив двух человек, он все же ринулся домой, к семье? Он и сам этого не понимал – до сих пор!
Старший брат Генрих, сколько себя помнил Ландсберг, со своей юности занимался хозяйством еще при жизни отца. Он был тут и хозяином, и управляющим, и бухгалтером, и инженером, и главной рабочей силой. Генрих всегда был при деле, даже по большим праздникам. Единственное, что он изредка позволял себе, так это посидеть полчаса со стаканом грога у камина в большой столовой – и то на коленях у него всегда был толстый хозяйственный гроссбух.
Многие в округе были уверены, что Ландсберги – сказочные богачи и редкостные скряги одновременно. Что у них где-то зарыты сундуки с золотом. Карл знал, что это не так. Он убедился в этом, когда в семье встал вопрос о жизни и смерти умирающего отца. Сельский доктор, по просьбе Генриха, устроил у ложа больного консилиум, пригласив именитого коллегу из Вильно и даже какое-то светило медицины из Санкт-Петербурга. Консилиум вынес вердикт: старого Ландсберга может спасти только солнце Италии и последующее лечение на водах.
Генрих нахмурился и спросил:
– Это точно спасет его?
Медики и сами не были уверены в своем вердикте. Они долго говорили о рискованности прогнозов в медицине, о непознанных возможностях человеческого организма, о воле Божьей. Но Генрих не отступал: сколько шансов выздороветь у отца? И в конце концов вырвал у докторов неохотное признание.
– Отец, доктора говорят, что тебя может вылечить поездка в Италию и лечение водами. Шансов немного – я понял, что примерно три к десяти. Скажи мне, что делать? Чувствуешь ли ты в себе силы? Нам придется продать молотилку или отдать деревенским мужикам всю землю за оврагом…
– Не говори ерунды, Генрих! – Ландсберг-старший сумрачно поглядел на первенца. – Двух твоих сестер никак не удается выдать замуж, они вот-вот окончательно станут старыми девами. И Карл растет – вам всем еще пригодятся и молотилка, и земля за оврагом. Даже если доктора дали бы мне полную гарантию выздоровления, я бы не стал вводить семью в такие расходы, Генрих! Лет пять-десять назад – возможно, да. Но не сегодня! Да и волю Господа нашего нельзя со счетов сбрасывать. Если он решил меня прибрать – приберет и в Италии. Прочь сомнения, Генрих! Помни: Ландсберги решают что-то только один раз – и назад не оглядываются. Иди к докторам, поблагодари их за честный ответ, расплатись с ними – и пусть Бог решает мою судьбу! Иди, Генрих!
Через два месяца отец умер. Уездный гробовщик, ловко обмерив покойника, быстро оценил скромную обстановку в имении, и, шмыгая носом, предложил Генриху смету похоронных расходов по невысокому разряду. Тот подумал и покачал головой.
– Нет, герр Мюллер, гроб я попрошу у вас не этот, а самый лучший. И похороны по первому разряду, – он поймал осуждающий взгляд матери и повторил. – Все по высшему разряду! Мы можем себе это позволить…
Вдова только вздохнула, подчиняясь воле старшего сына. Младший, Карл, как и две его сестры, права голоса в этом доме не имел. Да если бы ему и позволили высказать свое мнение – что он мог сказать? Он много раз видел похороны, и знал, что люди обычно придают большое значение тому, как именно будет похоронен покойник. То, что похороны отца пройдут, на радость гробовщикам, по первому разряду, наполняло его сердце своеобразной гордостью. Значит, будет четверка белых коней с черными плюмажами, молчаливые люди в белых цилиндрах и таких же широких плащах до самой земли. Будет торжественно-нарядный катафалк, который отвезет тело отца на лютеранское кладбище и вернется в город уже без него…
Ни горя, ни тяжести от потери близкого человека мальчик не испытывал. Сколько он помнил себя – отец ни разу не приласкал его, почти не разговаривал ни с ним, ни с сестрами. Христофор Ландсберг, потомок крестоносцев, считал, что только так и нужно воспитывать детей. Карл мог припомнить один-единственный знак внимания, который уделил ему отец.
Это было почти случайностью. Накануне в доме были гости – похожие на отца суровые старики, не обращающие на молодежь никакого внимания. Изрядно подвыпив, один из гостей, хвастаясь силой рук, завязал в узел каминную кочергу. Старики смеялись, когда Христофор Ландсберг, крякнув, без труда развязал этот железный узел и сложил кочергу наподобие складного метра, которым пользовался в мастерской.
На следующее утро Карл, встав пораньше, нашел изуродованную кочергу и попытался ее разогнуть. Он пыхтел, помогал себе коленом и не заметил, что отец, бесшумно зайдя в столовую, несколько минут с холодным интересом наблюдал за ним. Потом отец кашлянул, и Карл испуганно вскочил на ноги, как будто сотворил невесть какую шалость.
– Хочешь быть сильным, Карл? – спросил отец. Он тяжело опустился в кресло, жестом подозвал младшего сына, поставил перед собой и ощупал его шею, руки и плечи твердыми, будто из дерева, ладонями. – Тебе уже 14 лет, у тебя широкие кости, крепкая шея и спина. Да, ты можешь быть сильным. Таким же, как был Иоганн Ландсберг, твой предок. Его еще называли Каменным Иоганном, или Скалой. Он пришел на Русь с берегов Рейна, да так и остался здесь, получил службу у русских князей. Говорят, что он одним ударом меча мог перерубить пополам лошадь в доспехах… Хочешь быть таким же сильным, Карл?
– Я не знаю, отец… То есть хочу – но это, наверное, невозможно.
– Пойди в нашу кузницу, скажи Вильяму – я велел! – дать тебе железные прутки разной толщины для укрепления силы рук. Гни их каждую свободную минуту. Перетаскай камни со старой мельничной запруды – по одному в день, не больше! Помнишь – там же лежит старый мельничный жернов от сгоревшей мельницы?
– Да, отец.
– Когда ты сможешь затащить этот жернов на холм, ты станешь таким же сильным, как Каменный Иоганн. А сейчас иди…
По сути дела, это был самый длинный разговор Христофора Ландсберга с сыном. Старик никогда больше не возвращался к этой теме. Не интересовался – ни тем, как Карл ежедневно гнет и разгибает железные прутки, ни как таскает камни, ни как день за днем пробует силы на мельничном жернове.
К шестнадцати годам Карл мог повторить «фокус» с кочергой, но мельничный жернов был ему неподвластен. Уже когда отец умер, Генрих как-то неожиданно спросил у младшего брата – для чего тот часто возится с тем жерновом? Выслушав Карла, хмыкнул:
– Если хочешь справиться с жерновом, сначала подкопай его так, чтобы можно было катить… Впрочем, ты все равно не успеешь этого сделать – через неделю-другую ты закончишь гимназию и мы поедем с тобой в Санкт-Петербург.
– Зачем, Генрих?
– Отец мечтал увидеть тебя военным. Так оно и будет. Я не сумел получить чин офицера: поместье требовало и требует слишком много финансов, времени и сил. Ты ведь хочешь стать военным, Карл? Офицером?
– Кавалеристом? – с надеждой посмотрел на брата младший отпрыск Ландсбергов.
– Хм… Гвардейская кавалерия – это, конечно, очень красиво. Но слишком дорого для нашей семьи, я наводил справки. Да и какая польза в том, чтобы уметь сидеть на коне и участвовать во всяких парадах и смотрах? Я думаю, что военная профессия должна тебе дать что-то такое, что всегда в жизни пригодится. Чем плохо, Карл, быть военным инженером? Уметь не только разрушать, но и строить?
Карл разочарованно пожал плечами: инженером так инженером. Спорить он не стал: младшие в семье Ландсбергов никогда не спорили со старшими, а беспрекословно подчинялись им.
– Да, я верю в тебя, Карл! – Генриха, очевидно, все больше и больше захватывала его задумка. – К тому же и преподаватели в гимназии, и школьный инспектор хвалят тебя. Ты не лентяй, Карл, ты сделаешь замечательную карьеру, и в семье Ландсбергов будет свой инженер-генерал. Мы небогаты, ты знаешь, Карл. И твоя карьера не будет быстрой. Зато это будет твоя карьера. Ты согласен?
Последний вопрос был излишен. Генриха интересовало не согласие Карла с его выбором, а лишь принятие или непринятие логики его рассуждений. Логика была безупречной, с ней было трудно не согласиться. И младший из рода Ландсбергов стал постигать ремесло военного сапера.
* * *
До своего шестнадцатилетия Карл дальше уездного городишки Шавли не бывал. И когда старший брат и глава семьи Генрих повез его в Санкт-Петербург, Карл едва не пошел на попятную от величия столицы!
Петербург был подавляюще мрачен и высокомерен. Серые громады домов, холодная пустота площадей и дневные сумерки улиц-ущелий словно говорили робким провинциалам: вы здесь чужие! Чужие. Чужие… Чужими были братья Ландсберги и на шумных, оживленных улицах и проспектах, заполненных куда-то спешащими столичными обитателями. И на неспешном променаде по солнечной стороне Невского проспекта, подавляющем своей широтой и помпезностью, где люди никуда не спешили, они тоже были чужими…
Наметанный глаз петербуржца – будь то мастеровой или щеголь-аристократ – мгновенно, по покрою одежды, по напряженности походки, предупредительности в уступании дороги определял чужаков, и, как правило, более ими уже не интересовался. Во время первой прогулки по столице Карл несколько раз ловил себя на детском желании взять брата за руку. Он даже раз заикнулся брату про извозчика, в экипаже которого можно было бы спрятаться от холодно-насмешливых взглядов – однако извозчика Генрих не взял из экономии.
В Петербурге и сам старший брат стал каким-то чужим, открылся мальчишке с незнаемой доселе стороны. Куда делась его спокойная уверенность хозяина большого поместья – здесь он суетился, сделался многословен, и даже походка его потеряла провинциальную уверенность. Еще больше брат растерялся, когда давно осевший в столице земляк твердо заявил, что шансов сдать вступительные экзамены в училище у юного провинциала немецких кровей нет.
– Не тратьте время, – бурчал земляк сквозь клубы дыма из короткой трубки. – Мальчик лютеранской веры? Ну и что же ты хочешь, Генрих? Неужели ты никогда не слышал о триедином принципе сегодняшней России – «один царь, один язык, одна вера»… Ну посуди сам, Генрих: если добрая пятая часть всех учебных занятий юнкеров составляет, как мне доподлинно известно, православный Закон Божий, о чем тут говорить? Где быть мальчишке-немцу во время этих уроков – в коридоре, что ли? Максимум, на что могут рассчитывать инородцы в России – это школы вольноопределяющихся. Но и там, каким бы умным ни был мальчик, он закончит только по второму разряду. То, что русским будет даваться легко, немцу в России приходится отвоевывать с боем!
– Но это же несправедливо!
– Ха! Побойся Бога, Генрих! О какой справедливости ты говоришь? Скажи-ка, будь ты фельдмаршалом и набирай войско в поход – кому бы ты отдал свое предпочтение? Наверное, тем, кто предан тебе и твоей вере душой и телом. Как ты поручишься за солдат, которые имеют своего Бога и молятся по-другому? Радуйся, по меньшей мере, тому, что мы не поляки, не чухонцы и не евреи. С теми разговора в русской столице нет вообще! Конечно, ваш дворянский род достаточно знатен и славен – но кому сегодня в России нужна чья-то былая слава?
– Ну а если?.. – брат понизил голос и выразительно потер указательный и большой пальцы левой руки.
– Мзду обязательно возьмут, – хохотнул земляк. – Но взамен ты все равно ничего не получишь!
В правоте земляка Карл убедился через несколько дней, когда по настоянию упрямого брата все же держал вступительные экзамены в Николаевское инженерное училище. Генрих рассудил, что наплыв аристократов в учебное заведение, где больше учат делу, а не танцам, будет ниже, нежели в кавалерийское или артиллерийское. За столом напротив Карла, кроме преподавателя, сидел и православный священник с добрым бородатым лицом. Преподаватель, впрочем, тоже не выглядел свирепым драконом – часто кивал, одобрительно щурился на кандидата в юнкера и даже похвалил его познания в области древнейшей истории. Однако в экзаменационной ведомости, вывешенной на следующий день в гулком вестибюле Инженерного замка, напротив фамилии Ландсберга все равно красовалась унылая и совсем не счастливая семерка. Семь баллов из двенадцати возможных – в списке счастливцев, выдержавших приемные экзамены, свою фамилию можно было и не искать!
– Ничего, Ландсберги никогда не оглядывались! – утешал младшего брата Генрих. – В чем дело, в конце концов?! Ты пройдешь весь курс вольноопределяющегося, зато потом, став офицером, будешь посмеиваться над неженками из юнкерских училищ.
Карл слушал, и ему казалось, что брат больше утешает себя, нежели его. Через три дня Генрих уехал, оставив Карла в присутствии казарм лейб-гвардии Саперного батальона, где тому и предстояло в течение двух с половиной лет постигать премудрости военной профессии.
Впрочем, первую премудрость ему пришлось постичь буквально в первый день. То ли старший брат что-то не понял, то ли произошла какая-то армейская неразбериха – однако уже в полдень выяснилось, что число мест в казармах для вольноопределяющихся меньше, чем самих «вольноперов». И тем, кто не попал в списки, придется все время обучения жить на съемных квартирах за свой счет.
Фельдфебель, сообщивший юношам эту новость, поинтересовался – все ли господа вольноопределяющиеся имеют в Петербурге жилье либо родственников? Не имеющим после обеда было предложено свободное время для поисков комнаты – причем фельдфебель подчеркнул, что в их же интересах найти жилье поближе, ибо занятия у «вольноперов» начинаются в 7:30 утра, а до этого времени нужно еще успеть переодеться в форму и позавтракать.
Кто-то спросил – а к чему каждый день два раза переодеваться? Раз им выдадут форму, значит, в ней можно будет ходить и на занятия, и домой…
– Забудьте об этом, господа вольноопределяющиеся! – трубил фельдфебель, отбивая такт речи ударами кулака в ладонь другой руки. – Форма гвардейского сапера ко многому обязывает! Прежде вам нужно научиться ценить ее, чистить и содержать в порядке. Выход в город в форме – все равно что первое причастие! Это надо заслужить!
* * *
…Карлу Ландсбергу повезло. Выйдя на поиски жилья из Саперного переулка, где находились городские казармы батальона и, не пройдя и трехсот шагов, юноша обнаружил переулок, более похожий на прорубленную меж высоких домов щель. Переулок назывался Басковым, и Карл свернул в него, от души надеясь, что ему удастся избежать расспросов сурового обличья дворников, дремавшим в каждой подворотне. При звуке шагов эти мрачные фигуры оживали, начинали шаркать метлами и глядели на всякого прохожего, нарушившего их уединение и дрему, с явным неудовольствием.
К счастью Карла, уже в крайнем окне второго с угла дома он углядел вожделенный билетик:
«Сдается комната для одинокого холостого господина».
Шаркнув ногой перед вышедшей на звонок старухой и покраснев, Карл заявил, что желает знать условия сдачи комнаты внаем. Старуха, однако, начала расспрашивать юношу – кто он да откуда, да за какой надобностью ему понадобилась комната в этом тихом переулке. Хмурясь, она пытала: нет ли у искателя жилья многодетных родственников, и не учится ли будущий жилец игре на каком-либо музыкальном инструменте?
Расспросы старухи прервал незаметно подошедший невысокий толстенький господин в шинели с пуговицами медицинского департамента и свежими газетами под мышкой. Он и оказался хозяином квартиры, вернувшимся с утренней прогулки отставным надворным советником Власовым.
– Юнкер? Будущий сапер? Похвально, молодой человек, весьма похвально! Я беру по полтора рубля в месяц летом и по два рубля зимой, ввидах необходимости отопления в холодное время. Вас такие условия устраивают, молодой человек? Впрочем, иных вы в наших «палестинах» и не сыщете! Пойдемте, посмотрите комнату. Только учтите: в случае найма я беру с постояльца оплату за два месяца вперед!
Шагая следом за Карлом, хозяин выпытывал: может быть, господин юнкер стеснен, по молодости лет, в средствах? Извольте, в таком случае он выразил готовность сбросить двугривенный с квартплаты и из «дровяных» пятачок. Ах, «вьюнош» может позволить такую плату? Ну, как угодно, как угодно!
Сжимая в кармане пятирублевую ассигнацию, оставленную ему братом до следующей оказии, Карл ужасно стеснялся разговорчивого хозяина и самих разговоров о деньгах, и уже начал отвечать по-военному – «так точно» и «никак нет!», чем привел хозяина в восторг. Старуха-прислуга была отправлена за свежими булками к чаю, в кухне зашумел самовар, а Власов продолжил расспросы, попутно сообщая сведения о себе и соседях.
Выяснилось, что Власова зовут Егором Алексеевичем, что он холостяк, а своих деток ему Бог не дал. Что он двадцать лет прослужил по медицинской части, в Аптекарском департаменте, и вот уже два года в отставке. Старуху-прислугу Семенидову он, хозяин, зовет Шуркой, однако молодому человеку лучше называть ее Александрой.
Повыспросив Карла обо всем на свете, отставной чиновник выразил надежду, что тот оценит его дружбу и добрые отеческие советы. Старухе в присутствии Карла было велено прислуживать молодому барину столь же усердно, как и хозяину. Семенидова молча поклонилась, поджала и без того тонкие губы и ничего не сказала.
Он походил по комнате, которая стала его первой – пусть даже временной – собственностью. Попробовал, как задвигаются занавески, посидел на краешке кровати, понюхал зачем-то подушку и решил выйти прогуляться. Во-первых, ему обязательно нужно было купить будильник, без которого вставать по утрам в шесть часов представлялось ему просто невозможным! Во-вторых, надо было произвести разведку окрестностей чужого города. В-третьих, купить бумагу, конверты и письменные принадлежности, без которых вольноопределяющийся решительно не может готовиться к занятиям!
Все эти веские и радостные аргументы «за» перечеркивало одно гаденькое сомнение финансового свойства. Из оставшихся от братовой пятирублевой ассигнации двух рублевок одну, следуя поучениям квартирного хозяина, вообще-то надлежало отдать прислуге, Шуре-Александре. На чаек-сахарок да на мытье сапог, как весело упомянул Власов. Утром и вечером чаю попить, конечно, следовало – но оставаться в Петербурге с одним-единственным рублем было страшновато.
Единственным финансовым резервом фон Ландсберга оставалась трехрублевая ассигнация, потихоньку от старшего брата подсунутая Карлу сестрицей Марго. Но это были действительно последние деньги, которые следовало беречь до крайней надобности.
С другой стороны, рассуждал Карл, надо непременно написать родным письмо и сообщить про вольную квартиру и связанные с этим финансовые проблемы. Опять же – бумага, чернила и карандаши. А булки или пироги к вечерним чаепитиям? Не хлебать же один чай с сахаром вприкуску?! Решено: он отправляется за покупками, меняет трехрублевую ассигнацию, а один из оставшихся рублей прячет на самое-самое дно сундучка, с которым приехал сюда.
Объявив старухе, что собирается немного погулять и осмотреться, Карл выскользнул за дверь и оказался на свободе.
Насчет места приобретения будильника и писчебумажных товаров ему охотно растолковал здешний дворник, совсем еще молодой мужик. Узнав, что Карл – новый квартирант надворного советника Власова и будущий офицер, дворник Матвей почтительно снял шапку и подробно рассказал о дороге, шевеля для наглядности пальцами.
– Как дойдете до угла, тык налево вашей милости, два квартала до улицы Бассейной. Опосля – на праву руку – и прямком до Литейного проспекта. Там и лавки всякие имеются. Ну а коли ваша милость не найдет потребного, то по Литейному вниз опять надо. Как пройдете «Вшивую биржу», так Невский проспект и будет. А уж там товару! – Матвей, изображая сладкий ужас от количества имеющихся на Невском товаров, прижмурился, затряс головой и тут же без стеснения попросил: – На чаишко бы с вашей милости! На счастье вам, да на радость мне…
– Вечером дам, Матвей. Нету сейчас мелких, – поражаясь сам себе, солидно ответил юноша и тут же поинтересовался: – А почему улица так странно называется – Бассейная? И что за «Вшивая биржа» такая?
Дворник, ничуть не раздосадованный отказом в чаевых, подробно объяснил молодому барину и про Басков переулок, названный так в честь богатейшего купчины, имеющего здесь большие земельные участки, и про другие местные достопримечательности. Бассейновая улица, как оказалось, вела от Литейного к двум большим искусственным бассейнам, откуда вода по трубам подавалась к фонтанам Летнего сада.
– Ну а «Вшивой биржею» перекресток Литейного и Невского называют, – закончил устную экскурсию Матвей. – На энтом самом месте издавна поденщики безработные собирались. Там их наниматели и находют. Почему «вшивая» – так ведь известно, что за публика там топорщится – голытьба! Вот плотники и каменщики, к примеру – народ сурьезный, их на Сенной площади искать надобно. Кухарки – те на Никольском рынке новых хозяев дожидаются. Лакеи и садовники – у Синего моста… Так не забудете опосля променада про раба божьего Матвея, ваша милость?
Подтвердив обещание отблагодарить дворника, Карл едва не бегом отправился покорять Северную столицу.
Это был истинный день открытия нового мира, и Карл несколько раз с удивлением вспоминал то, каким чужим и нелюбезным показался для него Петербург в первые дни. Оказалось, что достаточно отсутствия вечно угрюмого и озабоченного брата Генриха, наличия теплого солнышка, вовсю греющего сегодня, и шуршащей трехрублевой ассигнации в кармане.
Карл долго бродил по Невскому, не замечая насмешливых перемигиваний приказчиков при виде простодушного провинциала. Застенчиво глазел на хорошенькие лица встречных барышень, уважительно уступал дорогу попадающимся офицерам – они представлялись ему истинными хозяевами столицы!
А вывески! На двух торговых кварталах Невского Карл насчитал уйму различных вывесок – больше, чем видел их за всю жизнь в своем уезде и губернском городе. Среди деловых рекламных посулов попадались и забавные вывески – смешные даже на взгляд провинциала. Над одной ресторацией – медведь с газетой в вывернутых лапах за столиком, уставленным различными блюдами. Над входом в каждый трактир – либо жеманно топырящие пальчики мужики с чаем в подстаканниках, либо такие же бородатые дяди с лепными кружками либо штофами в руках. Турки в чалмах, задумчиво сосущие кальянные трубочки над табачными лавками. Рог изобилия, из которого почему-то сыплются то ли младенцы, то ли ангелы. А рядом – маленькими буквами разъяснение: «Повивальная бабка-голландка».
Многие вывески содержали французские слова – с такими ошибками и в таких сочетаниях, что догадаться о том, что сие означает, можно было с большим трудом. Немногим понятней были и иные надписи на русском: «Здесь красют, декатируют и такожде пропущають машину». Или – «Дамский портной Иван Ефремов из иностранцев». Какой же это Иван, если из иностранцев?
Впрочем, и потешные вывески не портили Карлу общего восторженного впечатления.
Вернулся новый открыватель столицы в свой Басков переулок на извозчике – «ваньке», нанятом за 25 копеек. Это, конечно, было мотовством, пенял сам себе Карл. Да, мотовство – но как иначе, скажите на милость, доставить на квартиру будильник, глобус, большущий куль мятных пряников, проданных немцем-кондитером из Ковенской губернии со скидкой, а также бумагу, тетради и банку с ваксой для сапог? Тем более что вакса, судя по надписи на немалой банке, сулила будущему офицеру «зеркальный блеск, недоступный даже в Нотр-Дам-де Пари».
Удалось сохранить и обещанный совести последний рубль из сестриной трешницы. Высадившись со всей поклажей у дома, будущий офицер был радостно встречен дворником Матвеем, коему и перепал наконец обещанный гривенник.
* * *
В школе вольноопределяющихся Карлу тоже нравилось. Каждое утро, приходя в казармы, он был встречаем «дядькой» – фельдфебелем, старым солдатом, дослуживающим последние годы солдатчины наставником «вольнопёров». Когда рядом никого из офицеров не было, «дядька» позволял называть себя Михалычем, иногда, расчувствовавшись, вспоминал свою деревеньку под Вологдой, и семью, которую не видел больше пятнадцати лет.
Основной обязанностью «дядьки» было привитие будущему офицеру основ военного уклада жизни. Михалыч регулярно занимался с Ландсбергом шагистикой, учил его приемам обращения со штыком, саблей.
После наступали часы занятий, когда «вольноперы» собирались в классных комнатах и для них начиналась настоящая учеба. Часть ее напоминала гимназические уроки, часть была лекционного типа. Все преподаватели, кроме Закона Божьего, были офицерами, но большей части боевыми, многие со шрамами и следами ранений. Двое или трое прихрамывали, один был и вовсе без одной руки, со страшно изуродованным лицом. Поскольку он преподавал минное дело, этому никто не удивлялся, а «вольноперы» шепотом рассказывали друг другу историю о том, как капитан Егоров во время турецкой войны, спасая товарищей, отбросил голыми руками залетевший в окоп разрывной снаряд, а тот возьми да и разорвись в пяти шагах. Говорили, что свидетелем сего подвига был сам великий князь, и именно его повелением Егоров не был отчислен в инвалидную команду, а навечно остался в списках личного состава батальона и был пристроен на преподавательскую работу.
Другие преподаватели школы вольноопределяющихся порой напоминали Карлу гимназических. Одни были явно увлечены своим предметом и занятия проходили интересно, не по учебнику, со множеством интересных примеров. Иные офицеры явно тяготились своими дидактическими обязанностями, гнусаво и монотонно «отчитывали» свои предметы, вызывая скуку и зевоту. От гимназических преподавателей здешние отличались лишь тем, что не били линейкой по рукам и не грозились написать записку родителям. Наказание лентяям и нерадивым – впрочем, таких в школе вольноопределяющихся оказалось немного – было, в основном, два. Лишние часы строевой подготовки под командой старшего фельдфебеля по кличке Горыныч, либо несколько часов ареста в казарменной «холодной», под присмотром другого старшего фельдфебеля, не менее свирепого и горластого, имени-прозвища которого никто не знал.
Нравились Ландсбергу и отношения «вольноперов» со штатными офицерами батальона. Офицеры были настроены к воспитанникам без исключения дружелюбно, видя под солдатскими шинелями не «пушечное мясо», не «паркетных шаркунов» и «маменькиных сынков», как именовались юнкера, а будущих товарищей. Да и то сказать: «вольнопер» был гораздо ближе любому офицеру-саперу еще и потому, что его путь к офицерским погонам был выбран наиболее трудный.
Конечно, некоторая кастовость наличествовала и здесь. Офицеров-дворян в батальоне было меньше трети. И, несмотря на всеобщее, казалось бы, равенство, офицеры-дворяне держались с прочими товарищами так, что те никогда не забывали сословной разницы.
Среди «вольноперов» дворян было и того меньше – в основном, как и Карл Ландсберг, это были сыновья славных, но обедневших дворянских родов. Не столь древних, как с гордостью думал о своих предках Карл, но все-таки дворяне. Однако он не мог не видеть, что сословное размежевание среди воспитанников школы проявляется гораздо больше, чем в офицерской среде. Мальчики знатного происхождения откровенно сторонились своих товарищей-«разночинцев». Причем иной раз это выглядело столь заметно, что преподаватели и другие офицеры вынуждены были порой делать замечания излишне гордым потомкам дворянских родов.
Что же касается самого Карла, то подобная кастовость ставила в тупик его самого: по происхождению он был знатен своими предками, но при этом беден, как церковная мышь. Поэтому он никогда не примыкал к «радикально» настроенным воспитанникам.
Многие офицеры батальона выделяли Ландсберга среди прочих. С несколькими, совсем молодыми прапорщиками и подпоручиками он, по их требованию, перешел на «ты», и даже несколько раз был приглашаем на товарищеские вечеринки. Впрочем, последних он старался избегать – зная, что вряд ли когда-нибудь сможет вынуть из кармана столь пухлую пачку ассигнаций, как офицеры батальона – граф Марк Ивелич или барон Гейдрих. Постоянно же быть «одолженцем» и «прихлебателем» Карл Ландсберг не желал! Эх, деньги, проклятые деньги! Их просто не было…