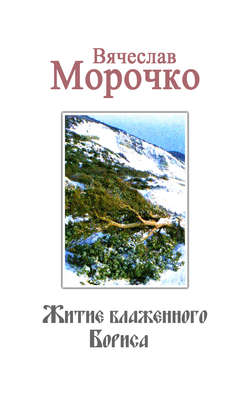Читать книгу Житие Блаженного Бориса - Вячеслав Морочко - Страница 14
Часть первая.
Под знаком Мокрицы
13.
ОглавлениеЯ понимал, многое идет от возрастной неразберихи при переселении. Но не до такой же степени. Почему я здесь?
Что меня сюда привело?
Мой отец буравил твердь, ворошил пространство, рвал связи времен, протискивался из последних сил сквозь звенящий озон обращавшийся в смрад, который и есть признак жизни – чуть тепленькое желе из вырождавшейся ткани. Непостижимо, как в смердящем дерьме, между костями и кожей, вмещается мысль, способная расцвести высочайшей духовностью? Разве нечистая плоть способна на что-то еще, кроме низких инстинктов и гнусных рефлексов?
Мы – беженцы. Мы сыпались, как растянутый на столетия звездный дождь, и кто куда угодил, тот там и прижился. Нас выбросили в последний момент перед катастрофой. И тот, кто прижился раньше, помогал приживаться следующим. Но основная масса бесследно исчезла, не дождавшись помощи.
Отцу вернули память. Не его. Его память тут – никому не нужна и осталась при нем, как трепетные и бесценные грезы. У человека на Земле не могло не быть земной памяти. У каждого были свое детство, своя юность. Прошлое включало: зрительную, звуковую, обонятельную, осязательную, чувственную и прочие памяти. Отцу наскоро скачали их от «первого подвернувшегося» донора подобно тому, как здесь давно научились скачивать кровь. Впрочем, это скорее напоминало электронное скачивание, нежели переливание. Процесс нисколько не опустошал отдающего. По существу, это было «сканирование» части памяти, но в экстренных случаях об этом не думали, как не задумывались при вживлении донорских органов. «Лишь бы прижились».
Среди «прочих» памятей была и генетическая. Это я понял, когда почувствовал, что обладаю кое-какими задатками несвойственными нашей популяции, в том числе некоторыми, близкими к извращениям склонностями. «Первый подвернувшийся» донор оказался не без дефектов. Хотя возможно, здесь в разной степени это свойственно каждому. Возможно, большинство с успехом это в себе подавляет, хотя и продолжает транслировать пороки потомкам. Возможно, со стороны природы, или, если хотите, Создателя – это совсем не грешки, а способ усиления чувственности во имя того же продолжения рода.
Отец погиб во время войны, и я – наследник его. Мне моей чувственности совершенно достаточно… Между прочим, Прасковья Васильевна, по простому Параша, сама проверяла.
Год назад, когда я был приглашен первый раз, и в первый раз они омывали мне ноги, показалось, она с особым вниманием рассматривала и щупала их. А затем, как ни в чем не бывало, притащилась в казарму, прямо в мой сон. У капелян (стопроцентных) есть такая веселая опция. На втором этаже курсантской двухъярусной койки, царапая острой коленкой, она подо мной так громко и визгливо кричала, что разбудила бы взвод, если бы загодя не позаботилась, что бы он крепко спал. В этом и заключалась моя «нездоровая склонность»: я ее не голубил, а отчаянно «драл».
– Неужели было так больно? – спросил я потом.
– Немножко.
– Немножко? Значит, можно было терпеть.
– Вы что!? Кричать полагается!
Она ластилась, и, гремя мослами, спрашивала: «Как вам нравится мое тело?»
– Скажите честно, где вы его держите?
– Да вот же оно!
– Простите, я вижу только подвязки для бюста.
– Ты грубиян! Разве с женщиной так разговаривают?! – ворча, она, спускаясь со второго яруса на пол. А я подталкивал ее босою ногой, чтобы она не вздумала возвращаться. Внизу, зацепившись за чей-то сапог, она едва не упала и, ругаясь, натягивая на ходу одежонку, пронеслась мимо спящего под дежурною лампой дневального.
Со мной это случилось впервые. Это было совсем не то, о чем я мечтал. Ни о какой любви тут не могло быть и речи. То, что происходило, вызывало дрожь отвращения и больше напоминало мастурбацию, нежели естественное совокупление. Она суетилась подо мной так живо, что всюду я натыкался на ее лоснящиеся коленки, словно она была многоножка. Возможно, на родине, в естественном виде, капеляне и были такими, а ощущение лишних конечностей напоминали фантомные ощущения ампутированных. То, что она тут вытворяла, по силе и духу напоминало Джигу – ирландский танец, который исполняют ногами при неподвижном корпусе. Однажды в училище заехал прославленный ансамбль. На сцене клуба они выдали такую джигу, что курсанты ополоумели. В двенадцатом веке ирландские католики установили цензуру на многие танцы, усматривая в них непотребные движения тела. И тогда родилась джига. В ней не было и намека на похотливые взмахи хвоста, но быстрота, четкость и мощь движений ног делали этот заявленный, как протестный, танец сверх сексуальным. Каждый думал, если этакая сила – на сцене, так, на что же они (танцовщицы) горазды – в алькове!
Батарея в тот раз проспала «подъем», и внутреннему наряду досталось. Зато ребятишки видели блаженные сны. Наверное, все, кроме меня.
Я не напомнил ей этот случай: жалко было Матвея. Я вел себя так, как будто между нами ничего и не было. По видимому, ее это устраивало. И, хотя Параша хотела бы спустить на меня всех собак, мое молчание останавливало ее.
– Ну, я пошел, – сказал я, стаскивая носки и сбрасывая шлепки.
– Валяй, валяй, полукап! – «благословляла» она, пока я наматывал портянки.
Магнитштейн, с бледным лицом, вытянувшись во весь рост и распушив усы, застрял в дверях кухни. Он что-то чувствовал. Наверно, его что-то тревожило, но он не мог понять, что именно.
Он был в том возрасте, когда, выйдя из хаоса неустроенности и неопределенности, наслаждаются относительной стабильностью и налаженностью быта. Найти такое спокойное место в армии – весьма редкий случай. Он был на хорошем счету, но не был служакой и за карьерой не гнался.
Майор пошел меня провожать. По дороге он мямлил: «Не обращайте внимания на женские штучки, Борис. Женщине всегда тяжелее. Когда есть дети тяжело – с детьми, когда нет, – еще хуже без них». – он меня успокаивал. Нашел – кого: детей у них не было. Она – капелянка. А он – такой же, как я, полукап.
Мне было жаль Магнитштейна. Я не знал, что мне делать, хотелось скорее с этим покончить, но я не находил слов в его утешение. Да он и не ждал их, считая, что это я в них нуждаюсь. Мне очень хотелось завершить вечер традиционным бутербродом. Но для этого нам надо было расстаться. Бутерброд имел более прозрачное конспиративное значение, нежели пирожки. Съесть бутерброд, означало спуститься на освещенную центральную улицу города, войти в ближайшую бутербродную, а их было немало, и заказать сто пятьдесят грамм хорошей водки с закуской, соответствующей названию забегаловки. После этого в горле оставалась приятная горечь, а в голове спокойная и веселая мудрость. С таким настроением уже можно было возвращаться в казарму. Но делать это в присутствии старшего офицера, хотя и одетого в штатское платье, курсанту не полагалось. Мы не были ни собутыльниками, ни друзьями. Просто, мы были двумя полукапами.
Тем временем, Матвей привел меня к проходной училища, хотя времени до конца увольнительной, еще оставалось достаточно. Майор остановился поговорить с дежурным офицером. Я понял, ему просто не хотелось оставаться одному. «Я пошел», – сказал я. Он кивнул. Я вошел в проходную, пересек коридор и побежал по дорожке к забору, который отделял училище от стадиона «Металлург». У нас был не только общий забор со стадионом, но и соединявшие нас общие дыры в заборе. Самая удобная дыра была возле плаца, на хорошо освещенном месте – не дыра, а приманка для самовольщиков. За ней постоянно следили. Камер тогда еще и в помине не было, тем более в провинции. Установили простенький датчик на фотодиоде: при пересечении невидимого глазом луча, включался сигнал. Я пересек этот луч и очутился на стадионе. Уже смеркалось, и со стороны училища я выглядел тающим пятном цвета хаки, а мне в след истошно давилась звуком сирена. Стадион сегодня был пуст. Едва я выбрался за его пределы, как напоролся на патрулей. «Товарищ курсант, – вашу увольнительную!» – потребовал старший лейтенант – начальник патруля. Я предъявил. Он долго изучал ее под фонарем, сверял мою личность с фотографией на удостоверении. Потом вернул. «Все в порядке. Нам позвонили, на стадионе – самовольщики. Кто-нибудь пробегал?» «Никак нет», – помотал я головой. «Свободны!» – разрешил офицер. Улицы города, расположенного на высоком правом берегу реки, бежали с горы вниз и пересекались с другими улицами, в том числе с главной улицей, которую курсанты называли между собой «Карлой-марлой». Это был широкий бульвар, вдоль оси которого бегал трамвай, по сторонам шуршали автобусы, троллейбусы и легковые авто. Здесь было много света, бестолковой неоновой рекламы, импозантных зданий и прилично одетых людей. Помимо прочего, здесь на каждом шагу попадались «бутербродные». Это, были, конечно, – не рестораны, не кафе и даже не буфеты. Но здесь тоже было светло, стоял приятный обволакивающий гул и пахло спиртным, иными словами, – немного похоже на красивую жизнь. Здесь «гудели» стоя за высокими столиками. Я подождал у стойки, когда мне нальют стаканчик, на ломтик серого хлеба кинут два ломтика колбасы и, расплатившись, с занятыми руками стал пробираться в угол, где было свободное место. Это место я присмотрел тот час, как только проник в бутербродную, думал о нем, пока мне готовили пиршество и скоро, вихляя бедрами между пирующими, достиг цели. «Вы не возражаете?» – огорошил я вопросом рыжеусого, кайфующего в одиночестве за высоким столом. Рыжие брови подпрыгнули, но губы под усами расплылись в улыбке. Это было удивление, сочетавшееся с облегчением и удовлетворением. Я понял, Магнитштейн не только ждал, но и был рад меня снова увидеть. Я тоже был рад. А, выпив, мы уже чувствовали себя, как два родных полукапа.
Обратно я его провожал. «Слушай, Борь, – начал Магнитштейн. – Хочу тебе что-то сказать».
«Валяй», – фамильярно разрешил я.
– У тебя, как у всякого полукапа есть, конечно, свои маленькие хитрости. Ну, признайся, есть?
– Допустим. А что, – не имею права?
– Имеешь, имеешь. Но тут нужна осторожность.
– Ты для этого завел разговор?
– А вот, не для этого!
– Так для чего же?
– Чтобы сообщить чрезвычайно важную вещь!
– Важную вещь!?
Я удивленно посмотрел на него. Он не показался мне слишком пьяным. Тут было что-то другое. Похоже, он был охвачен волнением. «С чего бы это?» – подумал я, но промолчал: это был способ заставить выговориться. Но и он продолжал молчать.
«В чем дело? Вы, кажется, что-то хотели сказать?» – перешел я на вы.
– Да, но я не уверен, можно ли? Пришло ли время?
– В смысле, можно ли мне доверять? Я правильно понял?
– В известном смысле.
– Вы говорили о хитростях полукапа.
– Да, про ваши маленькие хитрости. Там у вас что-то с ракообразными?
– А в чем дело?
– В том, что это можно назвать игрушками, мелким баловством, даже глупостями. Нет, я не против, если для вас это важно. Однако есть и другое.
– Никто мне об этом не говорил.
– Я понял, вам не рассказывали.
– Додумался сам.
– Оно и видно.
– Что вам видно?
– Это не важно.
Он прикусил язык и больше в этот раз ничего не добавил.