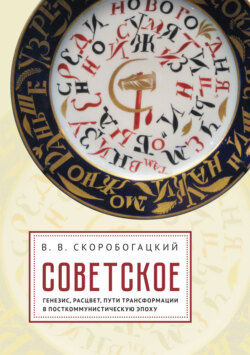Читать книгу Советское: Генезис, расцвет и пути его трансформации в посткоммунистическую эпоху - Вячеслав Скоробогацкий - Страница 5
Часть 1
Сталинизм: ранняя классика советского
Глава 1
1984. Год объявленной смерти русского коммунизма
Корпорация, община и Город: предпосылки возникновения советского
ОглавлениеОбщий контур этого «другого» новообразования складывался в ходе пересечения нескольких факторов. Генеральную перспективу перемен, происходивших в российском обществе в эпоху Империи на всем протяжении ее истории, определял Город как символ новой цивилизации европейского типа, как модель нового мира, характерными чертами строения которого были разумность и правильность – условия упорядоченной и законосообразной жизни. Возвышение культурного и политического статуса города обусловливалось всемерной поддержкой его со стороны государства-Империи – земного воплощения и носителя Божественного разума. Оно же имело оборотной стороной подчеркнутое, демонстративное и радикальное отрицание Деревни как «допотопного» уклада жизни, точнее, не жизни даже, а прозябания до и вне цивилизации. Уже современники Петра сравнивали Петербург то с кораблем в океане традиции (природы) с его бурями и грозами, то с Ноевым ковчегом, местом рождения нового человечества. При этом предполагалось, что Петербург – всемирный город, начало новой эпохи всемирной истории, а не только мост (окно) из Европы в Россию. Большой вклад в закрепление подобных образов-символов в общественном сознании того времени внес М. В. Ломоносов[46]. Он может рассматриваться как один из предшественников Пушкина в разработке мифа о Петербурге и Петре, краеугольного для русской культуры XVIII–XX веков. В русле перемен Деревня воспринималась как социокультурная почва традиционализма и опора контркультурных и антигосударственных установок, сопротивления переменам. И это недоверие к крестьянству, неприятие его сохранялось у российских правителей[47] и после крушения петербургской Империи, вплоть до Троцкого и Сталина, несмотря на все несходство взглядов этих последних на характер революции и судьбу социализма в России.
Соответственно, и государство этой эпохи было полицейским, как бы ни расходилось это определение – «полицейское» – с исторически сложившимся образом империи, c ее духом. Существует ли общий знаменатель, с помощью которого можно было бы не то чтобы уравнять, но хотя бы сопоставить столь разные по масштабу фигуры, как Александр Македонский, Октавиан Август, Фридрих Барбаросса и какой-то околоточный надзиратель?! Учреждение петербургской империи – попытка отыскать такой общий знаменатель, удачная или нет – отдельный вопрос. Согласно петровскому замыслу полицейского государства,
…государственная власть самоутверждается в своем самодовлении, утверждает свою суверенную самодостаточность. <…> Государство утверждает себя самое как единственный, безусловный и всеобъемлющий источник всех полномочий, и всякого законодательства, и всякой деятельности или творчества. Все должно стать или быть государственным, и только государственное попускается и допускается впредь[48].
Создавая в подчеркнутом противопоставлении традиционному новый – городской – мир, Петербург (так же, как пестовал Иван IV свою опричнину – в стороне и в обособлении от земщины, от мира деревни[49]), Петр I перенял от Грозного и представления о христоподобности самой личности царя. «Новое (в представлениях Ивана IV о характере царской власти и ее носителя. – В. С.) заключается не в отсутствии другой власти рядом с властью царя, которая бы его ограничивала, а в узурпации царем той полноты власти, которая может быть доступна только Богу»[50].
Возведение государства и личности государя в степень земного воплощения Божественного разума в перспективе означало принципиальное расхождение с фундаментальной тенденцией развития той цивилизации, которую сам же Петр избрал в качестве материнской для новой российской культуры. Для Запада того времени на первый план уже вышел вопрос о главенствующем положении права по отношению к государству и обществу, которое (право), согласно кантовской формулировке, представляет собой «самое святое, что есть у Бога на земле». Одной из стержневых опор новоевропейской цивилизации, доставшейся Западу в наследство от «первого» Рима, является убеждение, что институт права выше государства с его законами и выше любого лица, какое бы место во властно-государственной иерархии это лицо не занимало. «…Под правом имеется в виду не вообще обоснованность и оправданность тех или иных поступков и акций (это наиболее широкое понимание права, когда это понятие обобщенно охватывает все его значения, например, и моральное право, и право-обыкновение, и даже так называемое естественное право), а право как строго юридическое явление – официальный институт, на основе которого действуют государственно признанные права и обязанности лиц, юридически дозволенное и недозволенное»[51].
И в данном отношении замысел полицейского государства изначально делает такое государство несовместимым с правом, придает ему принципиально неправовой характер, ставит его, говоря современным языком, вне правового поля. Полицейское или правовое – в российском социокультурном и политико-культурном контекстах эти определения государства образуют полюсы антиномии, то есть противоречия, не имеющие позитивного разрешения: или – или. Последнее означает, что эволюционный переход от одного состояния (полицеизма) к другому, правовому, невозможен. Прежде всего потому, что в сопоставлении с правовым полицейское государство в его российской версии – вовсе и не государство, а некая социальная организация, которая попутно, частично и крайне неэффективно выполняет некоторые его, государства, функции, по своей сути, по действительному устройству и назначению государством не являясь.
Обобщенная характеристика той социальной организации, которая складывалась в России со второй половины XV века в русле кардинальных перемен[52], – Мегамашина. Теоретическая реконструкция Мегамашины как специфического типа социальной организации, сопровождавшей переход древневосточных обществ от первобытности к цивилизации, была осуществлена Л. Мамфордом, выделившим ряд ее конститутивных особенностей: (1) вертикально ориентированный характер строения (пирамида), (2) жесткая социокультурная иерархия, (3) доминирующий статус царя как перводвигателя общественной системы, (4) религиозное, этическое и интеллектуальное закрепление и «оправдание» социальной конструкции усилиями особого сословия (в Древнем Египте это жречество)[53]. Московская версия Мегамашины возникает в результате разрастания вотчины князя, точнее говоря, насильственного переноса принципов вотчинного устройства далеко за пределы Московского княжества.
Ярким примером этому служит радикальная деструкция вечевого уклада и всего социального строя Новгорода, которая была предпринята сразу же после его захвата московским князем в 1478 году и волнообразно осуществлялась в течение целого столетия. Юридическим инструментом закрепления принципов вотчинного устройства в управлении возникавшим (со времени Ивана III[54]) Московским государством служили нормы владельческого (частного) права, которые в итоге такого расширения сферы применения стали регулятором отношений принципиально иного рода – публичных[55]. Так в результате вотчинной «приватизации» и последующей редукции публичного – его поглощения частновладельческим началом – складывается крепостное право и вместе с ним самодержавие – система вотчинной власти, разросшейся до пределов государства. «Вотчинное самодержавие выступило, в первой четверти XVI в. вполне сложившимся явлением. Собирание княжеской власти, связанной обычно-правовыми отношениями, не только объединило ее в московском единодержавии, но высвободило из пут “старины и пошлины” на полный простор самодержавного властвования. Государь князь великий распоряжается по “своей воле” личными силами и средствами всего населения, “жизнью и имуществом” всех»[56].
Ближайшим следствием самодержавия явилось корпоративное устройство русского общества-государства – феномен, который в работах Ю. С. Пивоварова и ряда других авторов получил название «русской власти»[57]. По сути, речь идет в данном случае о московско-русской Мегамашине как особом типе социальной организации. В ее рамках общество и государство соединены друг с другом функционально, поскольку с точки зрения происхождения они гетерогенны, вырастают из разных корней и сосуществуют одно рядом с другим. И общество, и государство – не составные части этого функционально единого целого, но его различные проекции, измерения (функциональные системы). В одном случае («общество») это целое с точки зрения его состава (территория, население, ресурсы, институты), его пространственная (топологическая) проекция. В другом («государство») – его структурная проекция, каркас, удерживающий это целое от распада под напором социальных стихий, спонтанно действующих изнутри, и сил Хаоса, обступающих его извне. Взятое само по себе, общество характеризуется институциональной незавершенностью, представляя собой совокупность самодостаточных локальных «миров»-атомов, а государство, соответственно, функциональной «недостаточностью». Ввиду отсутствия публичной сферы, вследствие чего роль государства (по отношению к обществу) сводится по сути к осуществлению прав владельца, государство поддерживает эти отношения преимущественно посредством основанной на насилии «крепости»[58]. В силу этого каждая из «половин»-проекций целого может существовать только в поле притяжения другой «половины», в определенном соотношении с ней. Взятые по отдельности, государство и общество страдают изначальной неполнотой, и поэтому каждое из них стремится достроить отсутствующую «половину». Точнее, они взаимно рефлектируют (отражаются) одно в другом: общество несет на себе родимые пятна существования под контролем государства, заражаясь вотчинным духом самоуправства «сильного», а государство (как аппарат управления государевой вотчиной) оказывается «сколком» наличного состояния общества и заражается всеми социальными болезнями.
Это вид целого, устроенного, на первый взгляд, по-аристотелевски, путем соединения формы — деятельного начала, демиурга, с одной стороны, и, с другой, материи, того пластичного субстрата, в котором демиург воплощает Божественный замысел. Но только на первый взгляд. На деле же общество и государство здесь соединены внешним образом, когда каждая из функциональных «половин» (систем, «образов») целого продолжает существовать по внутренним законам и сохраняет свою автономию настолько, насколько это допускается условиями их сосуществования, исторически подвижными под влиянием внутренних и внешних сил. И основная причина такого раздельного, а точнее, «двуликого» (два в одном) существования – редуцированное состояние публичной сферы (в первую очередь институтов городского и волостного самоуправления), поглощенной владельческим правом князя-вотчинника, будущего государя[59] «всея Руси». «В российских условиях вотчинного уклада, когда политическая роль правителя и хозяйственная – владельца практически не различались, было крайне легко сделать один шаг от господаря/государя в дому до царя-государя, непосредственного восприемника и обладателя сакральной державы»[60].
Корпорация является матричным принципом социальной организации типа Мегамашины, благодаря которому поддерживается функциональное сосуществование общества и государства в границах целого, олицетворенного государством, и персонально – государем. Становление московско-русской Мегамашины имело первым шагом конструирование усилиями верховной власти («государь») особого государствообразующего сословия – дворян-помещиков. Самодержавный царь, верховный правитель и верховный собственник, занял место во главе государства-корпорации, в состав которой и вошли служилые землевладельцы. Параллельно формированию нового класса «государевых слуг»[61] шел процесс ликвидации земельной аристократии, бояр и потомков удельных князей, – оставшегося в наследство от удельного периода класса землевладельцев-вотчинников. Само существование этого класса противоречило духу московско-русской Мегамашины, поскольку у частной собственности в ее вотчинной, наследственной форме был существенный недостаток: она заключала в себе стремление к автономии и независимости от государственной власти, была опорой демократического (вечевого) устройства жизни городских общин, в частности Новгорода[62].
Корпорация здесь была одновременно и социальной категорией, совпадая в определенном смысле с сословием[63], и категорией государственно-властной, поскольку помещики разделяли с государем основную обязанность (функцию) – структурировать, упорядочивать и направлять социальное поведение подвластного населения, подчиняя его функциональным требованиям государственной системы, и тем самым олицетворяли собой государство. Вследствие этого корпоративность пронизывала устройство не только государственной, но и общественной жизни, обеспечивая определенную организационно-институциональную однородность социального пространства, в котором протекала государственная и общественная жизнь. Чтобы легально существовать в этом пространстве, все должно было облечься в форму корпорации в виде учреждаемой и контролируемой государством социальной группы сословного типа, то есть обладающей специфическими правами и обязанностями, которые закрепляются обычаем или законом и (по возможности) передаются по наследству[64]. Такое опосредование было обязательным условием возможности государственного управления, в том числе и властного контроля всех явлений общественной жизни, включенных в границы социального пространства. Возможность свободы, индивидуальной и групповой, коренилась внутри, в архипелаге сельских общин, но обретала реальные черты лишь по ту стороны этой границы, вовне, где был мир русской воли – Поморье, Урал, Сибирь или южные степи.
Сельская община, которая, по замечанию С. М. Соловьева, складывалась под воздействием государственной политики, также несла на себе печать корпоративности. Как отметил С. Д. Домников, жалованные грамоты Екатерины II были призваны «конституировать корпоративную структуру общества, упорядочить внутрисословные отношения и закрепить за “жалованным” населением особые права и свободы»[65]. Примечателен тот факт, что вслед за жалованными грамотами дворянству и городам в окружении императрицы был разработан подобный документ («Сельское положение») также и для государственных крестьян. Отвергнутый под давлением дворянской оппозиции проект был, тем не менее, вполне логичным завершением процесса формальной институционализации корпоративной структуры российского общества, охватывавшей все его уровни, включая и локальные миры сельских сообществ.
Оставляя в стороне перипетии реальной политики с ее эмпирической «подкладкой», повлиявшие на судьбу крестьянского проекта, можно отметить, что разрыв между городским и сельским мирами в петербургской Империи не был фатальным, чреватым неизбежной катастрофой; что существовали условия интеграции Деревни (традиционной культуры) в цивилизационно чужеродную ей культуру Города. Но сделанный государством выбор в пользу колонизационной модели освоения огромных природных и человеческих ресурсов сельского мира для модернизации городской жизни[66] (и самого государства) оставил Деревню на обочине цивилизационного процесса, существенно ограничив и исказив перспективы и способы втягивания ее в новое историческое русло. Отсюда вполне правомерно предположить, что корпоративная структура русской Мегамашины проявляется в колонизационном характере как самого устройства государства-общества (Город-метрополия, окруженный колониальной сельской периферией), так и стратегических целей государственной политики, и внешней, и внутренней в равной степени. Целей, которые рано или поздно, но всегда в необходимый для этого момент времени получают массовую поддержку даже в том случае, если их осуществление заставляет эти массы поступиться собственными интересами, порой самыми насущными. Коллективное (читай: корпоративное) всегда выше личного; беспрекословное служение государству-обществу – нравственный императив для подданного.
Совсем не случайно, что корпоративное устройство русской жизни препятствовало высвобождению индивида и формированию личности. Последняя как феномен, закрепленный, в том числе и в языке (карамзинское новообразование «личность» как калька с французского «персоналите»), возникает в конце XVIII века среди представителей высших классов, получавших европейское образование преимущественно на французском языке. Но еще в 1830-е и 1840-е годы и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь отмечали, что в этих кругах по-прежнему доминируют корпоративно-групповые установки, следование которым наделяло обитателей петербургского общества качествами (светской) «черни».
46
См.: Домников С. Д. Мать земля и Царь-город. С. 476–480.
47
В свете этого не является случайностью, что разночинная интеллигенция, с 1840-х годов ставшая в оппозицию государству, кладет в основу своего мировоззрения культ народа.
48
Флоровский Г. В. Пути русского богословия: [репринт. изд.]. Киев, 1991. С. 83.
49
См.: Домников С. Д. Мать земля и Царь-город. С. 462.
50
Скоробогацкий В. В. Безвременье и время философии. Екатеринбург, 2014. С. 193.
51
Алексеев С. С. Самое святое, что есть у Бога на земле: Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху. М., 1998. С. 4.
52
К числу таких перемен можно отнести заключение Флорентийской унии, вызвавшее установление автокефалии Русской церкви (1448), падение Константинополя (1453), освобождение от монгольского ига (1480), завершение процесса объединения земель северо-восточной Руси вокруг Москвы, выход Московской Руси на общеевропейскую сцену.
53
См.: Мамфорд Л. Миф машины. М., 2001. Гл. 8, 9. С. 219–276.
54
«Иван III закончил эту ломку старого удельно-вотчинного порядка упразднением былой самостоятельности крупнейших областных политических единиц и обратил всю Великороссию в свое вотчинное государство» (Пресняков А. Е. Московское царство // Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 343).
55
См.: Там же. С. 352–357; см. также: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 76–79.
56
Пресняков А. Е. Московское царство. С. 357. См. также: Пайпс Р Россия при старом режиме. С. 78–79. В другой работе американского историка мы находим: «В его (Ивана III. – В. С.) понимании высшая власть была равнозначна праву собственности на завоеванное княжество, то есть являла собой dominium — право свободно распоряжаться людскими и материальными ресурсами подвластной земли» (Пайпс Р Собственность и свобода. М., 2000. С. 227–228).
57
См., например: Пивоваров Ю. С. Русская власть и публичная политика // Полис. 2006. № 1. С. 12–32; Его же. Русская политика в ее историческом и культурном отношениях. М., 2006; Фурсов А. И. Колокола Истории. М., 1996.
58
Р. Пайпс отметил, что до 1649 года (Соборное уложение и закрепощение крестьян и городов) государство вотчинного типа имеет наполовину виртуальный характер, характер чего-то возможного, а не действительного: «До этого в России были оседлые правители и бродячее население. Удельный князь мог облагать податью жителей всего своего государства, но не мог указывать ее плательщикам, как им жить; у него не было подданных и, следовательно, не было публичной власти» (Пайпс Р Россия при старом режиме. С. 67).
59
Первоначальное значение термина «государь» – господарь, господин, хозяин-собственник, владелец имущества, в состав которого непременно входили рабы-холопы.
60
Ильин М. В. Слова и смыслы: опыт описания ключевых понятий. М., 1997. С. 191.
61
Дворянство по существу – новый, высший разряд холопов, рабов в «хозяйстве» (государстве) царя. Иван Грозный заявлял об этом открыто: «А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить» (Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М., 1981. С. 136).
62
См.: Пайпс Р Собственность и свобода. С. 228–231.
63
В отличие от традиционного сословия, возникающего путем естественноисторического развития и в относительной независимости от процесса государст-вогенеза, данная социальная группа (как и все другие в структуре Мегамашины) изначально конструируется государством (государем) и представляет собой неотъемлемую часть процесса становления государства-Мегамашины. Это особый круг индивидов, самые физические тела которых являются выделенными структурными узлами, скрепляющими в одно целое всю совокупность индивидуальных тел, образующих социобиологическое тело («общество») Мегамашины. В Древнем Египте сходную роль играли «начальники», относящиеся к различным уровням социально-государственной иерархии, – десятники, сотники, тысячники и т. п. «Новый механизм, состоял исключительно из человеческих деталей и обладал вполне определенной функциональной структурой. <…> Компоненты, пусть они состоят из человеческих костей, жил и мускулов, сводились к своим чисто механическим элементам и жестко подгонялись для выполнения строго ограниченных задач. Хлыст надсмотрщика служил залогом согласия. Подобные машины были собраны, если не изобретены, царями уже на ранней стадии эпохи пирамид, в конце четвертого тысячелетия» (Мамфорд Л. Миф машины. С. 251, 252).
64
Оговорка «по возможности» указывает, что социальные образования подобного рода имеют искусственный характер, являются результатом социального конструирования, направляемого волей и целями властного субъекта. Это скорее квазисословия, не имеющие достаточных условий для органического развития; историческое время и границы их существования предопределяются телеологическим заданием – теми особенностями их конструкции, в которых находят отпечаток цели властвующего демиурга, а беря глубже – логика устройства Мегамашины.
65
Домников С. Д. Мать земля и Царь-город. С. 493.
66
См.: Домников С. Д. Мать земля и Царь-город. С. 494–495.