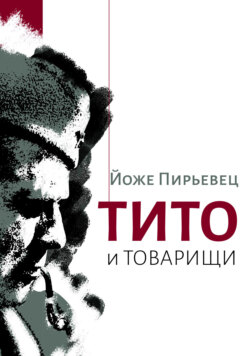Читать книгу Тито и товарищи - Йоже Пирьевец - Страница 9
Тито: молодость и зрелые годы (1892–1939)
Во главе КПЮ
ОглавлениеКоминтерн (т. е. советская секретная служба) назначил Вальтера генеральным секретарем ЦК КПЮ с правом вето, что означало, что по всем вопросам его слово было решающим. Понятно, что подобное не могло бы произойти, если бы в Москве ему не доверяли и, с другой стороны, если бы он этого не заслужил[256]. Позже он с гордостью заявил Луису Адамичу: «В Москве меня проверяли всеми способами. Доверяли только мне». Во всяком случае, это был бурный процесс, который Тито впоследствии в беседе с журналистами охарактеризовал словами: «Это было непросто и нелегко». Еще выразительнее его описал в своих воспоминаниях Родолюб Чолакович, говоря о настоящей драме, «в которой кипели необузданные страсти и головы падали с плеч, прямо как у Шекспира»[257].
Броз сразу же показал, каким будет его стиль работы. Он собирался навести порядок в партии и руководить ею «железной рукой», как с одобрением говорили его сторонники. На основе советского опыта он понял, что невозможно осуществить революцию без партии нового типа, без идеологически и организационно централизованной структуры. По своей природе он был человеком действия: не любил болтовни, праздных фраз, ненужных сборищ, т. е. всего того, что до тех пор было характерно для КПЮ[258]. В этом смысле, благодаря своей наглядности и правильной интерпретации политики Народного фронта является показательной вышеупомянутая «Резолюция ЦК КПЮ – Директивы», написанная им в Москве и одобренная Коминтерном: «Перед лицом опасности, грозящей Югославии, главная задача КПЮ – организовать и поднять все ее народы на борьбу для защиты целостности и независимости государства от агрессии немецких и итальянских фашистов и им подобных. Необходимое условие для выполнения этой задачи: следует свергнуть нынешнее антинародное правительство Стоядиновича и сформировать правительство народной защиты, способное организовать оборону государства и без колебаний оказать сопротивление фашистской агрессии. <…> КПЮ и впредь будет поддерживать все массовые кампании демократического блока и других демократических организаций. <…> Одновременно КПЮ должна сблизиться со всеми партиями, организациями и группами, которые выступают в защиту независимости Югославии от Гитлера и Муссолини, и бороться вместе с ними, не исключая и организации Евтича (сербских националистов) и Корошеца (словенских клерикалов), если они действительно вступят на путь борьбы против немецкого и итальянского фашизма и их приспешников в государстве»[259].
Длительное отсутствие Вальтера дало возможность развернуться фракционным группам, уверенным, что ему придется худо. Начали колебаться даже некоторые товарищи, которые находились в Париже, Испании и Канаде. Но тут вмешался Димитров. В письме КП Франции он указал, чтобы она поддержала Броза в борьбе с его противниками. Так и произошло: «Тогда наше дело окончательно победило»[260]. О том, насколько КПЮ в то время действовала в соответствии с указаниями Москвы, свидетельствует заседание временного руководства в Бохине 15 марта 1939 г., в котором, наряду с прочими, приняли участие Кардель, Джилас и Ранкович. Единодушно и – как сообщил Вальтер Ловро Кухару – «с радостью» приняли решение исключить из партии всех югославских коммунистов, арестованных и репрессированных в Советском Союзе, как «троцкистов» и «фракционеров», а также всех членов, являвшихся обузой для партии в Париже и на Родине[261]. Это была акция сталинского толка, показавшая, что, несмотря на все пережитые в Москве потрясения, Броз не смог критически дистанцироваться от его террора: в списке исключенных, помимо фамилий его врагов, встречаются и фамилии друзей, например Чопича. По возвращении он рассказывал товарищам, что, по мнению Димитрова, в Советском Союзе не избежали перекосов, но ведь в любом случае, чтобы удалить опухоль, нужно резать по живому[262]. Очевидно, Броз был согласен с этой установкой и проводил ее в жизнь даже в своем кругу. При этом он мог положиться на поддержку всех товарищей. «Мы гордились своей преданностью Сталину, – вспоминал Джилас, – и тем, что ощущаем себя последовательными большевиками. Быть большевиком стало в партии высшим идеалом, а Сталин для нас являлся воплощением всего большевистского»[263].
В 1939 г. Вальтер вернулся из Москвы, убежденный, что партия должна стоять на своих ногах. По словам Джиласа, он был доволен, когда ему сообщили, что КПЮ в финансовом отношении стала полностью независима от Коминтерна. «Это было первое самоопределение, намного более важное, чем нам казалось в то время»[264]. Следует отметить, что историки подчас преувеличивали значение этого «самоопределения». В 1940 г. из Москвы прислали чемодан с двойным дном, в котором помимо тайных сообщений находилась и крупная сумма в долларах[265]. Преувеличивали они и роль Вальтера в формировании новой партии. Как ее секретарь он до войны по большей части был за границей, а значит, никогда не принимал участия в заседаниях высших партийных органов. Так, например, он не присутствовал на заседаниях сербского партийного комитета, даже если находился в Белграде во время их проведения[266].
Одним из решающих успехов КПЮ в конце 1930-х гг. стал подъем молодежной коммунистической организации, Союза коммунистической молодежи Югославии (СКМЮ), объединявшей учеников средних школ и студентов университетов, среди которых марксистские идеи пустили глубокие корни. Поскольку прежнее подозрительное отношение к молодежи ушло в прошлое, партия вскоре укрепила свои позиции, прежде всего в студенческом университетском сообществе, создав в нем легальную организацию. Британское посольство сообщало в Foreign Office: «В одном только Белграде в университете учатся более 10 000 молодых людей. И если более половины, а может, и три четверти из них настроены прокоммунистически, то виной тому страх перед будущим. В Югославии есть культурный пролетариат, который требует хлеба и работы»[267]. СКМЮ стал, можно сказать, партией в партии, поскольку в нем было больше членов, чем в КПЮ. Югославское коммунистическое движение тем самым подчеркивало, что является выразителем протеста в большей степени интеллектуальных, нежели малочисленных рабочих масс, в которых не было радикальных настроений. В 1939 г. в Югославии было не более 730 тыс. «рабочих», да и из них едва ли половина работали на крупных промышленных предприятиях[268]. Приток новых людей означал увеличение суммы членских взносов (за приходом и расходом следил сам Броз), расширился также круг людей, симпатизировавших партии. Они не являлись ее членами, но были настроены антифашистски и видели в ней единственную организацию, способную к обновлению. При этом примечательно, что на партийных собраниях не обсуждалась внутренняя ситуация в СССР, как будто там ничего не происходило – ни хорошего, ни плохого. Несмотря на то что конфронтация по отношению к нему еще не прекратилась, Броз в следующие месяцы постепенно укреплял свое положение. 9 и 10 июня 1939 г., в Тацене под Шмарна-Горой близ Любляны, в обстановке строгой секретности он созвал совещание руководящего состава, на которое прибыли 30 товарищей со всей Югославии. На нем еще раз решительно осудили фракционность и создание группировок и одобрили ряд мер против Петко Милетича[269]. Хотя Марич и Кусовац, как и Петко Милетич, были в числе тех, кого Броз и его товарищи исключили из КПЮ, все трое, естественно, продолжали вести против него агитацию, по-прежнему не признавая его права руководить партией[270]. Маричу и Кусовацу даже удалось убедить югославских эмигрантов в Америке отказаться от финансовой поддержки КПЮ, сообщив им, что ею руководят люди, у которых Коминтерн отобрал мандат[271]. Из них троих наибольшую опасность для Вальтера представлял Милетич, которого в июне 1939 г. выпустили из тюрьмы, а значит, он теперь имел возможность еще больше интриговать против соперника сначала в Югославии, а затем и в Москве. Броз вспоминал о нем позднее как о ночном кошмаре: «Петко пишет, пишет….»[272] В Черногории он собрал вокруг себя коммунистов, исключенных из партийных рядов, и «в идеологическом плане отравил их клеветой». Когда Джиласу и его соратникам в конце сентября 1939 г. удалось достать оригиналы документов о поведении Милетича в полиции, из которых якобы стало очевидно, что он держался вовсе не так мужественно, как говорили, эти материалы немедленно послали в штаб-квартиру Коминтерна. (Конечно, как отмечает Дедиер, остается под вопросом, не были ли они сфабрикованы.) В ответ Милетич уехал в Стамбул, где с помощью своих болгарских товарищей получил в советском консульстве визу в СССР. Он отправился в Москву, убежденный, что по-прежнему имеет там верных защитников, которые спасут его от «простой швали и сброда».
В начале сентября 1939 г. в советскую столицу через Гавр и Ленинград вернулся и Броз. Он прибыл по вызову Коминтерна, так как многие его члены всё еще относились к нему с недоверием, убежденные, что он так и не отказался от своих «троцкистских» симпатий и что его политика слишком радикальна[273]. Когда он плыл на корабле «Сибирь», произошло два судьбоносных события, ставших для него неожиданностью. Он узнал о подписании пакта между Советским Союзом и Германией, согласно которому оба государства обязывались соблюдать нейтралитет в случае войны. А когда корабль вошел в Балтийские воды, пришло известие о нападении Гитлера на Польшу[274]. Но после приезда в Москву Вальтеру пришлось посвятить больше внимания акции, развернутой против него Милетичем, чем началу Второй мировой войны. В тот момент Копинич снова оказал ему большую услугу: он написал донос на Милетича на пятидесяти страницах и направил его в Коминтерн и ЦК КПСС. При этом А. А. Андреев, секретарь ЦК, и Мануильский дали Копиничу карты в руки, позволив ему изучить все необходимые архивы, в том числе и материалы 1920-х гг. Выглядело так, будто Милетич еще в 1923 г., когда был впервые арестован, сломался под нажимом полиции и предал. В Сремска-Митровицу власти посадили его якобы как агента-провокатора. Вкупе с материалами, собранными Джиласом, донос Копинича стал настолько убедительным доказательством вины, что через три или четыре дня, 5 января 1940 г. Милетича арестовали, а 21 сентября осудили на восемь лет каторги. Умер он в конце января 1943 г. в одном из сталинских лагерей, по другой версии – дожил до 1971 г.[275] Вальтер встретил своего смертельного врага всего лишь дважды: в штаб-квартире Коминтерна, куда он имел свободный доступ, и в московском автобусе – Милетич стоял прямой как столб и держался правой рукой за поручень. С мрачным худым лицом, безучастный, хотя с поврежденной кисти руки у него капля за каплей стекала кровь [276].
Вальтер испытал один из самых полных моментов удовлетворения в его жизни, когда Димитров сказал ему об аресте Милетича. Он сразу отправился к Дамьянову – Белову, влиятельному болгарину, поддерживавшему Петко и предлагавшему назначить его секретарем КПЮ[277]. Когда Тито вошел к нему в комнату, тот встретил его с надменностью бюрократа из высших кругов: «Как дела, товарищ Вальтер? Что нового?» «Ничево, ничево, – ответил Броз. – Ничего такого, единственное, что могу припомнить, это что Петко арестовали». Дамьянов был настолько удивлен и ошарашен, что побледнел и вскочил. Полчаса он не мог вымолвить ни слова[278].
256
Dilas M. Tito. S. 74–76.
257
Simič P. Tito. Skrivnost stoletja. S. 156; Čolakovic R. Kazivanje. Vol. III. S. 439.
258
Dilas M. Tito. S. 99; Čolakovic R. Kazivanje. Vol. III. S. 553.
259
РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 411. C. 104–106. Перевод цитаты сделан по тексту Й. Пирьевца.
260
AS. Dedijer. Magnetofonska snimka. S. 78.
261
Dedijer V. Novi prilozi. Vol. II. S. 326; РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 411. C. 122; Ф. 495. Оп. 11. Д. 371. C. 2, 6; Simič P. Tito. Skrivnost stoletja. S. 131–133; Simič P., Despot Z. Tito. Strogo poverljivo. S. 95–98.
262
Dilas M. Tito. S. 86.
263
AS. Dedijer. T. e. 242. Kopja iz memoarov druga M. Dilasa. S. 120.
264
Dilas M. Tito. S. 87.
265
Dedijer V. Novi prilozi. Vol. II. S. 362; Vol. III. S. 28; Simič P. Tito. Skrivnost stoletja.
S. 281; AS. Dedjer. T. e. 229. V. Dedjer, S Kopiničem uoči godišnjice Kerestinca, 13.07.1981. S. 3; Simič P., Despot Z. Tito. Strogo poverljivo. S. 102, 103.
266
Dilas M. Tito. S. 114.
267
Deakin F. IE Yugoslavia. The British Image of Yugoslav Communism (1921–1941). P. 21.
268
Dedjer V. Novi prilozi. Vol. II. S. 936.
269
РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 411. C. 66; Гиренко Ю. С. Сталин – Тито. С. 56; AS. Dedijer. T. e. 111. Magnetofonska snimka. S. 82.
270
EiletzS. Titova skrivnostna leta. S. 74–76, 91; РГАСПИ. Ф. 575. Оп. 1. Д. 411. C. 113117.
271
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 74. Д. 591. C. 14.
272
Dedijer V. Novi prilozi. Vol. III. S. 56.
273
Swain G. R. Tito and the Twilight. P. 212.
274
AS. Dedjer. T. e. 111. Magnetofonska snimka. S. 85.
275
Eiletz S. Titova skrivnostna leta. S. 106, 107; Simič P. Tito. Skrivnost stoletja. S. 141; Simič P., Despot Z. Tito. Strogo poverljivo. S. 95; Dedijer V. Novi prilozi. Vol. III. S. 26; Cencič V. Titova poslednja ispovijest. S. 88, 92; Idem. Enigma. Vol. I. S. 101, 107–112; Гиренко Ю. С. Сталин – Тито. С. 79, сн. 5; AS. Dedijer. T. e. 236. Pismo Stevana Popoviča – Dilasu, 15.03.1984.
276
Dedijer V. Novi prilozi. Vol. III. S. 56; Spomini tovariša Tita na slavno preteklost; AS. Dedijer. T. e. 223. Izjava J. Kopiniča 23.03.1988, Dilas – Petko Miletič.
277
Cenčič V. Enigma. Vol. I. S. 95.
278
AJ. 837. KPR. IV-5-b. K 49. Zabeleška J. Vilfana na vreme provedeno u SSSR. 21.12.1953; Spomini tovariša Tita na slavno preteklost; Cenčič V. Enigma. Vol. I. S. 113.