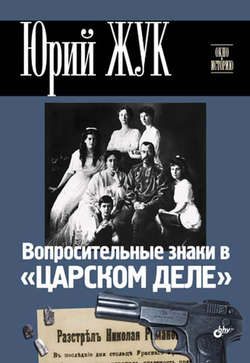Читать книгу Вопросительные знаки в «Царском деле» - Юрий Жук - Страница 3
Глава 1
Почему Британский Лев не пришёл на помощь Двуглавому Орлу? (Планы союзников по спасению Царской Семьи)
ОглавлениеСобытия Февральской революции и отречение от Российского Престола Государя Императора Николая II не было полной неожиданностью для международного сообщества.
Но любая революция – это, прежде всего, политическая ситуация с непредсказуемыми последствиями, которые, в свою очередь, создают немыслимое количество проблем. Так случилось и с русской революцией 1917 года, которая быстро доказала всему миру, что она не собирается развиваться по чьему-либо сценарию. Помимо политических обстоятельств, Германия, союзники и Япония, а также несколько других наций, всё ещё имели некоторые связи с Царём. Одни – были связаны союзническими обязательствами, другие – родственными узами, третьи – и тем, и другим.
После произошедших в феврале 1917 года революционных событий большинство правительств на Западе выражало надежду, что, захватившее власть новое Временное Правительство, останется верным союзническому долгу и заставит русскую военную машину действовать в своих интересах более решительно. И действительно, возглавивший Кабинет Министров Князь Г. Е. Львов был сторонником продолжения войны с Германией, что в немалой степени успокоило опасения общественности союзных России государств, большая часть которой поддалась на провокацию в виде необоснованного слуха, что Государь Император Николай II может подписать сепаратный мир с Германией. Но для германского правительства революция 1917 года в том виде, в каком она произошла, не предвещала ничего, кроме поражения в войне. К тому же Германия имела свои собственные планы относительно России, в которых не отводилось места для Временного Правительства.
Но в то самое время, когда Германия при активной поддержке большевистских лидеров изо всех сил пыталась свергнуть Временное Правительство, многие британские и американские официальные лица наивно верили, что новое правительство России ведёт её курсом просвещения и демократии[2].
В действительности же революция в России была сделана при помощи не только германских, но и американских денег. Однако отсюда отнюдь не следует, что эти деньги были деньгами правительства Северо-Американских Соединённых Штатов (САСШ).
Существует также неподтвержденная версия, что международное банковское сообщество, включавшее в числе прочих Банковские дома Куна и Леба в Америке и Ротшильда в Германии, оказало значительную поддержку усилиям большевиков в России. Ведь свергнутый царский режим в России долго преследовал евреев, и возможность поквитаться с ним, нанести ему смертельный удар, могла приветствоваться некоторыми банкирами еврейского происхождения в Соединённых Штатах. Так, американский банкир еврейского происхождения Якоб Шифф из Банка «Кун энд Леб», очевидно, имел личные причины для поддержки свержения царя. Поскольку Лейба Троцкий (Л. Д. Бронштейн), предположительно, во время своего пребывания в Америке находился в компании Я. Шиффа, некоторые историки, не имея, правда, тому доказательств, не без основания считают, что банкир персонально финансировал «демона революции». Но одно совершенно точно – Я. Шифф поддерживал Временное Правительство в 1917 году[3].
Немного ранее Я. Шифф играл значительную роль в финансировании успешных японских военных усилий против России в 1904 и 1905 годах. А в 1915 году, когда лорд Руфус Даниэль Исаакс Ридинг – последний британский посол в САСШ – пытался собрать заём для сил Антанты в Америке, Я. Шифф внёс вклад при условии, что ни одного цента из этих денег не пойдет в Царскую Россию. Но задуманное сработало в обратную сторону, поскольку Р. Ридинг (который также был еврейского происхождения) не потерпел никаких условий, которые исключали бы союзников. А когда об этом узнала широкая общественность, Я. Шифф подвергся сильным атакам в прессе и был «окрещён» сторонником Германии. И хотя нельзя исключить возможность того, что Я. Шифф изначально поддерживал революцию, но уже в конце 1917 года можно было увидеть, что многие представители еврейского истеблишмента предлагали свою поддержку в свержении большевистского правительства.
В связи с этим следует отметить, что президент Вудро Вильсон был выбран американцами на платформе, которая обещала стране, что Северо-Американские Соединённые Штаты будут всегда сохранять свою позицию изоляции и при любых условиях находиться вне театра военных действий Первой мировой войны. Но пока Америка выжидала, один из ближайших советников президента В. Вильсона – Чарльз Крейн – на основе своей долгой дружбы с лидерами пришедшего к власти Временного Правительства начал призывать президента изменить курс американской политики по отношению к России. Мотивом к этому послужило свержение Царского режима и «воцарение» демократического правительства, союзнические отношения с которым могли для САСШ открыть путь для вступления в войну на стороне другого, уже не автократического, а демократического правительства.
Чарльз Крейн был промышленником, миллионером и владельцем концерна «Крейн пламбинг» в Чикаго. Относясь весьма критично к проводимому Царским правительством политическому курсу в отношении Америки, он считался человеком, одним из наиболее знающих русские дела. После событий Февральской революции президент В. Вильсон предложил Ч. Крейну занять место американского посланника в России, но последний отказался по личным мотивам. Однако это обстоятельство не помешало ему стать «зодчим» русской политики В. Вильсона. От имени президента Ч. Крейн выбрал на роль посланника в Россию Джорджа Т. Мери из Сан-Франциско, а его помощником – профессора Самуила Харпера.
Таким образом, Ч. Крейн вскоре стал одним из тех людей, которые помогли спроектировать повторное избрание В. Вильсона, а когда Д. Мери ушел в отставку, Ч. Крейн снова «сосватал» на это место будущего посла Дэвида Френсиса из Сан-Луиса, кандидатура которого впоследствии была утверждена В. Вильсоном.
С Россией, по которой Ч. Крейн считался специалистом, он впервые познакомился в 1888 году, находясь в гостях у своего кузена Томаса Смита – сына его родственника по материнской линии, который жил в Москве и был близок ко Двору. (В своих письмах из Москвы Ч. Крейн выражал интерес ко многим сторонам русской жизни.) Столицу Российской Империи Санкт-Петербург Ч. Крейн впервые посетил в 1894 году, остановившись в Гранд-отеле «Европа». (Именно там завязались его первые знакомства с приближенными ко Двору людьми, связи с которыми он тогда называл «близостью к внутреннему кругу Царя и Царицы».) Примерно в это же время началась его дружба с Графом Я. Н. Ростовцевым, Заведующим Канцелярией Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны и Её Личным Секретарём. С годами эта дружба крепла, что в конечном итоге привело к тому, что в верхних эшелонах власти Ч. Крейна стали считать одним из ближайших друзей России.
Наряду с влиянием этого человека крепло и его материальное положение. Так, во время строительства Транссибирской железной дороги, начатого в 1891 году, Ч. Крейн был ответственным за переговоры по подписанию контракта на разработку и поставки пневматических тормозов для вагонов между компаниями «Крейн Компани» и «Вестингауз». А в разгар Русско-японской войны Ч. Крейн убедил руководство компании «Вестингауз» выделить значительные средства на организацию госпиталя для раненых и больных воинов под покровительством Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.
Во время своих более чем двадцати поездок в Россию с 1888-го и вплоть до революции 1917 года, Ч. Крейн также имел знакомства с некоторыми из членов будущего Временного Правительства: Г. Е. Львовым, А. И. Гучковым и др. Прямое подтверждение этому – знакомство с письмами Ч. Крейна за 1916–1917 годы, из которых становится ясно, что лидеры Февральской революции пользовались его поддержкой. А, благодаря его близости к президенту В. Вильсону, – и фактической поддержкой правительства САСШ. Поэтому нисколько не удивительно, что после отречения Государя Императора Николая II и захвата власти Временным Правительством, один из протеже Ч. Крейна – Дэвид Френсис – примчался признавать последнее, позволяя, таким образом, САСШ стать первой страной, установившей дипломатические отношения с новой Россией. А вскоре за «дебютом» САСШ последовала и Великобритания.
Подобно В. Вильсону, Ч. Крейн стоял за концепцию самоопределения нации. Но в конце 1917 года ситуация в России не казалась такой простой, как в конце 1916-го и начале 1917-го, когда все верили, что Россия под новым руководством Временного Правительства стояла на пути к демократии и продолжению войны с Германией и Австро-Венгрией в полном объёме. Изначально также считалось, что в случае если это правительство потерпит фиаско, отрекшийся Государь и Его Августейшая Супруга могут быть снова восстановлены на Российском Престоле как конституционные монархи, либо, в противном случае, спокойно уехать в Англию.
* * *
Но если и существовал город, где падение Российской Монархии само по себе могло ожидаться с огромным страхом, так это был Лондон. И не только потому, что Государь Император Николай II был преданным союзником Антанты в войне против Германии. Просто Он и Государыня Императрица Александра Фёдоровна оказались связаны с Великобританией целой сетью родственных уз, поскольку оба Они для Короля Георга V были двоюродными братом и сестрой.
Мать Георга V, Королева Александра, была родной сестрой Августейшей Матери Государя Императора Николая II Вдовствующей Императрицы Марии Фёдоровны, что превращало Королеву Александру в тетю царя. Отец Георга V, Король Эдуард VII, был братом матери Государыни Императрицы Александры Фёдоровны, что, в свою очередь, делало его дядей Императрицы. А, кроме того, сестра Эдуарда VII, Королева Виктория, была замужем за Королем Фридрихом III Прусским, что делало мать Русской Императрицы, герцогиню Алису Гессенскую, тётей её сына Кайзера Вильгельма II. И, наконец, Августейшая Мать Государя Императора Николая II, Вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна, была сестрой Королевы-Матери Александры, тёти германского кайзера.
Как видно из сказанного, переплетение родственных уз европейской и российской монархических семей было весьма значительным. Но когда их страны столкнулись, Англия и Германия не захотели считаться с этими столь тесными связями.
Однако, прежде чем перейти к описанию происходивших далее событий, думается, следует пояснить некоторые обстоятельства, предшествующие таковым.
После подписания Манифеста об отречении уже бывший Государь Император Николай II направился в находившуюся в Могилеве Ставку Верховного Главнокомандующего, куда Он прибыл 3/16 марта 1917 года для прощания с войсками. Вероятнее всего, в первый день Его пребывания в Ставке в некоторых головах и зародилась мысль о необходимости временного отъезда Царской Семьи из России в Великобританию. Изначально таковая, вероятнее всего, принадлежит Начальнику Штаба Ставки Верховного Главнокомандования Генерал-Адъютанту М. В. Алексееву, а не генералу Д. Х. Вильямсу – главе Английской военной миссии при Ставке[4] – и уж, конечно, не Временному Правительству.
Обсудив этот вопрос с Государем и приняв от Него на сей счёт собственноручную записку, генерал М. В. Алексеев уже 4/17 марта 1917 года направил на имя Министра-Председателя Временного Правительства князя Г. Е. Львова телеграмму за № 54, в которой отразил три главных требования экс-Императора: «Отказавшись от Престола, Император просит моего сношения с Вами по следующим вопросам. Первое. Разрешить беспрепятственный проезд Его с сопровождающими лицами в Царское Село, где находится Его больная Семья. Второе. Обеспечить безопасное пребывание Его и Семьи с теми же лицами в Царском Селе до выздоровления Детей. Третье. Предоставить и обеспечить беспрепятственный проезд Ему и Его Семье до Романова на Мурмане с теми же лицами…». А от себя лично генерал М. В. Алексеев настоятельно ходатайствовал «… о скорейшем решении правительства указанных вопросов, что особенно важно для Штаба Верховного Главнокомандующего, как и для самого отрекшегося Императора»[5]. Ответа не последовало.
В этот же день к генералу М. В. Алексееву обратились начальники военных миссий со следующим заявлением:
«Дорогой генерал Алексеев!
Мы, начальники Союзных Военных Миссий, предлагаем, – при условии, что по Вашему мнению, правительство на это условие согласится и что будет принято решение о отъезде Его Величества в Царское Село, – сопровождать его до Царского Села.
Мы полагаем, что это является нашим долгом, ввиду тех отношений, которые существовали между нами и Государем Императором, когда Его Величество был Верховным Главнокомандующим, и что долг этот будет признан правительством.
При указанных условиях мы просим Вас содействовать этой поездке.
Примите, дорогой генерал, наш искренний привет.
Хенбри, Вильямс, Жанен, Коанда, Ромен, барон де Риккель»[6].
В своём ответном послании, адресованном английскому генералу Д. Х. Вильямсу, Генерал-Адъютант М. В. Алексеев сообщал, что: «… эта поездка неудобна. Мне придётся сноситься с Временным Правительством, что может вызвать задержку отъезда Государя Императора».
Обеспокоенный задержкой ответа, генерал М. В. Алексеев уже на следующий день (5/18 марта 1917 г.) дублирует ранее поданную телеграмму, адресуя её уже на два имени: Министра-Председателя Временного Правительства князя Г. Е. Львова и Председателя Государственной Думы М. В. Родзянко: «В дополнение своей телеграммы от 4 марта № 54 очень прошу ускорить разрешение поставленных вопросов и одновременно командировать представителей для сопровождения поездов отрекшегося императора до места назначения».
Наконец 6/19 марта 1917 года от Временного Правительства был получен долгожданный ответ:
«Его Императорскому Величеству.
Шифрованная телеграмма Председателя Совета Министров князя Львова Генерал-Адъютанту Алексееву из Петрограда от 6 марта 1917 года.
Временное Правительство разрешает все три вопроса утвердительно; примет все меры, имеющиеся [в] его распоряжении: обеспечить беспрепятственный проезд [в] Царское Село, пребывание [в] Царском Селе и проезд до Романова – [на] Мурмане. № 938
Министр-председатель князь Львов
Верно: Генерал-Лейтенант Лукомский».
То есть, как и подтвердили все дальнейшие события, Временное Правительство с самого начала не желало видеть отрекшегося Императора, проживающим со Своей Семьёй в Крыму.
Но день 6/19 марта 1917 года был ознаменован ещё одним важным событием – телеграммой Короля Георга V, отправленной в Могилёв на имя генерала Д. Х. Вильямса с последующей передачей отрекшемуся Государю[7]:
«События последней недели меня глубоко взволновали. Я думаю постоянно о тебе и остаюсь всегда верным и преданным другом, каким ты знаешь, я был и раньше».
Но известно также и то, что Д. Ллойд Джордж, узнав о падении Российской Монархии, воскликнул с радостью: «Одна из целей войны, для Англии, наконец, достигнута!»
И, наконец, в этот же день Министр Иностранных Дел Временного Правительства П. Н. Милюков встретился с английским посланником Джорджем Бьюкененом[8][9], у которого поинтересовался, как Британия воспримет отъезд Царской Семьи из России к берегам туманного Альбиона, надеясь, что у Великобритании на этот счёт есть какой-то план. Но поскольку никаких таких планов не существовало вовсе, обескураженный Д. Бьюкенен смог лишь ответить П. Н. Милюкову, что он сейчас же поднимет этот вопрос перед Министерством иностранных дел в Лондоне.
На следующий день (7/20 марта) Д. Бьюкенен вновь встретился с П. Н. Милюковым и в ходе состоявшейся беседы спросил последнего, соответствуют ли правде сообщения прессы о том, что бывший Царь арестован. Зная истинное положение вещей, П. Н. Милюков, тем не менее, решил солгать, ответив, что данная информация не совсем правильна, так как бывший Император будет доставлен в Царское Село не под арестом, а в сопровождении соответствующего эскорта, назначенного генералом М. В. Алексеевым.
Описывая эти дни на страницах сборника «Издалека», находившийся в эмиграции А. Ф. Керенский, вспоминал, что 7/20 марта он был в Москве и выступал на заседании Московского Совдепа. Отвечая там на яростные выкрики с мест: «Смерть царю!», «Казните царя!», – он сказал: «Этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное Правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьёй будет отправлен за границу, в Англию. Я сам довезу его до Мурманска».
8/21 марта Д. Бьюкенен телеграфирует в Лондон вторично, сообщая при этом, что П. Н. Милюков «… очень хотел бы, чтобы Его Величество покинул Россию» и «был бы рад, если бы Английский король и английское правительство предложили бы Царю убежище в Англии»[10].
На сей раз ответ пришёл быстро. В этот же день Министр иностранных дел Великобритании лорд Артур Бальфур сообщил, что его правительство ещё не подготовило приглашение Русскому Царю и, может быть, было бы лучше, если бы он подумал о том, чтобы направиться в Данию или Швейцарию. То есть на тот день это означало официальную позицию Лондона!
В самой же Англии отношение к отрекшемуся Императору было весьма противоречивым. Мировая революция витала в воздухе, и антимонархические чувства всё усиливались. Поэтому переговоры относительно безопасного проезда Царской Семьи Романовых в Англию затягивались. Не следует также забывать, что коалиционное правительство под руководством Премьер-министра Великобритании сэра Дэвида Ллойд Джорджа имело основания быть обеспокоенным предоставлением убежища родственникам короля Георга. При этом под угрозой забастовок социалистически настроенных рабочих, способных остановить предприятия промышленности, Д. Ллойд Джордж не мог действовать открыто.
Опасения Д. Ллойд Джорджа сочетались также с сомнениями самой Британской королевской семьи. Ведь в своё время гражданская война в Англии привела к отсутствию монарха на протяжении почти 10 лет, а более новые события французской революции (а теперь и неприятности самой Царской Семьи) наглядно продемонстрировали, сколь хрупкой в быстро изменяющейся политической ситуации может стать монархическая структура, даже существующая в течение более трехсот лет. Так что король Георг V нисколько не сомневался в том, что любая монархия может быть очень быстро свергнута с престола, примером чему стала Россия, в которой всего несколько лет назад прошли помпезные торжества по случаю 300-летия Российского Императорского Дома Романовых. Поэтому, несколько забегая вперёд, можно сказать, что едва начавшиеся переговоры относительно отправки Царской Семьи в Великобританию, можно сказать, заглохли, не успев начаться. Но об этом чуть далее.
Впрочем, нельзя также утверждать и то, что судьба Царской Семьи была столь уж безразлична для Британской Королевской Семьи. Так, личное беспокойство о Ней Королевы-Матери Александры впервые проявилось в официальных записях, когда Министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Бальфур написал меморандум личному секретарю королевы сэру Артуру Дэвидсону относительно аспекта, который, быть может, и не приходил в голову королю Георгу.
Своей сестре – Вдовствующей Императрице Марии Фёдоровне – Королева-Мать посылала слова поддержки, что не могло не обеспокоить как британское, так и русское правительство. А сэр А. Бальфур впоследствии даже напишет, что: «Правительство очень оценило бы, если бы не возникло мнения, что из Англии не оказывается влияние с целью восстановить императорский режим».
Проблема заключалась в том, что если Исполком Петроградского Совдепа посчитал бы, что зарубежные государства вмешиваются в ситуацию и поддерживают старый режим, то англо-русский союз и продолжение войны Россией могли быть уничтожены взрывом народного гнева. А это грозило стать ни с чем не сравнимой катастрофой. В связи с этим сэр А. Бальфур признавал, что:
«Безопасность всей Императорской Семьи зависит в значительной степени от строжайшего и очень аккуратного предотвращения какой-либо формы вмешательства или выражения мнения Англии, особенно королем, королевой или королевой Александрой. Даже простейшие послания с выражением симпатии могут быть легко искажены, и рассматриваться с политической точки зрения».
И для этого имелись веские основания. Ведь в тот день, когда Государь прибыл в Ставку, Исполком Петроградского Совдепа, учитывая требования, выдвинутые на многочисленных митингах и собраниях, включил в повестку дня от 3 марта 1917 года вопрос «Об аресте Николая и прочих членов династии Романовых». В ходе продолжительного и бурного обсуждения было дословно следующее постановление:
«Слушали: Об аресте Николая и прочих членов династии Романовых.
Постановлено:
1). Довести до сведения Рабочих Депутатов, что Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских депутатов постановил арестовать династию Романовых и предложить Временному Правительству произвести арест совместно с Советом Рабочих Депутатов. В случае же отказа запросить, как отнесётся Временное Правительство, если Исполнительный Комитет сам произведёт арест. Ответ Временного Правительства обсудить вторично в заседании Исполнительного Комитета».
Специальные же пункты этого постановления касались ареста Великих Князей Михаила Александровича и Николая Николаевича. А, кроме того, в нем указывалось особо, что: «Арест женщин из Дома Романовых производить постепенно, в зависимости от роли каждой в деятельности старой власти». Производство и организацию этих арестов поручалось разработать Военной Комиссии Петросовета, а само постановление Председатель Исполкома Петросовета меньшевик Н. С. Чхеидзе довел до сведения Временного Правительства.
6/19 марта 1917 года на своем заседании Исполком Петроградского Совдепа заслушал заявление Н. С. Чхеидзе по результатам его переговоров с Временным Правительством относительно «… ареста дома Романовых». Н. С. Чхеидзе доложил, что какого-либо окончательного ответа по этому вопросу Временное Правительство не дало, сообщив также о поступившем от генерала М. В. Алексеева заявлении, сделанном от имени Николая Романова, о желании того прибыть в Царское Село. Результатом же этого заседания было постановление «О принятии мер к аресту Николая Романова».
Узнав о таком «либеральном» решении Исполкома, не отвечающем агрессивным настроениям революционных масс, 85 членов Петросовета 7/20 марта 1917 года сделали своему Исполнительному Комитету в ультимативной форме заявление, в котором предлагали последнему потребовать от Временного Правительства принятия безотлагательных и самых решительных мер «к сосредоточению всех членов дома Романовых в одном определённом пункте под надёжной охраной Народной Революционной Армии».
Под сильным нажимом Петросовета, а также не желая выступать в роли «спасителей монархии», предающих интересы революции, Временное Правительство было вынуждено рассмотреть в этот же день вопрос «О лишении свободы отрекшегося императора Николая II и его супруги» и постановить:
1) Признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишёнными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село.
2) Поручить генералу Михаилу Васильевичу Алексееву предоставить для охраны отрекшегося императора наряд в распоряжение командированных в Могилёв членов Государственной Думы: Александра Александровича Бубликова, Василия Михайловича Вершинина, Семёна Фёдоровича Грибунина и Савелия Андреевича Калинина.
3) Обязать членов Государственной Думы, командируемых для сопровождения отрекшегося императора из Могилёва в Царское Село, представить письменный доклад о выполненном ими поручении.
4) Обнародовать настоящее постановление.
Выполнение же постановления об аресте Государыни Императрицы Александры Фёдоровны было поручено Командующему войсками Петроградского военного Округа Генерал-Лейтенанту Л. Г. Корнилову, знаменитому своим побегом из австро-венгерского плена.
8/21 марта Генерал Л. Г. Корнилов приехал в Царское Село и, расставив часовых в Александровском Дворце и парке, объявил Императрице, что Она находится под арестом. И хотя эта мера была предпринята под нажимом Исполкома Петросовета, однако в действительности таковая обеспечивала безопасность Царской Семьи, ибо Царскосельский гарнизон к тому времени стал вести себя дерзко и угрожающе. А, кроме того (как вспоминал впоследствии Гофмаршал Высочайшего Двора Граф П. К. Бенкендорф), он посоветовал Государыне при первой же возможности перевезти семью в Романов на Мурмане, чтобы оттуда отправиться в Англию.
Реакция Лондона была быстрой. Получив запрос Д. Бьюкенена, 9/22 марта 1917 года Премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж, министр финансов Бонар Лоу, личный секретарь короля Георга V лорд Стэмфордхем и директор Министерства иностранных дел лорд Хардинг провели беседу, итогом которой стало решение предложить отрекшемуся Государю и Его Семье политическое убежище в Англии до окончания войны.
В тот же самый день Министр иностранных дел А. Бальфур отправил в Санкт-Петербург телеграмму, уведомлявшую Д. Бьюкенена о принятом решении, в которой говорилось:
«В ответ на просьбу русского правительства Его Величества охотно предлагают Императору и Императрице убежище в Англии на время войны и надеются, что они воспользуются им. (…) По дальнейшем рассуждении было решено, что для Императора было бы предпочтительней приехать во время войны в Англию, чем в какую-либо иную страну, граничащую с Германией. Возникли опасения, как бы под влиянием Императрицы пребывание в Дании или Швейцарии не стало средоточием интриги, и что в руках мятежных русских генералов Император может стать главой контрреволюции. Это сыграет на руку Германии и создаст риск, которого следует избежать любой ценой».
В телеграмме также уведомлялось и о том, что, передавая об этом решении Временному Правительству, сэр Джордж должен подчеркнуть особо, что это предложение является лишь ответом на его запрос.
Но как бы там ни было, приглашение было сделано, и казалось, теперь всё было готово для того, чтобы Государь и Его Семья могли отправиться в почётное изгнание в Англию. Но судьбе было угодно распорядиться по-своему.
Однако при всём при этом нельзя также забывать и о том, что принимая данное решение, английское правительство нисколько почти не сомневалось в том, что депортируя Царскую Семью в Великобританию, Временное Правительство сделает это быстро и без проволочек.
«Мы полагаемся на то, – говорил, обращаясь к П. Н. Милюкову, Д. Бьюкенен, – что Временное Правительство примет необходимые меры к охране Императорской Семьи», а затем «выразил надежду, что приготовления к отъезду Их Величеств в порт Романов будут сделаны без проволочки. Мы полагаемся, что если с Нею случится какое-либо несчастье, то правительство будет дискредитировано в глазах цивилизованного мира».
Следующая встреча П. Н. Милюкова с Д. Бьюкененом состоялась 13/26 марта 1917 года, во время которой он сообщил, что Государь и Его Семья ещё ничего не знают о проектируемом путешествии, поскольку это несколько преждевременно. А в качестве аргументации в пользу данного положения вещей пояснил, что для этого необходимы, как минимум, два момента: во-первых, преодоление сопротивления Петроградского Совета, а также полное выздоровление переболевших корью Августейших Детей, так как: «Их Величества ни в коем случае не могут выехать прежде, чем Их Дети не оправятся». Таким образом, дело затягивалось.
По прошествии лет Д. Бьюкенен вспоминал:
«Я не раз получал заверения, что нет никаких оснований беспокоиться за Императора, и нам не оставалось ничего более делать. Мы предложили убежище Императору по просьбе Временного Правительства, но так как противодействие Совета, которое оно напрасно надеялось преодолеть, становилось всё сильнее[11], то оно не отважилось принять на себя ответственность за отъезд Императора и отступило от своей первоначальной позиции. И мы должны были считаться с нашими экстремистами, и для нас было невозможно взять на себя инициативу, не будучи заподозренными в побочных мотивах. Сверх того, нам было бесполезно настаивать на разрешении Императору въехать в Англию, когда рабочие угрожали разобрать рельсы впереди его поезда. Мы не могли предпринять никаких мер к Его охране по пути в порт Романов. Эта обязанность лежала на Временном Правительстве. Но так как оно не было хозяином в собственном доме, то весь проект, в конце концов, отпал».
В свою очередь, находясь в эмиграции, А. Ф. Керенский в одном из интервью так объяснял причины произошедшего:
«Что же касается эвакуации царской семьи, то мы решили отправить их через Мурманск и Лондон. В марте 1917 года получили согласие британского правительства, но в июле, когда всё было готово для проезда поезда до Мурманска и министр иностранных дел Терещенко отправил в Лондон телеграмму с просьбой выслать корабль для встречи царской семьи, посол Великобритании получил от Ллойд Джорджа ясный ответ: британское правительство, к сожалению, не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны».
Так почему же так изменились настроение британского правительства и позиция Георга V? А вот почему.
Вызванное войной напряжение в обществе привело многие страны Европы к критической точке. Колоссальный масштаб потерь, дефицит, ведущий к потенциальному голоду, и увеличивающаяся бесцельность войны создавали благоприятную почву для массовых беспорядков.
Весной 1917 года эти беспорядки распространились по всей Европе. Своего кризиса они достигли в России, но и правители, и массы других стран Европы знали, что ни одно государство не могло надеяться на продолжение войны без поддержки народа. Британия же, как держава, не в большей степени, чем прочие страны, обладала иммунитетом по отношению к этой тенденции, которая установилась в Европе. В связи с этим обстоятельством Начальник Королевского Генерального штаба Великобритании генерал сэр Уильям Робертсон писал главнокомандующему союзническими войсками Франции маршалу сэру Дугласу Хейгу:
«Я боюсь, что мы не можем уйти от того факта, что в стране существует определенное волнение, которое частично является результатом русской революции. Последнее время были очень серьезные забастовки, и еще остается очень много недовольства».
И это было правдой, так как не менее значимые волнения стали происходить в стране, куда должен был прибыть бывший русский Император и Его Семья.
В то же самое время Король Георг V получал много писем, протестующих против идеи приезда Царской Семьи в Англию, в связи с чем его собственные дурные предчувствия только увеличивались. В результате Георг V в конце марта 1917 года повелел своему личному секретарю лорду Стэмфордхему написать Министру иностранных дел лорду А. Бальфуру письмо, суть которого сводилась к следующему:
«Король много размышлял о предложении своего правительства о предоставлении убежища бывшему Императору Всероссийскому Николаю II и Его Семье; Короля также не оставляет мысль, целесообразно ли это, – “не только по причине опасности путешествия, но принимая во внимание также обыкновенную целесообразность”; поэтому Король и просит своего министра посоветоваться по этому вопросу с Премьер-министром».
2 апреля 1917 года Министр иностранных дел лорд А. Бальфур ответил Королю Георгу V, что отозвать назад официальное приглашение британского правительства уже невозможно, посему правительство Его Величества надеется на то, что Король Георг V не изменит своего первоначального намерения пригласить экс-Императора и Его Семью. Поначалу Король Георг V смирился с этим решением, но уже 6 апреля он, опять-таки через своего секретаря, обратился к лорду А. Бальфуру, и причём дважды, поскольку именно в этот промежуток времени он получил письма от двух лордов, в которых говорилось о растущем среди английской общественности недовольстве тем, что Романовы могут оказаться в Англии.
Но вот что интересно. Уже в первом письме к лорду А. Бальфуру Король Георг V подчёркивал, что он постоянно думает о том, каким образом экс-Император и Его Семья должны прибыть в Англию. (Недовольство общественности было бы действительно неприятно для Королевской семьи, равно как и то, что английский народ мог подумать, что именно он – Король Георг V – является инициатором приглашения своего кузена.) Поэтому король желает, чтобы было рассмотрено «иное решение, касающееся будущего места проживания Их Императорских Величеств». В постскриптуме же к этому письму он подчеркнул особо, что не Король, а его правительство пригласило Царскую Семью…
Во втором же своём письме к лорду А. Бальфуру от 6/19 апреля Король Георг V уже более решительно подошёл к сути данной проблемы, а именно – просил обратить внимание премьер-министра на то, что пребывание Царя в Англии «…могло бы скомпрометировать положение Короля и Королевы».
Обсуждая данную ситуацию в Кабинете министров, Д. Ллойд Джордж, видимо желавший услужить своему монарху, выдвинул Его требования от своего имени, а также скрыл сам факт давления, оказываемого на него и лорда А. Бальфура Королем Георгом V. Позиция монарха, озвученная в сделанном Д. Ллойд Джорджем заявлении, полностью совпадала с мнением левоориентированных министров, также протестовавших против того, чтобы Русский Царь и Его Семья прибыли бы в Англию.
«Российская Империя, – говорил Д. Ллойд Джордж в своём выступлении, вопреки реальности, – это неспособный к плаванию корабль. Каркас прогнил и команда не лучше. Капитан мог ставить паруса только в штиль (…) А Царь был всего лишь короной без головы»[12].
Результат же этой политической интриги немедленно нашёл своё отражение в Петрограде – английский посланник Д. Бьюкенен был проинструктирован о том, что сопротивление приезду Царской Семьи на берега туманного Альбиона стало настолько сильным, что Англия должна получить право «…отозвать обратно ранее данное согласие на предложение русского правительства»[13]. А вскоре после этого Д. Бьюкенен получил ещё одну инструкцию – более не затрагивать эту тему в отношениях с русским правительством, и при очередной встрече с П. Н. Милюковым заявил, что Правительство Его Величества больше не хочет «настаивать» на отъезде Царской Семьи в Англию, а вместо этого британское правительство предлагает, чтобы Царь и Его Семья выехали бы во Францию.
15 апреля Д. Бьюкенен ответил лорду А. Бальфуру, что он совершенно согласен с новым планом. Но британский посланник в Париже лорд Френсис Берти не разделял точку зрения последнего, считая, что пребывание отрекшегося Императора во Франции также крайне нежелательно, о чём сообщил в телеграмме лорду А. Бальфуру:
«Я не верю, что бывшего Царя и Его Семью ожидает здесь тёплый приём. (…) Царицу они не только по рождению, но и по сути относят к проклятым бошам. Она, как Вам известно, сделала всё для достижения соглашения с Германией. Её считают преступницей или душевнобольной, а бывшего Царя – преступником, в то же время полностью находящимся у Неё под каблуком и делающим то, что Она внушает.
Искренне Ваш Берти».
Но, несмотря на это, Посланник и Полномочный Министр России в Лиссабоне П. С. Боткин (родной брат убитого в Екатеринбурге Е. С. Боткина) непрерывно просил французское правительство предоставить царю политическое убежище и тем самым спасти ему жизнь. Его первое обращение к французскому правительству датировано 12/25 июня 1917 года, а последнее – 20 июня/2 июля 1918 года, то есть непосредственно перед убийством Государя и Его Семьи. Но все его попытки были тщетны[14].
И, тем не менее, обмен письмами между королевскими родственниками продолжался. 9/22 апреля 1917 года Д. Бьюкенен сказал лорду А. Бальфуру:
«Я не вижу причины, почему я не могу переадресовывать письма, которые я получаю, членам Императорской Семьи и родственникам в Англию, поскольку это не может скомпрометировать правительство, если получающие письма будут предупреждены о том, что необходимо хранить эти письма в секрете».
Но, несмотря на внешне кажущуюся видимость поддержки близких родственных отношений между королевскими и императорскими домами, здесь всё же нельзя не отметить один весьма интересный факт. В июле 1917 года король Георг V объявил, что изменяет название династии с германской Саксен-Кобург-Готской на Виндзорскую. А это более чем наглядно указывает на то, что изменение фамилии и противодействие приезду Царской Семьи в Англию – не что иное, как неуклюжая попытка Короля Георга V дистанцироваться от своих Августейших родственников.
Все эти межродственные интриги и закулисные политические игры Короля Георга V и Кабинета министров Его Величества привели к тому, что, как уже говорилось ранее, находящийся в Петрограде Д. Бьюкенен оказался в весьма неудобном положении. И, в конце концов, для большинства политиков стало очевидно, что, принимая Царскую Семью в Англии, можно поставить под угрозу не только самое сердце английской демократии (выражавшееся в данном случае в политике невмешательства в дела страны-союзницы), а также и саму английскую монархию. И именно поэтому Король Георг V через членов своего Кабинета Министров сумел, всё-таки, добиться отзыва ранее данного предложения. Однако есть, всё же, большая разница между публичным отзывом официального предложения убежища, данного правительством Великобритании, и персональным отказом «кузена Джорджи», который является всего лишь главой союзной нации. И, добившись желаемого, Король Георг V, как и прежде, продолжет проявлять беспокойство судьбой императорской семьи в кругу своих ближайших родственников. А хранящаяся в фонде № 601 (Николай II, император 1868–1918) Государственного архива РФ переписка Государя с Его английским кузеном (Королем Георгом V) за означенный период – только лишнее подтверждение этому.
В отличие же от личной переписки, официальные бумаги указывают нам на совсем другую картину. Между тем временем, когда поступило предложение о предоставлении бывшему Императору и Его Семье политического убежища в Англии, и трагической екатеринбургской ночью 4/17 июля 1918 года, Царь и Его Семья лишь дважды упоминаются в существующих записях общения между Королём Георгом V и его министрами. Одна из них относится к лету 1917 года, когда Георг V спросил у Форин Офиса: правда ли, что Николай II был переведён в Тобольск?[15] А другая – к маю 1918 года, в которой Он делает свой запрос в МИД Великобритании с просьбой проверить, насколько хорошо обращаются с Царской Семьёй.
Однако рыцарское поведение Короля Георга V в деле оказания помощи другим Своим родственникам в период с 1917 по 1922 год никак не укладывается в рамки неуклонно проводимой Им собственной линии в деле «спасения Царской Семьи», что в свою очередь позволяет предположить, что в данном случае имела место ещё какая-то скрытая причина. Ведь шутка ли сказать, Государь Император Николай II был не только его кузеном, но еще и Фельдмаршалом Королевской Британской Армии, жезл которого генерал Пэджет и лорд Пэмброк вручили Ему в Ставке всего лишь в феврале 1916 года. А раз так, то Король Георг V уж тем более должен был приложить все усилия для того, чтобы спасти не только Своего Августейшего родственника, но и человека, имевшего в английской армии наивысший воинский чин. Так что, английский король не был человеком чести? Но все остальные факты как раз говорят об обратном. Ведь Король Георг V по меньшей мере трижды распространял свою защиту на суверенов, которые были гораздо более отдалены от Него и к тому же находились с Ним в менее родственной связи, нежели экс-Император и Его Августейшая Супруга. Так, например, Он согласился на секретный план союзников спасти Румынскую Королевскую Семью, когда ей угрожало пленение в ходе наступления германских армий зимой 1917 года. А ещё личная защита Георга V простиралась даже на монархов, которые во время войны были его врагами, – как, например, в случае с Австро-Венгерским Императором Карлом в 1919 году. После свержения монархии в этой стране бывший монарх Карл и Его Семья жили в одной из австрийских провинций и находились, прямо скажем, в состоянии постоянной физической опасности, поскольку группы дезертировавших с фронта солдат бывшей Австро-Венгерской армии бродили в окрестностях этих мест. По приказу Короля Георга V к Карлу и Его Семье был направлен один из английских офицеров, который выполнял функции личного телохранителя, а также оказал существенную помощь в деле отъезда бывших венценосных особ из новой Австрийской республики.
А немногим ранее, в 1918 году, Король Георг V пытался увезти от опасности Свою тётю – Вдовствующую Императрицу Марию Фёдоровну (Мать Государя Императора Николая II), которая большую часть этого года прожила в Крыму. Правда, англичан чуть было не опередили германские войска, оккупировавшие немногим ранее Крым и прибывшие туда как раз в тот момент, когда весной 1918 года представители Ялтинского Совдепа пытались насильно захватить Дюльберских пленников. Во избежание дальнейших недоразумений 1 ноября 1918 года Главнокомандующий Королевского Британского Средиземноморского Флота вице-адмирал Калторп получил от Адмиралтейства письмо следующего содержания:
«ЧРЕЗВЫЧАЙНО СЕКРЕТНО. Его Королевское Величество очень озабочено тем, что должны быть предприняты шаги для защиты Вдовствующей Императрицы России и Её Семьи в случае, если германская гвардия отойдет. Считается, что до сих пор они защищали персону Ея Величества».
Вследствие этого Разведуправлением Королевского Британского Средиземноморского Флота в спешном порядке были разработаны планы для некой ночной миссии. В ранние утренние часы 21 ноября 1918 года командор Королевских Британских ВМФ Тертл и русский капитан 2-го ранга Коростовцев с борта английского королевского судна «Трибун» высадились на русский берег. Вскоре они были приняты Вдовствующей Императрицей, но, в соответствии с отчётом командора Тертла, Её Императорское Величество отказалась покинуть Крым и, несомненно, была очень оптимистична относительно ситуации в целом. Так, в частности, она верила, что Её Августейший Сын – экс-Император Николай II – жив. Отказав этим своим спасителям, Вдовствующая Императрица отказалась уехать и с другим потенциальным спасителем – английским полковником Джо Бойлом – канадским миллионером и авантюристом по натуре, ранее спасшим Румынскую Королевскую Семью и надеявшемся убедить Её покинуть Россию в этом ноябре. Но когда Вдовствующая Императрица всё же согласилась уехать в 1919 году, Она вместе со всеми Своими оказавшимися в Крыму родственниками, а также верными слугами, не пожелавшими покинуть своих прежних хозяев в трудный для них час, поднялась на борт британского дредноута «Мальборо», который и доставил их на Мальту, где располагалась одна из английских военно-морских баз[16].
Какие-либо письменные свидетельства о том, что Король Георг V консультировался с английским правительством по вопросам помощи Вдовствующей Императрице, на сегодняшний день неизвестны или не сохранились. Поэтому нельзя исключить возможности того, что Он был готов действовать и без санкции своего правительства, если бы Ему представилась такая возможность. А зная то, что Король Георг V именно так поступил в 1922 году (когда уже другой Его кузен – князь Андрей Греческий, сторонник одной из фракций, которую поддерживал Ллойд Джордж во время катастрофического вторжения в Турцию, стоял перед лицом смерти от рук греческих революционеров), эта версия принимает более четкие очертания. Не ставя в известность своё правительство, король просто взял и послал крейсер «Калипсо» в Афины, в результате чего князь Андрей Греческий был спасён.
Так что, с учётом личного участия Короля Георга V в оказании помощи другим Его родственникам, даже сегодня трудно поверить в то, что Он полностью отстранился от Своего участия в деле помощи Своему кузену и Его Семье, не пошевелив для этого даже пальцем…
Ответ на этот вопрос появился значительно позже. Д. Ллойд Джордж, МИД Англии, да и лично сам Д. Бьюкенен, спустя совсем короткое время, минувшее после произошедшей трагедии, в своих мемуарах всячески отрицали тот факт, что британское правительство и Король Георг V изменили своему первоначальному обещанию. Но в 1932 году дочь Д. Бьюкенена рассказала, что её отец сфальсифицировал свои воспоминания, чтобы сохранить в тайне то, что произошло в реальной действительности. А причина была проста – МИД Англии угрожало лишить его пенсиона в том случае, если он расскажет правду о том, каким образом британское правительство предало Русского Царя и Его Семью.
Вслед за ней, в 1935 году проговорился и личный секретарь Короля Георга V Гарольд Николсон, который рассказал, что в связи с этим делом король получал так много угроз, что, в конце концов, потерял мужество и предал своего кузена. А главное, что всё это с недавнего времени подтверждается рассекреченными архивами МИД Великобритании.
Но вернёмся в 1917 год. Вспоминая о тех днях, А. Ф. Керенский задает вопрос – кто был по-настоящему в ответе за отказ предоставления убежища в Англии? Он утверждает, что Министр иностранных дел М. И. Терещенко[17] получил доставленное ему послом Бьюкененом в конце июня или в начале июля 1917 года письмо именно по этому поводу. Он предполагает, что письмо содержало отказ от предоставления убежища вследствие «исключительно соображений внутренней политики». А. Ф. Керенский указывал также, что в этом письме было сказано следующее: «Премьер-министр не мог посоветовать Его Величеству предложить гостеприимство людям, чьи прогерманские симпатии были хорошо известны». И по утверждению того же А. Ф. Керенского, в результате отказа Англии Министр-председатель князь Г. Е. Львов поручил ему провести новые подготовительные мероприятия для удаления Царской Семьи в безопасное место.
И ещё. Ведя переговоры с Д. Бьюкененом, М. И. Терещенко был ознакомлен с письмом Короля Георга V, направленным ему через Его секретаря, в котором:
«Его Величество со своей стороны выражал сомнение, благоразумно ли было бы в настоящее время направлять в Англию Царскую Семью, учитывая не только рискованность в военное время путешествия, которое Ей предстоит совершить, но и в не меньшей степени – из более широких соображений национальной безопасности».
Теперь, конечно же, не вызывает сомнений тот факт, что довод насчёт «рискованности» переезда Царской Семьи был формальной отговоркой. И, тем не менее, М. И. Терещенко через датского посланника в Петрограде Харальда Скавениуса обратился к кайзеровскому правительству с секретным запросом – может ли Временное Правительство рассчитывать на безопасность бывшего Царя и Его Семьи, если Они будут отправлены морским путём в одну из западноевропейских стран? Ответ через Копенгаген пришёл в течение считанных дней:
«Императорское правительство считает своим долгом заверить, что ни одна боевая единица германского военно-морского флота не позволит себе напасть на какое бы то ни было судно, на палубе которого будет находиться Русский Император и Его Семья».
А теперь, на основании всего сказанного, немного забежим вперёд, чтобы подвести краткие итоги. Соучастниками убийства Царской Семьи в 1918 году можно было бы признать многих, но к их числу следует отнести и тех, кто своей пассивностью, нерешительностью или своим нежеланием что-либо делать, а также зависимостью от условностей или политической конъюнктуры в той или иной степени способствовал этой трагедии. И винить в этом следует не только марионеточное Временное Правительство, но также и английское, и французское правительства. А среди последних в первую очередь – английского Короля Георга V, поскольку Ему собственный статус оказался выше жизни Его двоюродного брата. А возмущённый настрой среди левоориентированных политиков и идеологов в этих двух странах не может служить личным оправданием того, чтобы предать даже не Государя, а просто человека и его семью – людей абсолютно безвинных, а кроме того, стоявших во главе союзнического государства, которое, кстати сказать, во исполнение союзнического долга, ради помощи Англии и Франции в войне с Германией, поставило на карту своё собственное существование.
И первым результатом сего явилась отправка Царской Семьи и верных слуг в далёкий Тобольск, откуда продолжится Их крестный путь восхождения на Уральскую Голгофу.
Но история, тем не менее, всё же донесла до нас косвенные указания на то, что Королём Георгом V были предприняты некоторые шаги к спасению Царской Семьи после Её ссылки в Тобольск и которые Он продолжал делать даже тогда, когда власть в России полностью перешла в руки большевиков.
* * *
Не меньшее беспокойство о дальнейшей судьбе России и безопасности Николая II выражала и Япония, которая незадолго до событий Февральской смуты подписала с Россией секретный договор. Суть его состояла в том, что обе страны обещали друг другу взаимную помощь и важные железнодорожные концессии, имея в виду в том числе и Китайско-Восточную железную дорогу – главную артерию русско-японских торговых путей. В свете этого соглашения, а также с учётом всех прочих связанных с ним обстоятельств, японское правительство было сильно обеспокоено произошедшими в России изменениями и, прежде всего, свержением Царского правительства, что, в свою очередь, могло привести к нарушению ранее достигнутых с Россией договорённостей. И именно поэтому оно со своей стороны заняло выжидательную позицию в вопросе официального признания Временного Правительства в качестве новой российской власти.
Наряду с этим, Япония также имела и другую проблему морального свойства, которая своими историческими корнями уходила в глубь времен. То есть в то время, когда бывший Наследник Цесаревич Николай Александрович посетил страну Восходящего Солнца. Совершая прогулку по городу Оцу 11 мая 1891 года, он был подвержен нападению со стороны одного из полицейских – Сандзо Цуду – в результате чего получил ранение головы. И хотя рана оказалась не столь уж серьёзной, она, всё же, оставила на время свой след величиной около десяти сантиметров на лбу и правой теменной части головы Наследника. Узнав об этом происшествии, Микадо Мутсохито был очень обескуражен, – наряду с глубокими связями, которые чувствуют между собой все монархи мира, такое грубое нарушение правил японского этикета вызвало у него ощущение сильной личной моральной ответственности за судьбу отрекшегося Государя.
* * *
Дальнейшие события, происходившие в России, выявили множество проблем самого разного характера, вследствие чего высшее руководство союзников быстро пришло к заключению, что безопасность Царской Семьи необходимо взять в свои руки. А поскольку Король Георг V и Кайзер Вильгельм II были оба вовлечены в эту войну и, к тому же, связаны между собой и Русским Императорским Домом Романовых самым близким родством, у союзных держав возникла мысль о необходимости начала секретных действий, направленных на спасение Царской Семьи. Но при этом надо было действовать так, чтобы глав стран-союзниц, а также стран, придерживающихся нейтралитета, впоследствии нельзя было обвинить в том, что свои семейные узы они ставят выше интересов собственных стран.
Наряду с этим нельзя забывать, что у таких стран, как САСШ, Япония и Франция, также существовали причины (от политических до личных), чтобы быть заинтересованными в спасении Царской Семьи. Так, американский президент В. Вильсон имел в отношении России далеко идущие торгово-экономические планы и поэтому всячески способствовал тайной деятельности своего «специалиста по России» Ч. Крейна, который, после отказа англичан, уже начинал развивать свою деятельность по спасению Царской Семьи из сибирской ссылки. У японского Микадо Иосихито, как уже говорилось ранее, также имелись основания, чтобы стремиться защитить царя. Интересы же Франции тоже были очень велики, поскольку российские займы составляли значительную часть её внешнего долга. А более 50 % французских держателей в это время имели царские боны. Тем не менее, для любого из союзников, равно как и для Японии, открытая поддержка означала бы огромное количество сложных политических проблем, равных политическому самоубийству. А всякого рода пропаганда, которая в то время столь эффективно велась против Государя и Государыни, делала любую открытую поддержку Царя и Его Семьи почти невозможной. Поэтому, чтобы вырвать Романовых из сибирской ссылки при сложившейся тогда политической ситуации в России и за её пределами, требовалась осторожность и особый расчёт. И единственный возможный метод сделать это заключался в привлечении секретных служб, которые могли рассматриваться тогда как средства тайного влияния.
Из всего сказанного следует, что международное сообщество испытывало растущую обеспокоенность относительно будущего России, а некоторые его слои – и относительно будущего Царской Семьи, так как события в России развивались с огромной скоростью. Но целая серия совпадений осенью и зимой 1917 года, нужные люди на нужных местах, а также некоторые говорящие сами за себя документы и переписка, постепенно наводили на мысль о том, что судьба Государя и Его Семьи – хорошо подготовленный заговор, организованный большим кругом самых влиятельных лиц.
На первых порах для находившегося под арестом в Царском Селе Государя и Его Семьи особой опасности не существовало. Но, начиная с июля 1917 года, стали возникать некоторые осложнения, которые вызвали беспокойство ряда глав союзнических государств. А. Ф. Керенский, занявший пост Министра-Председателя Временного Правительства, практически стал действовать на руку большевикам, а значит, и Германии. Например, попросив помощи у Исполкома Петросовета, он тем самым вовлёк большевиков в официальную политическую деятельность. А освободив из тюрьмы большевистских лидеров (которые, как он считал, с помощью вооружённых петроградских рабочих смогут дать достойный отпор «корниловской контрреволюции»), он тем самым лишь ускорил крах Временного Правительства и приход к власти большевиков.
Ещё до конца не понимая, что власть окончательно ускользает из рук, возглавляемое А. Ф. Керенским Временное Правительство, принимает решение отправить бывшего Императора и Его Семью в далёкий сибирский город Тобольск, революционные настроения в котором были весьма и весьма далеки от тех, которые царили в Петрограде и Москве. Но всё хорошее рано или поздно заканчивается, и тихой жизни Царской Семьи в тобольской ссылке вместе с произошедшим в октябре 1917 года большевистским переворотом приходит конец.
Однако приход к власти большевиков означал перемены не только в жизни Царской Семьи, но и внёс свои коррективы в положение союзников. Например, оно значительно осложнилось после того, как Германия послала в Гельсингфорс (Хельсинки) дивизию под командой графа фон дер Гольца. (Эта акция имела своей целью помочь барону Карлу Густаву Маннергейму завоевать независимость Финляндии от Советской России.) Но главное намерение Германии заключалось в том, чтобы, перейдя финскую границу, использовать русские арктические порты Романов на Мурмане (с марта 1917 г. город Романов на Мурмане переименован в Мурманск) и Архангельск в качестве своих баз для подводного флота. И оттуда в дальнейшем вести подводную войну против своего главного противника – Англии. Поэтому провозглашение Финляндией своей независимости 6 декабря 1917 года привело в полный шок союзные страны, так как им теперь стало ясно, что в этой ситуации Германия сможет переместить свои войска на запад, чтобы далее сражаться с Англией и Францией. А это, в свою очередь, могло серьёзно помешать планам Антанты по освобождению Царской Семьи.
Обеспокоенный таким ходом событий, в декабре 1917 года во Франции был собран Высший военный Совет союзников. Четыре державы: Великобритания, Франция, Италия и САСШ – поручили этому Совету общую координацию стратегии победы в войне. Для чего постоянные военные представители, избранные из числа генералов каждой из союзных армий, должны были собираться дважды в неделю. И одним из первых шагов этого коллегиального органа был внесённый на его рассмотрение вопрос о признании автономной армии из числа тысяч чехословацких солдат, содержащихся в сибирских лагерях в качестве военнопленных Австро-Венгерской армии. Суть же его состояла в том, чтобы после успешных переговоров об их освобождении 40 000 этих солдат могли бы покинуть Советскую Россию, чтобы в дальнейшем присоединиться к союзническим войскам во Франции с целью участия в боях на Западном фронте. (Этот важный шаг впоследствии окажется одним из поворотных моментов в истории Гражданской войны в России и будет назван «Мятеж чехословацкого корпуса».)
Но, вместе с тем, британский Премьер-министр Д. Ллойд Джордж и генерал Генри Хью Вилльсон верили, что война в целом может быть выиграна не только на Западном фронте, но и где-нибудь в другом месте, например в Галлиполи или Дарданеллах. И поэтому они проводили идею интервенции в Россию куда более агрессивно, нежели французский генерал Максим Вейган, или итальянский генерал граф Луижи Кардона, или даже американский генерал-лейтенант Таскер Блисс.
В целом же их мнение состояло в следующем:
«Британцы обладают жемчужиной – Индией, которую необходимо охранять, и они будут охранять ее с такой же яростью, как родные острова. Они знали, что случившееся в Москве повлияло на Бухару, а что повлияло на Бухару – повлияло на Бомбей. Британцы хотели сместить большевиков, которые призывали к всемирной пролетарской революции. В конце 1917 года британцы начали финансировать и поставлять оружие в неограниченных количествах казакам в Закавказье и антибольшевистским армиям, которые были мобилизованы на Дону и в Южной России».
Но любая интервенция стоит денег. А именно денег-то и не было у сил контрреволюции в России. Из хода дальнейшего развития событий хорошо известно, что британцы и другие союзники уже сразу после Октябрьского переворота 1917 года пытались создать условия, которые привели бы к свержению большевистского режима, поскольку имели серьёзные финансовые причины, чтобы сделать это. Ведь уже, начиная с середины декабря 1917 года, советское правительство не раз говорило о своём отказе платить странам Антанты по долгам его предшественников. А это, в свою очередь, не могло не вызвать большой обеспокоенности союзников – ведь в этот баланс были заложены огромные военные долги Царского правительства различным нациям, а также и значительные долги Временного Правительства.
Как указано в «Atlas of the First World War», к июлю 1917 года Россия была должна: Великобритании – 2 760 000 000 фунтов, Франции – 760 000 000 $, Северо-Американским Соединённым Штатам – 280 000 000 $, Италии – 100 000 000 $, Японии – 100 000 000 $ в валюте того времени.
Вместе с этим, большое количество вооружения и техники были уже отгружены для России по заказам Царского и Временного Правительств, вследствие чего колоссальные площади складских помещений простаивали без использования, оказавшиеся забитыми этими заказами. А огромные суммы, подлежащие получению, числились в активах, которые вот-вот должны были превратиться в обязательства, отражённые в финансовых документах промышленных гигантов, работающих в САСШ, Британии, Франции и даже Японии…
Но в случае успеха планов союзников по свержению власти большевиков сразу же вставал вопрос – кто же будет править Россией?
А так как этот вопрос был, прямо скажем, риторическим, то некоторые представители правительств союзнических государств решили на самом высоком уровне, что Царь и Его Семья должны быть освобождены, после чего переведены в убежище, расположенное в северной части России, где и ожидать окончания войны. Ведь может же случиться так, что в одно прекрасное время возникнут условия для рассмотрения вопроса о восстановлении монархии в России. И хотя, вероятнее всего, в форме конституционной монархии, но непременно во главе с верным союзническому долгу Государем Императором Николаем II.
Забегая немного вперёд, можно сказать, что это обстоятельство имело как прямые, так и косвенные доказательства. Так, к примеру, это подтверждается запиской, которую позже ещё один из выдвиженцев и друзей Ч. Крейна – американский посланник в Китае Пол Райнш – направил в Государственный департамент. Вероятнее всего, в ней П. Райнш отвечал на запрос Государственного департамента САСШ относительно политической атмосферы и возможности восстановления монархии на отдельных частях территории России:
«Отчет относительно монархических настроений в Забайкалье, Сибири и Уральском регионе. Резюме отчетов по данному вопросу всех консульских сотрудников под моим руководством.
Екатеринбургский регион. 80 % жителей не будут против монархии (…)
Челябинский регион. По общему мнению, есть серьезные настроения в пользу монархии, особенно среди крестьян, которые устали от беспорядка (…) никто в Челябинском регионе не хочет возврата царизма, поскольку все понимают, что Россия уже переросла этот рубеж, но есть определенно очень большой и растущий слой людей, которые рассматривают конституционную монархию с либеральными тенденциями как единственное средство сохранения сильной и единой России в настоящем состоянии образования и развития (…)
Омский регион. Все слои, которые обладают достаточным интеллектом, чтобы думать о проблемах управления страной, считают, что спасение России заключается в конституционной монархии. Они не верят, однако, что время перемен уже пришло (…)
Новониколаевский регион. Некоторые крестьяне высказываются в пользу монархии. Большинство армейских офицеров за монархию. Русская церковь продолжает быть сторонницей монархии (…)
Иркутский регион. Вероятно, около 60 % населения за конституционную монархию. Это связано с провалом Керенского и большевиков (…)
Либеральные лидеры, которые приветствовали революцию два года назад, уже не проявляют такого энтузиазма, а контакты с большевиками заставляют их вести себя так, словно они проснулись после ночного кошмара».
Получивший для ознакомления копию этой записки из Государственного Департамента американский консул в Иркутске Эрнст Харрис направил сей документ обратно П. Райншу, но со своими комментариями, в которых он, в частности, указывал, что может пройти от шести месяцев до двух лет, прежде чем какая-либо монархия может быть установлена в России, но он не хочет рассуждать о том, как долго она удержится. Но одним из наиболее замечательных аспектов этого отчёта является то, что он был направлен из Омска, в котором Э. Харрис находился в то время вместе с Верховным Правителем Адмиралом А. В. Колчаком – человеком, много сделавшим для того, чтобы следствие по делу об убийстве членов Российского Императорского Дома Романовых проводилось бы с максимальной тщательностью.
В связи с планируемым союзниками пребыванием Царской Семьи в одном из северных районов России было бы небезынтересным заглянуть в значительной степени нетронутые архивы компании «Гудзонов залив» (Виннипег, Канада). Эта компания, как в конце 1917 года, так и в настоящее время, является одной из наиболее старых компаний-операторов в мире. Во время Первой мировой войны компания «Гудзонов залив» была агентом по закупкам для Франции, России и Румынии, хотя её штаб-квартира и находилась в Лондоне на Лайм-стрит.
Так вот, в архивах этой компании находится один из следов, косвенно указывающий на попытку спасения Царской Семьи из тобольской ссылки. А именно – есть непосредственные доказательства того, что для бывшего Государя и Его Семьи была построена резиденция, где Они должны были временно проживать. А дело было так.
В конце ноября 1917 года Чарльз Крейн покидает Россию и направляется в Англию через Францию. В одном из писем своему сыну, Ричарду Крейну, секретарю Государственного секретаря САСШ Роберта Лэнсинга, он писал, что направляется в Англию, где должен получить почту, которая находится на попечении сэра Кортни Ильберта – клерка в Палате общин в Вестминстерском дворце. Но именно в то самое время, когда Ч. Крейн находился в Англии (что с большой натяжкой можно назвать случайным совпадением!), началась работа по строительству весьма интересного дома в северной части России, сборка и конструкция которого находились под патронажем компании «Гудзонов залив».
Сборка этого загадочного дома началась в Архангельске, но в дальнейшем его планировалось перевезти и установить в конце ноября 1917 года в Мурманске. Все расходы по этому строительству оплачивало Британское Адмиралтейство, что само по себе наводит на мысль, что он действительно был предназначен в качестве безопасного жилья для Царской Семьи. А ещё одним аргументом в пользу этого соображения (если вспомнить уверенность Вдовствующей Императрицы в том, что Семья Ея Сына вывезена из Тобольска и находится где-то в северной части России) говорит то, что его установка планировалась на значительном расстоянии от Тобольска и Екатеринбурга. И, кроме того, – в порту, который впоследствии был занят союзническими войсками.
Существование этого дома также подтверждает и телеграмма, посланная в октябре 1918 года из Британского Адмиралтейства в Архангельск:
«Получено от мистера Брауда от имени Мурманского научно-промышленного общества предложение [о постройке] здания на земле компании „Двид“ около Британского консульства в Мурманске, которое раньше предназначалось для покойного царя, а теперь предлагается генералу Пуну или адмиралу Кенту. Здание завершено с нагревательными и осветительными приборами и так далее и сейчас находится на попечении инженеров, воздвигнувших его».
Но хотя приведённая здесь телеграмма и указывает на то, что это здание предназначается для упомянутых лиц, его фактическое назначение очевидно без всяких слов. И подтверждение этому – документы архива компании «Гудзонов залив», которые, в свою очередь, указывают на то, что сие не было его изначальным назначением в то время, когда оно собиралось в Мурманске в конце 1917 года. (Часть расходов на строительство некоторых конструкций и внутренних коммуникаций этого дома должна была быть выплачена российской инженерной компании «Брюсов и Макаров».) А ещё архивные документы упомянутой компании говорят также о том, что по окончании строительства (сборки) данное строение должно быть снабжено всем необходимым: посудой, пищей, кроватями, одеялами и так далее, в количестве семь штук. (А это уже интересно!) Кроме того, при сдаче этого дома был предусмотрен дополнительный список на семь человек, включавший продукты питания и предметы роскоши, который, по мнению эксперта компании «Гудзонов залив» Барбары Кельсон, очень сильно отличался от обычных поставок того периода.
В дополнение к сказанному следует также отметить, что Британское Адмиралтейство не только платило за строительство, но и оплачивало все расходы, связанные с обстановкой и снабжением. Весьма симптоматично и то, что большинство телеграмм того времени указывали, что это сооружение предполагалось использовать в качестве здания для рабочих компании «Гудзонов залив», что ещё интереснее, поскольку за всю историю Адмиралтейства не было случая, чтобы оно платило за снабжение или за квартиры работников компании «Гудзонов залив». В общем, такие финансовые трансакции и приготовления вряд ли объяснимы для столь удалённого места, как Мурманск, чем-нибудь другим! (Разве что союзники хотели обеспечить возможность тайного выезда из России Царской Семьи через её северные ворота – Мурманск.)
Но тайна дома, «предназначенного для покойного царя», стала ещё более интригующей в 1975 году после публикации книги секретаря Премьер-министра Д. Ллойд Джорджа под названием «Жизнь с Ллойд Джорджем, дневник Сильвестра 1931–1945». В ней он рассказывает, что Король Георг V выражал значительную озабоченность по поводу предполагаемой публикации книги своего бывшего премьера о событиях в России во время Первой мировой войны. И, как утверждает мистер Сильвестр, Король Георг V подверг некоторые части означенной книги личной цензуре, запретив ему писать о резиденции для Государя, построенной в Романове на Мурмане (Мурманске). Более того, Король настаивал, чтобы вообще вся глава о британских действиях на севере России была исключена. Так что, весьма и весьма похоже на то, что дом, упоминаемый в сохранившихся архивах компании «Гудзонов залив», был частью плана по перемещению Царской Семьи из Тобольска в Мурманск.
Не вызывает также сомнения и то, что советник В. Вильсона по России Чарльз Крейн также был связан с общими планами по свержению большевиков и освобождению Царской Семьи из заточения. Ведь прежде чем ехать в Англию, он, как обычно, остановился в доме своего давнего друга, уже упомянутого ранее, Графа Я. Н. Ростовцева.
В течение предыдущих месяцев лета 1917 года Ч. Крейн посетил Киев, где он встречался с двумя лицами, которые впоследствии будут играть важную роль в событиях 1918 года, – своим давним другом Томашом Масариком (будущим Президентом Чехословакии, который вскоре станет мужем дочери Ч. Крейна и который будет вести переговоры об освобождении чешских солдат) и Генералом от Кавалерии А. М. Калединым, которого впоследствии будут финансировать банки союзных государств и на которого ими возлагались большие надежды[18][19].
Участвуя в финансировании генерала А. М. Каледина, а значит, и генерала М. В. Алексеева, из собственных средств, Ч. Крейн также стал специальным уполномоченным САСШ в банковской схеме, которая была предложена в Англии и включала скрытый план спасения Царя и размещения Его Семьи в безопасном месте до тех пор, пока не станет ясен исход войны[20].
Но если соединить то, что нам стало известно из архивов компании «Гудзонов залив», с тем, о чём писалось ранее, можно предположить, что объектом банковской схемы было не только создание финансовой инфраструктуры, позволяющей на промежуточный период отделить Сибирь от Европейской России (которая в значительной степени была под контролем большевиков) – до тех пор, пока Россия вновь не стабилизирует своё положение после падения большевиков. Но это был также и путь для спасения Государя, который в определённый момент смог бы вернуться к утраченной власти.
В результате финансовой помощи, которая, как ожидалось, будет поступать по разработанной банковской схеме, американский консул в Москве Де Витт Пул уже в середине января 1918 года констатировал факт, что тайные приготовления к тому, «чтобы противостоять атакам большевиков в необходимый момент в Москве и других городах», идут своим ходом.
Упомянутая банковская схема и сотрудники компании «Гудзонов залив» работали совместно. А тот факт, что компания была не только поставщиком русского правительства, но и французских войск, а также работала в Лондоне, делало её идеальным исполнителем платежей для ведения тайных операций в Северной России, в том числе и для строительства дома в Мурманске. И, как видно из приведённой ранее телеграммы Эрнста Харриса, планы создания Конституционной Монархии не были заброшены и при надлежащих условиях могли бы привести к её реставрации в России.
В конце 1917 года союзников охватило ощущение срочности. После осознания истинного смысла плана большевиков с их огромными долгами перед многочисленными корпорациями союзников и в связи с угрозой, что большевики договорятся с Германией и выйдут из войны, союзники начали консолидировать свои планы.
27 декабря 1917 года самые большие опасения союзников оправдались – Советская власть официально отказалась от всех иностранных долгов. Но к тому времени союзные государства уже начали предпринимать необходимые шаги, чтобы не потерпеть колоссальной финансовой катастрофы, вызванной потерей русского Восточного фронта.
Последние дни декабря Ч. Крейн неоднократно встречался с В. Вильсоном, обсуждая с ним, как усовершенствовать американскую стратегию по отношению к новой России. Развитие двойной политики продолжалось. Англия, как могла, инициировала свой проект спасения Царской Семьи, но для этого ей нужна была поддержка других западных правительств. А для успешной реализации такового необходимо было держать эти планы в секрете. На поверхности же предполагалась политика общения с большевиками через неофициальных агентов. Но эти действия британских дипломатов были всего лишь дипломатической ширмой, так как подобный ход был запланирован заранее, чтобы отвлечь большевиков от истинных намерений этой двойной политики. А, кроме того, Англия надеялась использовать в качестве своего дипломатического партнера САСШ, политический капитал которых, облачённый в мантию демократического идеализма, мог оказаться весьма полезным в этой двойной игре, затеянной для того, чтобы отвести подозрения большевиков, которым британцы объясняли любой свой контакт с Белыми армиями на Украине или казаками на Юге как «вынужденную необходимость».
Другой путь отражал истинные цели английской банковской схемы, которая должна была финансировать казаков и кавказцев, подкупить персов, преследуя лишь одно – сбросить большевиков. Но и Америка, не менее, чем Англия, была в этом заинтересована, в силу чего также оказывала им свою посильную финансовую помощь, выражавшуюся, как правило, в виде взяток их вождям. Вместе с тем, правительство Д. Ллойд Джорджа не хотело выступать против Советской власти, что называется, «с открытым забралом», стремясь избежать в глазах общественного мнения «…обвинений, насколько это будет возможно, что мы готовимся к войне с большевиками и таким образом надеемся повлиять на советский режим, заставить его сопротивляться Германии в Северной России».
Ознакомившись с планом англичан, В. Вильсон написал, что он считает их предложение разумным, но не хочет «подкупать персов»[21]. Но, вместе с тем, В. Вильсона постоянно терзали сомнения по поводу того, как строить свою политику в России с учётом публично объявленной политики невмешательства по отношению к этой стране. Ночью 11 декабря 1917 года он встретился с Государственным секретарём Робертом Лэнсингом, который похвалил русских генералов А. М. Каледина, М. В. Алексеева, А. А. Брусилова и Л. Г. Корнилова, а также «силу движения Каледина». Получив позитивную реакцию, Р. Лэнсинг уже на следующий день встретился с министром финансов и главой секретной службы САСШ Мак Аду[22].
Мак Аду согласился с необходимостью оказания финансовой помощи генералу А. М. Каледину, кандидатура которого была выбрана Ч. Крейном для свержения власти большевиков, после чего В. Вильсон собственноручно написал на полученной от Р. Лэнсинга телеграмме (в ней говорилось о поддержке генерала А. М. Каледина на Юге России): «Я полностью одобряю это».
На следующий день на имя представителя казначейства САСШ в Лондоне Оскара Кросби Р. Лэнсингом была отправлена телеграмма, текст которой явно указывает на тайное участие Америки в деле поддержки генералов А. М. Каледина и Л. Г. Корнилова и их войск:
«Было бы неблагоразумно для нашего правительства открыто поддержать Каледина и его партию вследствие той позиции, которая кажется правильной по отношению к властям в Петрограде. Без фактического признания этой группы в качестве правительства де-факто, что в настоящее время невозможно, поскольку оно не оформлено, наше правительство не может по закону давать деньги взаймы, чтобы способствовать этому движению. Единственный практический курс, который кажется возможным – британское и французское правительства будут финансировать предприятие Каледина в дальнейшем, поскольку это необходимо, а наше правительство, будет для этого давать им деньги взаймы».
А далее Государственный секретарь предлагает О. Кросби вступить в переговоры с послом САСШ и властями союзников для того, чтобы выяснить их отношение к «американскому предложению», а в случае положительного ответа интересуется, «в каком объёме требуется финансовая помощь?» В заключение же Р. Лэнсинг ещё раз напоминает, как «важно избежать огласки, что Соединённые Штаты проявляют симпатию по отношению к движению Каледина, а тем более что оказывают финансовую поддержку».
Информация о планируемых действиях в России была доступна очень небольшой группе людей, так как план скрытого финансирования антибольшевистских армий на Юге России был весьма деликатным, поскольку являлся совершенно незаконным. Но если бы в правительственных кругах САСШ стало известно, что В. Вильсон и Р. Лэнсинг не поставили в известность некоторых из своих самых близких помощников в Государственном департаменте, это было бы политической катастрофой. 17 декабря 1917 года В. Вильсон встретился с полковником Хаусом (его фактическим государственным секретарём) и Р. Лэнсингом (секретарём де-юре), с которыми обсудил сложившуюся в России ситуацию. После этой встречи Хаус, который был близким другом представителя британской разведки в САСШ Уильяма Уизмена, телеграфировал:
«Президент считает, что очень важно оказывать всю возможную помощь казакам, полякам и другим, которые хотят воевать с Германией. Поскольку у нас нет полномочий давать деньги напрямую таким неорганизованным движениям, он хочет предоставить Франции и Англии фонды для передачи, если они сочтут это разумным».
Но ни О. Кросби, ни посол САСШ Уолтер Хайнс Пейдж не хотели вовлекать свою страну в это дело, поскольку видели, что антибольшевистское движение не продемонстрировало своей силы. Не видели необходимости идти на такой риск и англичане. Так, сотрудник британского казначейства Джон Мейер Кейнс (позже он стал одним из наиболее влиятельных экономистов XX века), ознакомившись с американским предложением, сразу же поставил вопрос о заверении такового в официальном письменном виде, для чего снабдил особыми полномочиями члена британского Военного комитета и члена так называемого Российского комитета лорда Роберта Сесила.
21 декабря 1917 года была получена телеграмма от полковника Хауса, которая подтверждала желание В. Вильсона выполнить передачу денег через Францию и Англию[23].
Вскоре после этого лорд Р. Сесил вместе с другим членом Российского комитета, лордом Альфредом Минером, прибыли в Париж, где на одном из совместных совещаний с представителями французских финансовых кругов было решено, что Франция будет финансировать Украину, а Британия – изыскивать деньги для других регионов, памятуя при этом, что САСШ в данном случае обеспечат дополнительную финансовую помощь. Наряду с этим, французское правительство получило подтверждение на право выдать 100 000 000 франков на поддержку Добровольческой Армии генерала М. В. Алексеева, чтобы она могла продолжать свою борьбу против большевиков[24]. А так как оная в данный момент не приносила желаемого результата, некоторые из бывших противников финансирования такой двойной политики: Филипс, Кросби, Бейдж и Хаус, – всё же были вынуждены с ней согласиться. Так, к примеру, Филипс сделал такую запись в своём дневнике в первый день после Рождества 1918 года:
«Наша политика в России, кажется, наконец-то ясно определилась, мы тайно телеграфировали Кросби проинформировать британское и французское правительство, что наше правительство хочет предложить достаточный кредит этим правительствам, чтобы они могли послать необходимые суммы лидерам южной России, противостоящим большевистскому режиму. Считается неблагоразумным всем союзным правительствам вступить в одну лодку сразу, и Соединенные Штаты будут держаться полностью на заднем плане. Если предприятия в южной России будут безуспешны, один из союзников, по меньшей мере, не окажется в плохом положении».
Так что, как видно из текста этой записи, у американцев имелись свои серьёзные опасения, что у вождей Белого Движения всё пойдет гладко. Поэтому правительство САСШ изначально посчитало, что в случае катастрофического результата их политическое реноме должно быть надёжно защищено в глазах мировой общественности. И поэтому, когда к середине лета 1918 года наметились первые результаты развития событий, в силу чего стала очевидной дальнейшая намечающаяся катастрофа, САСШ, в отличие от Англии и Франции, сумели в этом случае избежать грубой критики, которой последние подверглись за своё фиаско в полной мере.
Упоминаемый ранее член Российского комитета лорд Р. Сесил не мог не предвидеть тех трудностей, с которыми может столкнуться разработанная финансовая схема. В одной из своих докладных записок он писал: «Мы должны быть готовы к отчаянному положению в южной России». Но большевики набирали силу и влияние, а единственные силы, на которые, как считала Британия, она может положиться, были добровольческие Белые силы на Юге.
22 января британский консул в Петрограде обнаружил, что с помощью разработанной банковской схемы можно обеспечить поступление денег на Юг России. Но к тому времени казачьи силы генерала А. М. Каледина фактически уже потерпели поражение, да и сама ситуация на Юге России резко ухудшилась. Результатом этого, вероятнее всего, и стало самоубийство генерала А. М. Каледина 11 февраля 1918 года, да, наверное, ещё и того, что он почувствовал, что окружён обманом.
Но как бы ни был хорош «метод перевода средств» с использованием банковской схемы, он всё же встречал определённые сложности при преобразовании западных валют в рубли.
Под пристальным взглядом британского майора Теренса Кейеса из Индийской армии (всего через месяц после назначения он стал полковником, а позже бригадным генералом и сэром Теренсом Кейесом), в чьих руках находился контроль банковской схемы, союзники начали интенсивную работу над созданием банковской инфраструктуры и облегчением конвертации валют. Но существовали огромные проблемы логистики. Банковская инфраструктура была незаконной с самого начала и до конца. Так что, когда документы приходили на место, все они оформлялись задним числом, что было необходимо для того, чтобы показать, что трансакции для различных владельцев в различных банках бывшей Российской Империи (включая и Сибирский торговый акционерный коммерческий банк) были выполнены до национализации таковых Советской властью. Быстрота же, с которой была внедрена эта схема, стала результатом героических усилий и постоянного внимания Т. Кейеса, поскольку в его секретной операции было много «несвязанных концов». И один из них – огромный платеж, который предстояло сделать в качестве «отступного» возглавляемому В. И. Лениным Советскому правительству.
Когда незаконная банковская схема всё же была построена, союзники действительно подверглись определённому риску, заключив секретное соглашение с В. И. Лениным, о котором говорил лорд Р. Сесил. Но именно с тех пор и началось строительство безопасного дома для Царской Семьи, за которым будут наблюдать люди, которые принимали активное участие и в банковской схеме. То есть «сцена» для предстоящих секретных операций была подготовлена.
В декабре 1917 года, когда большевики несколько упрочили свою власть, иностранные политические круги самого высокого уровня начали активизировать свою тайную деятельность. (К этому времени поступили новые сведения о том, что строительство дома в Мурманске завершено, а материальное обеспечение, необходимое для осуществления банковской программы, также готово.) В то же время из приведённой далее британской дипломатической телеграммы мы узнаём, что, помимо правительственных и военных организаций за границей, там имелись также и другие группы, которые вынашивали планы по отстранению от власти нового руководства России, так как повсеместные злоупотребления большевиков властью нарушали большинство основных правил, принятых в цивилизованном обществе. А их жестокое обращение с представителями чуждых классов не могло не действовать на нервы многим общественным и государственным деятелям Запада. Но пока высокопоставленные круги союзных государств, что называется, шлифовали свои планы, американские евреи начали действовать.
«Телеграмма 4006 от Спринг-Райса (британского посла в США. – Ю. Ж.), Вашингтон
В Военный кабинет и Его Величеству
Секретно.
Некоторые сионистские лидеры проинформировали меня в обстановке строжайшей секретности, что совместно с государственным департаментом США они подготовили агентов, чтобы послать их в Россию с целью свержения большевиков. Некоторые из этих еврейских активистов из Нью-Йорка. Миссия будет совершенно неофициальная».
И если телеграмма Спринг-Райса точна, то не исключена возможность, что к этому делу мог приложить свою руку и Якоб Шифф. (Ведь мы не забыли, какие недобрые чувства питал он по отношению к Царской России!) И, без сомнения, не без его, Шиффа, участия, японцы сумели одержать победу в войне против России в 1905 году. Ведь именно он, как никто другой, относился с особой ненавистью к Царской России, в которой, по его мнению, процветал геноцид по отношению к евреям. И поэтому он считал, что если японцы одержат победу, то это может привести к установлению в России более либерального правительства.
Но уже к концу 1917 года (даже несмотря на то, что немногим ранее он оказывал финансовую поддержку Л. Д. Троцкому) Шифф понял, что пришедшие к власти большевики во многом оказались хуже бывших царских сатрапов, а посему уже не питал былых надежд в отношении демократии и политики большевистского режима[25].
Изменение отношения Я. Шиффа к большевистской России совпало с подобным изменением и для многих его соратников. А примером сему – приведённая ранее телеграмма Спринг-Райса, которая наглядно показывает, как совершенно несопоставимые политические группы могли вдруг объединяться вокруг одной цели. Но если в первые дни прихода к власти большевики ещё могли убедить кого-то, что Советская власть не станет автократией, то теперь все поменялось. И все те, кто ранее верил в декларируемые большевиками идеалы, убедились в том, как на деле созданный ими режим подавляет свободу и инакомыслие. Но ещё больше их бывшие сторонники были ошеломлены безбожием и жестокостью, как самой революции, так и её лидеров.
Из телеграммы Спринг-Райса также становится ясно, как агент британской разведки Сидней Рейли смог вернуться в Россию[26].
Привлечение С. Рейли к банковской программе и план по свержению большевиков, как части двойной политики, находят подтверждение и в переписке секретаря У. Черчилля Арчибальда Синклера. Так, в одном из своих меморандумов он упоминает С. Рейли в качестве «правой руки» Кароля Ярошинского – русского миллионера и одной из ключевых фигур русской банковской программы, а также благодетеля Романовых в период их нахождения в Тобольске.
В то время, когда секретные агенты засылались в Россию в ноябре и декабре 1917 года, компания «Гудзонов залив» продолжала сборку дома, а секретные фонды начали перечислять средства в Россию для поддержки действий этих агентов. И именно поэтому согласованность их действий вовсе не является случайным совпадением, ведь фактически вся деятельность этой агентуры, связанной с домом, банковской программой и тайными операциями разведки, осуществлялась сообща сравнительно небольшой группой людей.
Свидетельством выполнения этими агентами порученных им заданий уже в 1917 году может служить и следующий факт – находящаяся в тобольской ссылке Государыня Императрица Александра Фёдоровна сумела тайно передать записку с планом первого этажа «Дома Свободы». Примечательно и то, что, предназначенная для Короля Георга V, сия записка была адресована экс-Императрицей на имя Своей бывшей гувернантки мисс Маргарет Джексон. А вот была ли эта записка ответом на послание от британской Королевской Семьи или была послана по инициативе самой Государыни, остаётся неизвестным.
Однако в свете новых фактов более предпочтительнее выглядит версия о том, что это был ответ на послание Короля Георга V, пытавшегося предпринять первые шаги по освобождению своих родственников. А то, что эта записка была передана, – факт, не подлежащий сомнению. Последовавший за Семьёй в Тобольск учитель английского языка Августейших Детей Чарльз Сидней Гиббс сохранил в своих личных бумагах копию этой записки с планом этажа. И если бы эта копия не сохранилась, мы так бы никогда и не узнали о существовании такой записки, поскольку местонахождение оригинала до сих пор неизвестно.
Другим связующим звеном между домом, банковской программой и Царской Семьёй был уже упомянутый ранее К. И. Ярошинский, избранный для действий в качестве представительской фигуры при осуществлении банковской программы в России[27].
Лояльность Ярошинского по отношению к союзникам и знание русской банковской системы были двумя его очень сильными и ценными качествами, но, кроме них, он обладал ещё и другим ценным качеством – личной взаимосвязью с Царской Семьёй. Ведь непосредственно сам К. И. Ярошинский был благородного происхождения, а поскольку он являлся одним из крупнейших благотворителей госпиталей и больниц, находившихся под патронажем Великих Княжон Марии и Анастасии Николаевны, его также хорошо знали и Их Августейшие Родители. И прямым подтверждением этому – письмо Государыни от 22 января 1918 года, которое Она написала А. А. Вырубовой, находясь в Тобольской ссылке, и в котором благодарит её за присланные деньги:
«Было так неожиданно для меня получить это письмо от первого числа и чек от десятого. Мы сердечно благодарим через вас Ярошинского. Это и в самом деле трогательно, что даже теперь кто-то помнит о нас. Слава Богу, что его имения пощадили. Господь да благословит его».
Из текста этого письма не ясно, от кого экс-Императрица получила послание «от первого числа»: от А. А. Вырубовой или К. Ярошинского. Однако из Её экспансивного ответа явствует, что Она была очень тронута, получив известие о К. Ярошинском. Тон же Её письма также не исключает возможности, что, помимо напоминания и участия в судьбе несчастной Семьи, К. Ярошинский также мог сообщить Ей и что-то другое, чему Она была весьма удивлена и за что сочла необходимым выразить ему тёплую благодарность. Впрочем, это всего лишь предположение…
Но нам также известно, что к тому моменту К. Ярошинский уже оказался вовлечён в банковскую программу и был связан со служащим компании «Гудзонов залив» Генри Армитстедом, который как раз в то время занимался строительством дома в Мурманске. И поэтому нельзя окончательно сбрасывать со счетов тот факт, что Императрица могла получить от него известие, что имеется план по Их освобождению и перевозке на Север России. И тогда Её фраза «…что даже теперь кто-то помнит о нас» явно говорит в пользу того, что какая-то информация на эту тему всё же доходила до Царской Семьи. И дополнительное свидетельство этому – показания, данные в 1920 году в Париже Н. А. Соколову Князем Г. Е. Львовым. Ибо последний, во время своего пребывания в Екатеринбургской тюрьме № 2 имел разговор с Князем В. А. Долгоруким, в ходе которого тот прямо заявил ему о том, что его отчим Граф П. К. Бенкендорф ведёт с англичанами переговоры об освобождении из плена Царской Семьи. Впрочем, и это всего лишь предположение…
Город Романов на Мурмане (Мурманск) был, действительно, самым идеальным местом для обеспечения безопасности Царской Семьи, поскольку городское население здесь было немногочисленным, а присутствие в нём союзников уже имело место. Поэтому в случае необходимости вывести отсюда Царскую Семью было бы гораздо легче, чем из какого-либо другого места России. А, кроме того, отправиться вместе с Семьёй в Романов на Мурмане было изначальным желанием Императора почти сразу же после отречения.
Кстати, не следует забывать, что после целого ряда событий, произошедших в России в 1918 году, деятельность различных людей, принимавших участие в банковской программе (к примеру таких, как Генри Армитстед, который не только принимал участие в этой программе, но занимался также и сборкой дома в Мурманске), была описана в ряде часто противоречащих друг другу источников. Причем, эти источники предоставляли на суд истории не только различные описания произошедших событий, но, зачастую, и изменяли таковые со временем по тем или иным причинам…
Вскоре после того как было принято решение о проведении двойной политики и сформулирована банковская программа, в группу бывших царских чиновников, возглавляемую В. М. Вонлярлярским (бывшим деловым партнёром Великого Князя Александра Михайловича, в своё время связанным с ним организацией коммерческих предприятий в Маньчжурии), был введён некто полковник Кейес[28].
В настоящее время, после тщательного сравнительного анализа и изучения огромного количества документов, сохраняемых в Лондонском архиве, представляется более чем очевидным, что официальный смысл банковской программы, то есть финансовая поддержка Юго-Восточной конфедерации, был только частичной причиной, обусловившей её существование. Позднее, в 1928 году, когда «заём» (так назывались деньги, проводимые через эту программу) и К. Ярошинский попали под обстрел лондонских политических чиновников самого высокого ранга, полковник Кейес зафиксировал своё отношение к этому делу в письменном показании. И начал он свой отчёт с довольно интересного утверждения, в котором имелось множество нюансов:
«Накопилось очень много недоразумений по поводу займов в русские банки, как стали называть это дело, и я решил, что мне следует изложить всё, что я помню относительно обстоятельств той политики, в которой так называемый заем (курсив мой. – Ю. Ж.) представлял собой лишь небольшую часть».
Таким образом, комментарии Кейеса, касающиеся «так называемого займа» К. Ярошинскому, более чем наглядно показывают, что это был вовсе не заём, а прикрытие для финансирования действий разведки союзников, связанных с планом проведения двойной политики их стран. Однако эта банковская программа со всеми её смысловыми подтекстами продолжает оставаться не до конца понятой, а трудности, с которыми приходится сталкиваться исследователям этого вопроса, чрезвычайно велики, поскольку все эти операции осуществлялись после захвата власти большевиками, то есть уже после того, как сделки такого рода были объявлены нелегальными. Поэтому все связанные с ними документы, как уже упоминалось ранее, необходимо было датировать задним числом. А для того, чтобы не допустить их попадания в руки большевиков или германцев, многие из таких документов, могущих в значительной степени пролить свет на сущность этого банковского дела, были уничтожены. Прорехи в сохранившейся документации, наличие документов, датированных задними числами (что, собственно, признают и сами авторы этих документов), а также отсутствие датировки на большинстве таковых, означают лишь, что та огромная работа, которая была проделана английским журналистом Майклом Кеттлом и другими исследователями, в конечном счёте, выявила по этому делу больше вопросов, чем ответов.
Но дальнейшие трудности в этом деле возрастают в связи с тем фактом, что в этом деле левая рука часто не имела представления о том, что делала правая. Или, как верно заметил банковский аудитор Р. X. Хор, которому спустя годы было поручено бухгалтерское исследование этой банковской программы: «в этом деле была “двойная нить”, за которой нужно было следовать». И, думается, нет нужды гадать, что это за «двойная нить», на которую он намекает. Ибо эта нить есть не что иное, как… двойная политика. А в качестве примера Р. Х. Хор утверждает, что ему «пришлось столкнуться с определёнными трудностями», поскольку банковская программа не могла рассматриваться с чисто экономической точки зрения, а также то, что «она была санкционирована Министерством иностранных дел Великобритании в основном по политическим мотивам». Смысл же этого замечания заключается в том, что эта банковская программа имела такие ответвления, сущность которых была больше связана с политикой, чем с экономикой.
Сейчас уже не представляет секрета, что одним из таких политических ответвлений была задача по освобождению Царской Семьи. Ведь в числе прочих секретных дел (так называемых Темплвудских документах, хранящихся в Кембриджском университете), имевших отношение к судьбе Царской Семьи и промышленно-финансовой деятельности в северной части России, имеется ряд материалов, переданных туда агентом МИ6 и главой британской разведки в Петрограде в 1916–1917 годах Самюэлем Хором. Доступ к этим делам был ограничен до 2005 года, в связи с чем возникает вопрос – зачем было засекречивать такие дела, если банковская программа и прочие действия не были связаны с возможной попыткой освобождения Царской Семьи?
На сегодняшний день вся доступная документация свидетельствует о том, что полковник Кейес изначально был связан с тремя лицами, которые обозначались инициалами «Y», «X» и «Z». «Y» – это К. Ярошинский, которому было необходимо 500 000 фунтов стерлингов для вступления во владение банком, для чего он получил заём под 3,5 %. (Этот заём был предоставлен под предлогом перекупки нескольких прогерманских директоров этих русских банков для того, чтобы вывести их из правления, о чём в телеграмме, посланной Кейесом 10 февраля 1918 года, имеется соответствующая ссылка.)
Однако на этом этапе обычная логика, по-видимому, уже не предопределяет дальнейший сценарий развития событий, поскольку ранее уже упоминалось о том, что В. И. Ленин национализировал банки ещё в прошлом месяце, в силу чего уже не было никакой необходимости в перекупке прогерманских акционеров. На деле же вовсе не осталось вообще никаких акционеров: ни германских, ни каких-либо других. Так, ранее уже говорилось о том, что по прошествии лет некоторые из участников этого дела открыто признались, что они датировали документы задним числом для того, чтобы таковые могли выглядеть, как имеющие отношение к банковским сделкам, осуществленным ещё до национализации. А, кроме того, некоторые документы подтверждают, что полковник «встречался с большевиками». А, значит, какая-то часть большевистского руководства знала об этой банковской программе и предполагаемом выкупе для прогерманских акционеров через В. И. Ленина. Но, с другой стороны, если деньги союзников действительно предназначались для этой цели, то почему тогда оные должны были быть кровно заинтересованы в защите интересов прогерманских акционеров?[29]
К февралю 1918 года некоторые из членов банковской программы столкнулись с серьёзными затруднениями, о чём свидетельствует следующая телеграмма:
(№ 411): 10/2/1918
«… Кейес (ref. 369) говорит, что в банковской программе задействованы Y (Ярошинский), X и Z (двое неизвестных), Поляков. Программа задержана, поскольку (1) X находился в тюрьме. (2) Поляков не может быть проинформирован о политических целях. Повидавшись с X, Р искренно вошел (в дело). Но продолжает осуществлять политику по приобретению Банка, но ему необходимо немедленно получить 500 000 фунтов стерлингов. Договорились о следующем: Мы выплачиваем Y в Лондоне 500 000 фунтов в качестве займа под 3,5%. Он передает (переводит) X акции стоимостью r 35 m. Правление, осуществляющее контроль над всеми банками и т.п., будет состоять из Y и X (или Z) плюс двое нас. Чтобы придать делу вид коммерческой сделки, процент будет составлять 5,25 вместо 3,5».
«X», о котором Кейес сообщает, что он находится в тюрьме – это председатель Сибирского акционерного коммерческого банка Н. Н. Покровский. Его банк входил в число принимавших участие в банковской программе, а сам Н. Н. Покровский был первым из тех, кто через К. И. Ярошинского смог приблизиться к полковнику Кейесу. (Теперь он содержался большевиками в заключении за отказ от передачи денежных средств для Русского Красного Креста.) А бывший Министр земледелия А. В. Кривошеин, который в телеграмме Кейеса был упомянут как «Z», находился неизвестно где, в силу чего Кейес и известил МИД Великобритании о том, что «программа задержана».
Следствием неучастия в деле Н. Н. Покровского и А. В. Кривошеина стало то, что МВД Англии предложило, чтобы г-н Поляков, который был связан с Сибирским акционерным коммерческим банком, был введён в договор. Британский командующий в северной России генерал Пул, познакомившись с Поляковым, настаивал на его введении в программу, но это предложение встретило сопротивление в лице Теренса Кейеса, который, как видно из приведенной телеграммы, заявил, что Полякова не следует информировать о её политических целях…
Политическая подоплёка и те цели, о которых, по мнению Кейеса, не должен был знать Поляков, могли быть на самом деле связаны с приближающимся свержением большевиков и возможным освобождением Царской Семьи, для чего Кейесу нельзя было привлекать внимание ко всем перемещениям финансовых средств настолько, насколько это было возможно. А в этом случае непредумышленная настойчивость Пула по введению Полякова в суть дела могла испортить всю операцию…
После своего включения в программу, Поляков почти сразу же сумел привлечь недружелюбное внимание к этому рискованному предприятию со стороны тех лондонских партий, которые ничего прежде не знали о нём, так как активно настаивал на более высоких процентных ставках, всерьёз полагая, что этот перевод денег и в самом деле был займом для К. Ярошинского. Это пристальное внимание повлекло за собой разрушительные последствия, свидетельствующие о том, что генерал Пул не имел полной информации о конечных политических целях этой банковской программы, в противном случае он, конечно же, не стал бы предлагать Полякова для участия в данном предприятии. И это утверждение в дальнейшем полностью подтвердилось, когда в конце весны 1918 года С. Рейли будет послан на смену Хью Личу – британскому агенту, который начал слишком много говорить об этой программе. И теперь становится окончательно ясно, что генерал Пул не входил в круг посвящённых, поскольку в апреле, то есть вскоре после прибытия С. Рейли, он получил телеграмму, в которой его впервые проинформировали, что С. Рейли прибыл с секретной миссией:
«Два следующих офицера заняты на специальной секретной службе и не должны упоминаться в официальной корреспонденции или перед другими офицерами, кроме тех случаев, когда этого совершенно не удастся избежать. Лейтенанты Митчелсон и Рейли».
Первоначальный план предусматривал приобретение К. Ярошинским Русского коммерческого и индустриального банка, Русского банка иностранной торговли, Киевского частного банка, Объединённого банка и Международного банка. Полковник Кейес с явного согласия британского поверенного в делах сэра Фрэнсиса Линдли (который был прикреплён к Английскому посольству в Петрограде и который с самого начала принимал участие в осуществлении двойной политики), координировал прохождение денег через банки «Лондон Сити» и «Мидлэнд» от имени Хью Лича. Так, в соответствии с телеграммой № 910 от 13 февраля 1918 года: «Линдли попросил нас перечислить на счёт г-на Лича 285 715 фунтов 5 шиллингов 8 пенсов в Лондон Сити и Мидлэнде».
Только за неделю до этих перечислений в Англию была направлена телеграмма, в которой говорилось, что «…Кейес вместе с Пулом и большевиками работает над банковской программой». Но на данном этапе Пул знал только о финансовом и военном аспектах этой программы, и, вместе с тем, он был одним из тех «посвящённых», кто ничего не знал о её политических целях. При данном раскладе сложившаяся ситуация выглядит более чем забавно: «большевики» и В. И. Ленин (что несомненно!) принимают участие в налаживании банковской структуры, главной целью которой служит их свержение, но только после того, как Царская Семья будет вывезена (Телеграмма № 522 от 19 февраля 1918 года):
«Кейес докладывает о германских попытках скупки (акций) Сибирского банка. Y (Ярошинский. – Ю. Ж.) с помощью нашего правления сохранил контроль. Y должен был выкупить некоего держателя [акций] в Московском банке, по просьбе Ленина [который говорит, что] 500 000 фунтов недостаточно для приобретения англо-русских (акций). Кейес обещал ему ещё 500 000 фунтов, если он выкупит Сибирские».
Отсюда следует, что Ленин ещё раз потребовал 500 000 фунтов после того, как уже получил 500 000 фунтов для выплат «прогерманским держателям акций». А ведь 3 марта (то есть через несколько дней после того, как В. И. Ленин получил деньги) большевики подписали с немцами Брест-Литовский мирный договор, выводящий Россию из Первой мировой войны, после чего приступили к формированию своей собственной Красной Армии.
В это же самое время на территории России находились в плену около 40 000 чешских солдат и офицеров. А поскольку Россия официально вышла из войны, близкий друг Ч. Крейна Томаш Масарик начал переговоры с большевиками, ставившие своей целью разрешение для этих военнопленных безопасно проследовать через Урал, Сибирь и Дальний Восток для дальнейшего соединения с армиями союзников во Франции. (Впоследствии это обстоятельство сыграет важную роль в судьбе Царской Семьи и других находящихся на Урале членов Дома Романовых.)
Вскоре после 3 марта 1918 года МИД Англии телеграфировало об отсрочке дополнительного финансирования до возвращения полковника Кейеса в Лондон. Через пять дней после этого Линдли сказал: «Те перечисления, которые уже были сделаны, делают необходимым, чтобы в выплатах не было задержек». Но уже к 6 марта 1918 года появилась телеграмма без номера, извещающая, что
«…в Англии открыта кампания против Русского Коммерческого и Индустриального банка, в которой HMG (Правительство Его Величества – Ю. Ж.) заинтересовано в программе К (Кейеса – Ю. Ж.)».
Но вот, что интересно. Программа, запущенная для финансового обеспечения свержения власти большевиков и освобождения Царской Семьи, попала теперь под пристальное внимание людей, которым ничего не было известно о её реальных целях. Ведь все они – непосвящённые – всерьез полагали, что К. Ярошинский с согласия полковника Кейеса совершенно не по делу расходует правительственные средства. (В то время проводилось множество дополнительных манипуляций, необходимых для приобретения русских банков, которые, так же как и Сибирский торговый акционерный коммерческий банк, были необходимы для завершения этой банковской инфраструктуры[30].)
В течение нескольких месяцев представитель британского казначейства Доминик Спринг-Райс будет пытаться понять, что на самом деле произошло с теми средствами, которые были перечислены. Но даже годы спустя британские власти так и не смогли разобраться с этими перечислениями.
Почти в то же самое время, когда банковская программа попала под пристальное внимание Лондона, 160 британских морских пехотинцев вместе с французским контингентом высадились в Романове на Мурмане, предположительно, для охраны военных складов. Поначалу считалось, что местные власти Мурманска заключили с союзниками соглашение по своей собственной инициативе. Но, учитывая те выплаты, которые получил В. И. Ленин от союзников, более чем странным выглядит тот факт, что он-де мог ничего не знать о событиях в Романове на Мурмане.
Трудно также поверить в то, что о возводимом иностранцами объекте в таком важном порту, как Романов на Мурмане, местные большевики не знали, как говорится, ни сном, ни духом, равно как и в то, что упоминание об этом строительстве не сохранилось ни в одном отосланном в Москву докладе.
Однако теперь из документов компании «Гудзонов залив» мы знаем, что иностранцы в самом деле привезли это здание для сборки его в Романове на Мурмане. А те люди, которые принимали участие в сборке этого дома, оплачиваемого британским Адмиралтейством, были связаны и с банковской программой. Поэтому 500 000 фунтов стерлингов, выплаченных В. И. Ленину, вполне могли служить выкупом (или его частью) за Царскую Семью, которая должна была быть перевезена из Сибири на Север. Ясно также и то, что после того, как В. И. Ленин получил от союзников 500 000 фунтов стерлингов, он ожидал получения ещё 500 000 фунтов. Так вот, не предназначались ли эти деньги для того, чтобы обеспечить взаимодействие большевиков с союзниками, а также на безопасное содержание Царской Семьи?
Удивительно также и то, что взятый курс двойной политики продолжал осуществляться даже после того, как банковская программа попала под пристальное внимание. Ведь до сих пор только несколько людей знали о том, что планируется на самом деле. И это хорошо видно из одной чрезвычайно интересной телеграммы, которая была послана 15 марта 1918 года американским консулом в Петрограде Роджером Тредвеллом послу САСШ Фрэнсису (получившему, как мы помним, это назначение от Ч. Крейна) и полковнику Рагглсу, находившимся в то время в Вологде, куда некоторые западные дипломаты стремились выехать, поскольку ходили слухи об оккупации Петрограда наступавшей германской армией. Так вот, консул Тредвелл утверждал, что видел «Л» (Роберта Брюса Локарта)[31], который хотел присоединиться к «Малиновке» (Раймонду Роббинсу)[32] в Москве, но задержался в Петрограде, поскольку «Т» (Л. Д. Троцкий) не уехал, и он надеется совершить поездку в Москву вместе с ним. Помимо этого, Тредвелл также говорил, что, по мнению Р. Б. Локарта, дела принимают «очень серьезный оборот». Далее в этой телеграмме говорится следующее:
«… “Л” советует из Лондона, чтобы мы согласовали план действий на востоке, (это означает, что Р. Локарт узнал от британцев, что САСШ договорились с японцами осуществить интервенцию в Сибирь для разгрома большевиков), но “Л” надеется, что это неправда».
Р. Локарт также информирует Тредвелла, что он получил достаточное количество уступок для того, чтобы наши друзья не возвращались к планам, о которых он «постоянно слышит в Петрограде» в течение последних двух недель, но говорит, что: «Наша помощь отсюда будет встречена с радостью, и британцы смогут войти в Северный порт». А далее в этой телеграмме идут слова, взятые в кавычки:
«Но все это может оказаться слишком запоздалым, если все посредники придут к соглашению, что следующая игра должна быть разыграна в кустах. “Л” надеется, что для предотвращения этого будет сделано все, по крайней мере, на данный момент, поскольку очень вероятно, что все мы окажемся “вне закона” и наше положение может стать очень серьезным».
На следующий день, 16 марта 1918 года, Тредвелл посылает другую телеграмму:
«Шестнадцатое. Это известие предназначено для посла. Сообщите послу, что Локарт выехал в Москву утром шестнадцатого числа, предположительно вместе с Троцким, который стал теперь военным министром. В Петрограде тихо, но, по общему мнению, которое разделяет и британский консул, германцы могут появиться в воскресенье».
Из телеграммы видно, что эти люди продолжают вести дипломатические переговоры, абсолютно ничего не зная о двойной политике, – именно так, как и было запланировано их правительствами. Двойная политика изначально была разработана с целью сокрытия именно этих людей, которые в то время вели переговоры с большевиками, обеспечивая, таким образом, чистоту их действий. Ясно, что эта уловка сработала эффективно. На первый взгляд, Соединённые Штаты и Англия сотрудничали с большевиками. При этом такие агенты, как Роберт Брюс Локарт, Раймонд Роббинс и Роджер Тредвелл, были простыми пешками. Они ничего не знали о реальных задачах союзников и были искренне обеспокоены угрозой надвигавшейся интервенции, например, одного из союзников вместе с японцами в Сибири. На самом деле эта ситуация не прояснялась ещё в течение нескольких месяцев, а к этому времени Локарт был уже хорошо осведомлён относительно истинных намерений союзников по свержению большевиков и стал сторонником интервенции.
В это же самое время Р. Тредвелл настаивал на том, чтобы САСШ не оказывали поддержку японцам, выступавшим на стороне атамана Г. М. Семёнова – военачальника, противостоявшего большевикам в Восточной Сибири. Ибо он, как и Р. Локарт, считал, что те уступки (концессии), которые последний получил от Троцкого, позволят союзникам войти в Северный порт, опередив тем самым немцев, которые осуществляли давление на севере России и, по слухам, даже имели в этом регионе свои подлодки. (Такие агенты, как Тредвелл, Роббинс и Локарт, продолжали в то время ещё надеяться, что большевики пригласят союзников вступить в Россию для разгрома германцев.) Но, вместе с тем, Р. Тредвелл предупреждал, что если союзники не будут действовать быстро, то «следующая игра будет разыграна в кустах [в Сибири]».
Вскоре после этой телеграммы Тредвелла, то есть когда Россия уже вышла из войны, 21 марта 1918 года германский генерал Эрик Людендорф осуществил первое из своих пяти «наступлений ударом молота» на Западном фронте. И, надо признаться, что мощь этих военных операций ошеломила союзников. (Только одно его первое наступление отбросило британскую 5-ю армию на 30 миль и унесло жизни 120 000 солдат!) Однако, несмотря на эти сокрушительные удары, германские победы только усилили решимость союзников осуществить их план по свержению большевиков и восстановлению власти Царя с тем, чтобы Россия смогла снова вступить в войну на их стороне.
26 марта 1918 года (то есть через несколько дней после начала германского наступления) В. И. Ленин и И. В. Сталин послали председателю Мурманского Совдепа А. М. Юрьеву телеграмму, в которой порицали его за его действия по отношению к союзникам, выразившиеся в том, что он позволил войти в Мурманск британскому кораблю. Но знал ли, в свою очередь, В. И. Ленин о тех переговорах, которые Р. Локарт вёл с Л. Д. Троцким? Наверное, нет. Ибо целью этого послания было, по всей вероятности, прикрытие действий центральной власти на тот случай, если их соучастие выплывет наружу. Поэтому В. И. Ленин и И. В. Сталин настаивали на том, что отчёты А. М. Юрьева «должны быть совершенно официальными, но секретными, поскольку это не тема для публикаций». Похоже также на то, что и В. М. Молотов не только знал о том, что затевалось, но и сам занимался разработкой действий в Мурманске, желая при этом скрыть более полную информацию.
А вот ещё один интересный документ – Телеграмма от 10 апреля 1918 года, из текста которой видно, что Москва располагала сведениями о присутствии союзников в Мурманске, что только лишний раз подтверждает готовность Ленина к двойной сделке:
«Товарищ Сталин говорит:
Полученный ответ:
Принять помощь.
Что касается минных тральщиков, запросите учреждения, о которых вы упоминали; с нашей стороны нет никаких препятствий. Программа должна быть совершенно неофициальной. Мы будем относиться к этому делу так, как будто это военная тайна; обеспечение безопасности ложится на вас так же, как и на нас. Здесь все ясно; если вы удовлетворены, я считаю разговор законченным.
Ленин, Сталин».
Р. Локарт, который содействовал получению уступок (концессий) в отношении Мурманска, мог не знать о реальных задачах двойной политики, пока он не был проинформирован о плане первого восстания против большевиков, намеченного на праздничный день Мая 1918 года. Но, как мы увидим в дальнейшем, обстоятельства сложились таким образом, что контрреволюционный переворот, запланированный на эту дату, не был осуществлён, потому что большевики каким-то образом узнали о намечающемся в ближайшее время выступлении. (Союзники планировали свергнуть большевиков, поддержав эсера Бориса Савинкова и его сторонников.) Но это выступление было отложено.
До недавнего времени была известна только одна причина задержки восстания. Однако это может быть и не совсем так, поскольку не исключено, что задержка эта связана напрямую с одной из первых попыток передачи Царской Семьи союзникам – ведь В. И. Ленин к тому времени уже получил деньги через банковскую программу. А если представить, что это так, приобретает совсем иную окраску миссия Чрезвычайного комиссара ВЦИК В. В. Яковлева (К. А. Мячина) – того самого уральского большевика, посланного В. И. Лениным и Я. М. Свердловым для перевода Царской Семьи в Москву или другое безопасное место. Однако по ряду обстоятельств этот план был безнадежно провален, в силу чего Царская Семья с 30 апреля 1918 года оказалась во власти Президиума Исполкома Уральского Облсовета, что, в свою очередь, вынудило союзников на время отложить попытку намеченного государственного переворота.
«Русская политическая ситуация» накануне июля 1918 года может быть охарактеризована как обманчивая, поскольку слишком уж часто все отражающие эту ситуацию документы и действия считаются либо «секретными», либо «неофициальными».
В последние месяцы 1917 и начала 1918 года, то есть в то время, пока Царская Семья содержалась в Тобольске, условия Её заключения при Полковнике Е. С. Кобылинском и Комиссаре Временного Правительства В. С. Панкратове могут быть названы вполне в общем-то цивилизованными. (Под надзор Полковника Е. С. Кобылинского Царская Семья попала ещё во время своего нахождения под арестом в Александровском дворце Царского Села.) В связи с этим находившийся в Тобольске наставник Наследника Цесаревича Пьер Жильяр отмечал в своём дневнике:
«Никогда еще ситуация не была столь благоприятной для побега, поскольку там в Тобольске не было еще представителя большевистского правительства. При помощи полковника Кобылинского, который был на нашей стороне, можно было бы легко обмануть наших наглых, но не слишком бдительных стражников».
И именно он же упоминал о том, что Государь настаивал на «готовности к любому повороту событий», в ответ на что Государыня придерживалась другого мнения, считая что: «Я не должна покидать Россию ни в коем случае, поскольку мне кажется, что уехать за границу означало бы разорвать нашу последнюю связь с прошлым, которое после этого умрет навсегда».
И в этом Она была права, так как понимала, что Их отъезд из России в дальнейшем сделает очень сложным, если не невозможным, обратное возвращение в качестве конституционных монархов. Более того, это могло лишь только усилить и без того циркулирующие слухи о том, что Она и якобы находящийся под Её пятой Государь интриговали с Германией. Поэтому, вопреки расхожему мнению, Императрица была настроена весьма патриотично, и Ей было трудно покинуть свою новую Родину, находившуюся теперь в состоянии Гражданской войны.
С целью освобождения Царской Семьи и Её перевозки в какое-нибудь безопасное место (что позволило бы Ей остаться в России) в Тобольске было образовано тайное сообщество. Возглавлял его помощник К. Ярошинского Б. Н. Соловьёв, который был старшим в тобольском Братстве Св. Иоанна Тобольского – организации, которая, как мы теперь знаем, была сформирована для того, чтобы вывезти оттуда Царскую Семью.
Находясь в этом городе, Б. Н. Соловьёв, как уже говорилось ранее, выполнял функции курьера Царской Семьи, передавая послания от родственников и друзей. (При этом он использовал секретный символ братства – совастику (свастику в зеркальном изображении), являющуюся одним из древневосточных символов счастья[33].) Главными помощниками Б. Н. Соловьёва по участию в этой тайной организации были близкие подруги царицы: бывшая Личная Фрейлина Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Фёдоровны А. А. Вырубова («Аня») и Ю. А. Ден («Лили»), которые при посредстве сочувствующих Царской Семье лиц смогли собрать для них немалые денежные средства, часть которых была вручена Ей через оного. Другим курьером, передававшим деньги и послания от К. Ярошинского и других друзей Царской Семьи, был бывший Корнет Крымского Конного Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полка С. А. Марков[34].
А. А. Вырубова, через которую Императрица благодарила К. Ярошинского, получив от него несколькими неделями ранее известия, послала «Маленького Маркова» в Тобольск, по прибытии в который он связался с Б. Н. Соловьёвым и священником отцом Алексеем (Васильевым), посещавшим «Дом Свободы», где проводил богослужения для Царской Семьи[35]. (Большую помощь в укреплении духа Царской Семьи оказывал также и епископ Тобольский Гермоген (в миру Г. Е. Долганов).)
По свидетельству С. В. Маркова, Б. Н. Соловьёв и П. Жильяр утверждали, что полковник Кобылинский не пытался воспрепятствовать освобождению Царской Семьи, но считал, что Им для этого следовало бы подождать более благоприятного времени.
Однако в течение февраля и марта 1918 года, то есть по мере того, как режим содержания Царской Семьи в Тобольске стал ужесточаться, С. В. Марков и Б. Н. Соловьёв стали чаще поговаривать о плане освобождения Царской Семьи.
К марту 1918 года политическая атмосфера в Тобольске и в самом деле стала менее благоприятной для членов Императорской Фамилии, а за власть в Тобольске и контроль над Царской Семьёй началась борьба. В качестве противоборствующих сторон выступали находившийся в Омске и относительно умеренный Западно-Сибирский Совдеп и более радикально настроенные большевики Уральского Совдепа, расположенного в Екатеринбурге. Результатом всех этих манёвров стало то, что оба этих Совета послали в Тобольск своих комиссаров и попытались захватить контроль над Царской Семьёй. Екатеринбургский Совдеп и Исполком Уральского Облсовета были настроены воинственно и проявляли склонность к насильственным действиям, в то время как Омский Совет состоял из более умеренного контингента. Ситуация менялась стремительно.
24 марта новый комиссар из Омска по фамилии В. А. Дуцман захватил контроль над домом, в котором содержалась Царская Семья, и отстранил Полковника Е. С. Кобылинского и комиссара Временного Правительства В. С. Панкратова от выполнения их полномочий.
В это же самое время в Тобольск из Екатеринбурга прибыл ещё один красногвардейский отряд – под командованием А. Д. Авдеева. В результате этих несогласованных действий между ними произошла небольшая стычка, к счастью, закончившаяся миром. А вскоре прибывший накануне в Тобольск эмиссар Екатеринбурга бывший балтийский матрос П. Д. Хохряков при поддержке небольшой группы местных большевиков, а также дезертировавшего с фронта местного жителя И. Я. Коганицкого (выдававшего себя за Георгиевского Кавалера, чтобы тем самым снискать к себе уважение чинов Отряда особого назначения, полностью состоявшего из Георгиевских Кавалеров), сумел провести сфальсифицированные перевыборы в Тобольский Совдеп, в результате чего 9 апреля 1918 года был выбран его председателем и полностью подчинил его власти большевиков.
Все изменения, произошедшие в Тобольске в начале 1918 года, сильно ухудшили условия содержания Царской Семьи. После Октябрьского переворота Георгиевские кавалеры не получали регулярного жалованья, а соперничество за контроль над Царской Семьёй со стороны Омского и Уральского Советов не способствовало укреплению дисциплины и ставило всех в весьма затруднительное положение.
В то же самое время вынашивались планы по осуществлению международной попытки для спасения Царской Семьи. Так, из книги Энтони Саммерса и Томаса Мангольда «Дело царя» мы узнаем о норвежском бизнесмене по имени Йонас Лиед. (В годы царствования Государя Императора Николая II он получил почётное гражданство за открытие им новых торговых путей из Сибири в Западную Европу и Америку.) Теперь же по заданию британской разведки МИ6 он встречался в окрестностях Лондона со своим другом Генри Армитстедом для обсуждения своего собственного участия в плане по освобождению Царской Семьи.
В подтверждение этого авторы указанного сочинения цитируют дневник Й. Лиеда:
«26 февраля 1918 года: Телеграмма от Армитстеда в Криа (Осло) с вопросом, смогу ли я, в случае если он сделает нам визы, приехать в Лондон для обсуждения экспедиции из Англии в Сибирь. Я телеграфировал, что согласен…»
Э. Саммерс и Т. Мангольд отмечают также, что через четыре дня Й. Лиед уже спешил на пароходе через Северное море в Абердин. И снова они цитируют запись из его дневника от 3 марта 1918 года:
«Прибыл в Лондон. Полковник Браунинг организовал для нас номера в гостинице “Савойя”. Встретился с Армитстедом и обсудил экспедицию. Видел Саула (на самом деле Сэйла, босса Армитстеда. – Ю. Ж.), управляющего компании “Гудзонов залив”…»
Спустя ещё два дня в дневнике Й. Лиеда появляется следующая запись:
«5 марта: Виделся с Митчелл-Томпсоном, который оказался не слишком полезным. Беседовал с Артуром Бальфуром, министром иностранных дел. Завтра увижусь с лордом Робертом Сессилом».
А спустя ещё три дня читаем в дневнике:
«8 марта: Обедал у сэра Реджинальда Халла (Директор морской разведки. – Ю. Ж.) вместе с его женой, дочерью и Армитстедом. К чему бы все это?»
Через двенадцать дней он продолжает:
«20 марта. Виделся с сэром Фрэнсисом Баркером и великим князем Михаилом[36] в доме Уискерса по поводу освобождения Николая II с помощью скоростного моторного катера через Карское море…»
Сэр Баркер, видимо, всё выслушал, но мы не знаем, какие действия он мог предпринять, поскольку попросил, чтобы его имя не упоминалось в связи с этим делом. Но несколько лет спустя друг Й. Лиеда, бывший английский дипломат и специалист по Скандинавским странам Ральф Хэвинс, вспоминал о том, что рассказывал ему Лиед:
«Он сказал мне, что Метрополитен-Вискерс (компания “Вискерс” – Ю. Ж.) просили его поставить на якорь британский катер возле принадлежащего ему лесопильного склада, находившегося в устье реки Енисей, и перевезти императорскую семью из Тобольска вниз по реке на одном из его грузовых судов. Этот план был вполне осуществимым. Затем торпедный катер должен был взять курс на север к Северному Ледовитому океану через Новую Землю, для того чтобы обойти минные поля и уйти от вероятного преследования большевиков».
В начале войны представителем компании «Вискерс», в офисе которой, по словам Й. Лиеда, проходила встреча, был не кто иной, как Сидней Рейли – человек, которого британцы отправили в Россию как раз в конце марта 1918 года для того, чтобы уладить все дела по банковской программе. Кроме того, следует заметить, что Армитстед, который обхаживал Й. Лиеда в окрестностях Лондона, руководил в то время всеми операциями компании «Гудзонов залив» в Архангельске и Мурманске и отвечал за сборку дома, предназначенного для Царской Семьи. Поэтому весьма вероятна возможность того, что Й. Лиед, ставший первопроходцем сибирских торговых путей, ведущих в Карское море, действительно мог быть одним из тех немногих людей, которые действительно содействовали освобождению Царской Семьи из тобольской ссылки.
Сам же план состоял в следующем. При помощи одного из торговых судов Царскую Семью должны были перевезти сначала по реке Иртыш, а затем по реке Обь, которая впадает в Карское море. Здесь это торговое судно должен был встретить вышедший из устья реки Енисей британский торпедный катер. Как говорится, на удивление просто, а главное, с минимальным риском!
Но в 1920 году некоторые британские официальные лица пытались скомпрометировать Й. Лиеда, так как он, помимо собственного дневника, не располагал какими-либо доказательствами в пользу того, что действительно работал на британскую разведку. И такую точку зрения по сей день поддерживает большинство английских историков, когда-либо интересовавшихся этим вопросом.
Свет на этот вопрос проливают некоторые советские источники. Так, в позднее написанных воспоминаниях непосредственных участников этих событий И. Я. Коганицкого и Т. И. Наумовой-Теуминой упоминается о некой шхуне «Святая Мария», вставшей на зимнюю стоянку близ Тобольска. А вот случайно или нет оказалась там эта шхуна и кому она принадлежала, остается вопросом. Это обстоятельство не мог не заметить М. К. Касвинов – автор нашумевшей в своё время книги «Двадцать три ступени вниз». И хотя упомянутый автор написал эту книгу по специальному заказу (так сказать, в противовес «западным фальсификаторам советской исторической науки»), в ней, несмотря на абсолютно извращённую подачу фактов, имевших место в реальной действительности, по этому поводу было сказано следующее:
«Неподалёку от города, у безлюдного Иртыша, притаилась с потушенными огнями шхуна “Святая Мария”. Чья она и для чего здесь, с кем и куда собирается отплыть? Поговаривают в городе: при первом удобном случае ещё этой осенью (1917 г.), а если не удастся до морозов, то весной, едва пригреет солнце и начнут вскрываться реки, архиепископ Гермоген с помощью этой шхуны сделает великое историческое дело. То есть отправит отсюда кого надо прямым путём к океану – и невозможно будет ни найти, ни догнать, ни перехватить…»
Конечно, нельзя с абсолютной уверенностью утверждать, что упомянутая шхуна имела отношение к готовящемуся побегу Царской Семьи, но и полностью отрицать такое, по меньшей мере, неразумно....
И ещё. Не позднее февраля 1918 года Й. Лиед, которому принадлежала Сибирская торговая компания «Лтд», находился в контакте с Генри Армитстедом. А Армитстед, который привез Йонаса Лиеда в Лондон, определённо работал на британскую разведку, что подтверждает письмо от 21 мая 1918 года, подписанное Мансфелдом Каммингом, возглавлявшим отдел разведки Milc (позднее ставший отделом МИ6):
«Уважаемый сэр! (Сэйл, управляющий компанией “Гудзонов залив”. – Ю. Ж.)
В связи с тем, что представитель Вашей компании в России г-н Е. А. Армитстед с вашего любезного разрешения должен временно поступить в мое распоряжение для поездки через Россию, я хотел бы заключить официальный документ, в котором говорилось бы, что я компенсирую вам все расходы г-на Армитстеда во время его поездки, начиная со времени его выезда из Лондона и до его возвращения в этот город. Я согласен, учитывая характер его поездки и в соответствии с обычным соглашением между г-ном Армитстедом и вашей компанией по оплате путевых расходов, что его счета должны быть представлены в таком же виде, в каком вы и раньше получали их от него.
Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Вас за ту деликатность, которую Вы проявляете в этом деле, и которую я высоко ценю.
Искренне Ваш,
Мансфелд Камминг, капитан, РН
Копия: М. Йонасу».
Таким образом, Мансфелд Камминг не только зафиксировал «миссию» Генри Армитстеда на бумаге, но и подписал её своими знаменитыми зелёными чернилами. Позднее эта «миссия», участником которой был Г. Армитстед, получила интерпретацию как «торговая миссия». Однако трудно поверить, чтобы глава британской разведки мог привлекать и финансировать Г. Армитстеда для выполнения просто торговой миссии и чувствовать необходимость платить ему через третью сторону, если эта миссия носила чисто коммерческий характер.
А теперь давайте подведём некоторые предварительные итоги.
Ознакомившись с приведёнными здесь свидетельствами, представляется весьма убедительным, что дом в Романове на Мурмане финансировался через Британское Адмиралтейство компанией «Гудзонов залив», а все расходы Г. Армитстеда и Й. Лиеда оплачивались капитаном М. Каммингом через тот же «Гудзонов залив». (Позднее мы увидим, что миссия «С», в которой предполагалось участие Г. Армитстеда, совпадёт с попыткой освобождения Царской Семьи.)
Известно также, что за несколько недель до этого В. И. Ленин получил 500 000 фунтов через банковскую программу, а Г. Армитстед определённо был осведомлён о планах по освобождению Царской Семьи, поскольку он, по-видимому, обсуждал их с адмиралом Халлом и боссом Сиднея Рейли капитаном Мансфелдом Каммингом. Поэтому нас не должен удивлять тот факт, что С. Рейли прибыл в Россию через Романов на Мурмане как раз накануне 5 апреля и с помощью перешедшего на сторону большевиков бывшего царского генерала М. Д. Бонч-Бруевича (родного брата Управляющего делами СНК Р.С.Ф.С.Р. В. Д. Бонч-Бруевича и одного из ближайших соратников В. И. Ленина) принял на себя роль большевика по фамилии «Рейлинский». Но в связи с этим напрашивается вопрос – а не могло ли быть так, что С. Рейли получил свою роль «товарища Рейлинского» для того, чтобы осуществлять связь между В. И. Лениным и британцами для проведения намеченных операций?
А если это так, то не подлежит сомнению, что и Председатель ВЦИК Я. М. Свердлов должен был знать о роли С. Рейли, а, возможно, также и то, что «Рейлинский» был вовсе не тем, за кого он себя выдавал, поскольку брат Я. М. Свердлова Бенджамин ещё до войны был деловым партнёром С. Рейли в «Нью-Йорк Сити». После первой встречи с генералом М. Д. Бонч-Бруевичем, состоявшейся где-то в первых числах апреля, С. Рейли приступил к работе в качестве «товарища Рейлинского», а вскоре после этого завязал отношения с Ольгой Дмитриевной Старжевской – одной из сотрудниц ВЦИК, работавшей в секретариате Я. М. Свердлова. После провала С. Рейли она была арестована и допрошена относительно её с ним связей[37].
Между тем, борьба за власть на Урале достигла своего апогея. Прибывшему в Тобольск красногвардейскому отряду Западно-Сибирского Совдепа под командованием В. Дегтярёва противостоял такой же отряд Екатеринбургского Совдепа, находившийся под началом С. С. Заславского. «Маленький Марков» и Б. Н. Соловьёв были арестованы и содержались под стражей за пособничество Царской Семье. Но во время своего заключения они (по дороге в ванную комнату) нашли возможность обменяться записками и позднее сумели доказать свою непричастность. Так что, по сравнению с прежним, новый политический климат в Тобольске был для Царской Семьи и сочувствующим Им лицам гораздо менее благоприятным, нежели в прежнее время.
В целях недопущения ухудшения и без того сложной обстановки в Тобольске, а также предотвращения «несанкционированной расправы над бывшим царём», туда по личному распоряжению В. И. Ленина был направлен Чрезвычайный Комиссар ВЦИК В. В. Яковлев (К. А. Мячин), имеющий задачу увезти оттуда Царскую Семью в Москву, или, в силу возникших обстоятельств, – в другое надёжное место. (Мандат о чрезвычайных полномочиях В. В. Яковлева был подписан Председателем СНК Р.С.Ф.С.Р. В. И. Лениным и Председателем ВЧК Ф. Э. Дзержинским, а сам отряд состоял из 150 красногвардейцев и личного телеграфиста.)
Далее нет смысла пересказывать весь ход эпопеи вывоза В. В. Яковлевым части Царской Семьи, так как об этом подробно описывается во многих источниках. Но, несмотря на обилие таковых и полную сохранность телеграфных лент переговоров В. В. Яковлева с Я. М. Свердловым, одно всё же остаётся загадкой: В. В. Яковлев был марионеткой в руках В. И. Ленина и Я. М. Свердлова, или же всё случившееся было трагическим совпадением, о котором умолчали «в интересах революции»? А если это так, то тогда загадка миссии В. В. Яковлева по-прежнему остаётся неразрешённой. Или же всё-таки следует окончательно принять на веру известный всем сценарий «своевольных уральцев»?
В связи с этим можно сказать, что наиболее достоверно выглядит следующая версия: Москва хотела переместить Семью бывшего Императора в какое-нибудь безопасное место до того времени, когда станет возможным выслать их «куда-нибудь», поскольку на сегодняшний день имеются доказательства, что В. И. Ленин хотел использовать Её в качестве предмета сделки. (Ну, а уж там с кем, – неважно! С немцами ли, с англичанами…) Но Царская Семья не должна была быть обменяна до тех пор, пока В. И. Ленин не получит деньги и не будут выполнены те условия, которые он выдвигал. Вероятнее всего (из-за близости Я. М. Свердлова с уральскими большевиками), первоначально В. И. Ленин намеревался перевезти Семью в Екатеринбург, но так как Исполком Уральского Облсовета придерживался более радикальной точки зрения на этот вопрос, чем та, которую стремилась навязать Москва, была организована миссия В. В. Яковлева. Тем не менее, получив в конечном итоге урок сопротивления от уральцев, В. И. Ленин и Я. М Свердлов всё же рискнули перевезти Государя, Государыню и одну из Их Дочерей в Екатеринбург, считая, что они через Ф. И. Голощёкина смогут в целом контролировать ситуацию. Но случилось иначе…
Однако представленные ранее доказательства всё же с большой долей вероятности указывают на то, что на Яковлева была возложена ответственность за доставку Царской Семьи в Москву или «другое место» с тем, чтобы Она могла быть передана британцам в обмен на деньги, заплаченные В. И. Ленину союзниками в феврале через банковскую программу. Но Ленин, как будет доказано позднее, продолжал вести двойную игру, и если британцы полагали для себя возможным заполучить Романовых, то те же надежды были и у германцев.
Не менее интересно и то обстоятельство, что один из родных братьев Я. М. Свердлова служил в разведке Французской армии, а другой, как уже говорилось ранее, имел до войны в Нью-Йорке деловые отношения с Сиднеем Рейли.
Поэтому произошедшие в апреле события уже не кажутся нам такими уж необъяснимыми, поскольку мы теперь понимаем, что Й. Лиед и Г. Армитстед выполняли свою часть плана по вызволению Царской Семьи и доставке её в Романов на Мурмане, где компания «Гудзонов залив» возвела дом, рассчитанный на семь человек и оплаченный Британским Адмиралтейством.
И всё бы, как говорится, ничего, но банковская программа союзников едва начав функционировать, попала в сложное положение, что привело к появлению на сцене Сиднея Рейли в роли большевика «товарища Рейлинского».
А ещё, как уже неоднократно указывалось ранее, В. И. Ленин получил 500 000 фунтов и вынужден был направить на Урал своего эмиссара В. В. Яковлева. (Если, конечно, эта версия верна!) Но Президиум Исполкома Уральского Облсовета поставил всем ленинско-свердловским планам «шах» и «мат», что и явилось последним фактором, который, как говорится, поднял ставки и заставил В. И. Ленина, союзников, а с ними и немцев, работать в ускоренном режиме.
Успешный захват Уральским Облсоветом контроля над Царской Семьёй вынудил союзников разрабатывать дополнительные планы действий, которые способствовали появлению на сцене ряда новых персонажей.
Телеграмма, посланная из Вашингтона третьим заместителем министра (секретаря) страны Брекенриджем Лонгом в Сан-Франциско ближайшему помощнику президента Вильсона Гэвину Мак Набу, запрашивала о готовности калифорнийца Джерома Баркера Лэндфилда послужить в Государственном департаменте. За два года до 1918 года Лэндфилд несколько раз письменно обращался в Государственный департамент, предлагая использовать свой опыт для службы в России, однако тогда на него не обратили внимание – на все его запросы было отвечено небрежным отказом. Тем не менее 21 мая, когда не прошло ещё и месяца после эпизода с В. В. Яковлевым, а Царская Семья оказалась в чрезвычайно рискованном положении, попав в руки жесткого Уралсовета, все изменилось. И относительно использования Лэндфилда в телеграмме Лонга к Мак Набу указывалось, что «кажется, сейчас появилась такая возможность».
Человек, который обращался с запросом о возможности использования Лэндфилда, был описан полковником Хаусом как де-факто государственный секретарь Вильсона. В своих мемуарах он писал, что Брекенридж Лонг, по существу, руководил своим собственным Государственным департаментом, известным только президенту. Впоследствии, когда Лонг писал свои мемуары, он признавал, что президент Ф. Рузвельт отозвал его обратно во время Второй мировой войны для осуществления, помимо других важных задач, «эвакуации особо значимых беженцев»… Известно также, что Лонг в 1918 году служил у Вильсона в качестве курьера между полковником Хаусом, главой британской разведки в Северной Америке сэром Уильямом Уизмененом и британским секретарём иностранных дел Артуром Бальфуром.
Отношения между Лонгом и Бальфуром были такими тесными, что во время своих визитов в Соединённые Штаты Бальфур обычно останавливался в доме помощника секретаря. Из корреспонденции Лонга становится очевидным, что он пользовался огромным доверием Вильсона, Хауса и Бальфура в делах очень большой важности.
Гэвин Мак Наб, которому Лонг писал в Калифорнии по поводу Лэндфилда, также станет важным персонажем в деле Романовых. Он возглавлял предвыборную кампанию Вильсона, организованную на Западе, а также был представителем национального комитета Демократической партии и после выборов Вильсона присутствовал в качестве участника на важной лейбористской конференции. Даже Брекенридж Лонг в послании к Гэвину Мак Набу говорит о «ваших особых отношениях с президентом».
Однако особого внимания заслуживает прошлое Джерома Баркера Лэндфилда. Родившись в Нью-Йорке в 1871 году, Лэндфилд получил образование в Корнуэльском университете и в Санкт-Петербурге. Он свободно говорил по-русски и исследовал разные уголки Сибири, когда верхом на коне составлял карты Уральских гор. Лэндфилд был также хорошо знаком с местными обычаями. Занимаясь первой заявкой американцев на открытие одного из рудников на Урале, он был одним из немногих представителей Запада, которые могли похвастаться знанием этого региона.
В качестве такого представителя он обладал для союзников бесценными достоинствами, поскольку им был необходим человек, который знает Урал и, особенно, Екатеринбург с его окрестностями. (Впоследствии даже ходили слухи о том, что Лэндфилд «посещал горного инженера профессора Ипатьева, который был владельцем Ипатьевского дома». Но это всего лишь слухи, так как Н. Н. Ипатьев никогда не был горным инженером, а был Капитаном Инженерных войск в отставке и инженером-путейцем!)
А главное, что Лэндфилд был человеком, который полностью сочувствовал Царю.
Получив в России ещё одно образование (Лэндфилд обучался в Императорском Санкт-Петербургском Университете), он после защиты своей дипломной работы женился на Личной фрейлине Государыни Княжне Л. Н. Лобановой-Ростовской. (Хотя это, может быть, и не факт!) Однако её родная сестра – Ольга Николаевна – в 1895 году вышла замуж за сэра Эдвина Эгертона, служившего в качестве посла Британии в Риме. А одна из родственниц Эгертона была фрейлиной герцогини Коннаутской, то есть матерью человека, который по просьбе Короля Георга V, имевшего отношение к судьбе Государя и Государыни, в 1918 году предпримет путешествие в Соединённые Штаты. Так что, если эта женитьба действительно состоялась, то она связала Лэндфилда не только с русским двором, но и с двором Короля Георга V.
Но, несмотря на все очевидные преимущества Лэндфилда, его прошения о принятии в Государственный департамент не имели успеха. Только двоюродный брат Короля Георга принц Артур Коннаутский смог в конце концов протолкнуть его на службу через Брекенриджа Лонга.
21 мая, в тот же день, когда вечерняя телеграмма Лонга была отослана Мак Набу, принц Артур прибыл в Нью-Йорк, где Брекенридж Лонг встретился с ним. Это произошло в тот момент, когда война была в разгаре, и Король лично настоял на том, чтобы принц Артур оставил военную службу на поле боя и предпринял этот вояж. (Принц Коннаутский был в таких близких отношениях с королем, что часто выполнял его официальные обязанности, когда Король был занят другими делами.) И, конечно же, принц явным образом был тесно связан с Царской Семьёй, поскольку являлся внуком Королевы Виктории и в качестве такового приходился двоюродным братом Императрице Александре Фёдоровне. Естественно, что бедственное положение Государя и Государыни ему было не безразлично.
Принц прибыл на британском эсминце. Официально его поездка объяснялась тем, что он едет на Восток для вручения жезла японскому императору. Эта поездка, получившая известность как «Миссия жезла», выглядела на первый взгляд вполне законной, но при более пристальном рассмотрении это путешествие выглядело весьма странно. (Пытался ли принц Коннаутский, как это объясняют некоторые историки, просто облегчить возможность для японской интервенции в Сибирь, осуществляя политику, которая, по-видимому, была не очень-то по душе Вильсону? Или же здесь имелась какая-то дополнительная подоплёка, которая могла быть связана со всеми необычными обстоятельствами, произошедшими в то время, включая стремление ввести Лэндфилда в Государственный департамент?)
Сама поездка принца Артура в Америку была представлена как простая остановка по пути в Японию. Однако если в его задачу входило только вручение жезла, разве не мог какой-нибудь другой высший военный чин, увешанный наградами, сделать то же самое? Почему для этого понадобился близкий родственник Георга V? С другой стороны, принц Артур, связанный узами и с Королём, и с Царём, мог прекрасно осуществлять связь между Королём и президентом Вильсоном. Предмет обсуждения во время последовавших встреч принца Коннаутского с американскими официальными лицами остаётся неизвестным, и, хотя английская «Миссия жезла» продолжает оставаться объектом исследования, она, как и банковская программа, и чешское восстание в Сибири, не может быть понята до конца. Однако теперь представляется правдоподобным, что «Миссия жезла» была в действительности частью прикрытия для переговоров между Королём Георгом V, президентом Вильсоном и императором Японии Иосихито относительно освобождения Царской Семьи.
Таким образом, приезд Коннаута и принятие на службу Лэндфилда были частью нового плана по освобождению Царской Семьи, после того как за месяц до этих событий «миссия особой важности» Яковлева провалилась.
Первый ключ к разгадке того, что могли повлечь за собой эти планы, мы получаем из информации об одном очень интересном собрании, состоявшемся в Москве как раз через два дня после прибытия принца Артура в Америку. (Об этом будет подробно рассказано в главе 2. «Как происходила подготовка к убийству Царской Семьи, и санкционировал ли В. И. Ленин Её расстрел?»)
Такое стечение обстоятельств говорит о том, что чехи под руководством Томаша Масарика были наверняка более серьёзно вовлечены в попытки свержения большевиков и освобождение Царской Семьи, чем пытается доказать нам «условная история».
25 мая 1918 года, то есть на той же неделе, когда начался «мятеж» Отдельного Чехословацкого Корпуса, и в то время, когда принц Артур всё ещё находился в Соединённых Штатах, от Брекенриджа Лонга к Гэвину Мак Набу была повторно послана вторая телеграмма с запросом о Джероме Баркере Лэндфилде. Тон телеграммы выражал настоятельную необходимость: «…теперь мы нуждаемся в нём».
Также 25 мая, но за несколько часов до этого, на расстоянии в тысячи миль от Америки, в России, американцы ещё раз проявили активность.
Авторы недавно вышедшей в нашей стране книги «Михаил и Наталья» Розмари и Доналд Крауфорд утверждают, что 25 мая 1918 года, то есть в то время, когда Великий Князь Михаил Александрович находился в Перми под домашним арестом, ему нанесли визит два американца: м-р О'Брайен и м-р Гесс. (Авторы утверждают, что они «принадлежали к такому сорту людей, за которым Чека вело осторожное наблюдение как за вероятными посланниками к заговорщикам, намеревавшимся освободить Михаила».) Но если это принять на веру, то не имели ли указанные господа целью проинформировать Великого Князя о тех планax, которые «шлифовались» принцем Артуром в Америке?
«Возможность» использовать Лэндфилда, о которой Лонг упоминал в своей телеграмме к Мак Набу сразу после прибытия в Америку принца Артура Коннаутского, теперь, видимо, должна была срочно реализоваться, что было вызвано присутствием принца Артура. Лэндфилд немедленно свернул все свои дела в Калифорнии, а Государственный департамент также быстро нажал на тайные пружины, чтобы суметь оплатить расходы Лэндфилда, используя бюджет департамента. 31 мая Лэндфилд прибыл в Вашингтон. Но даже по сей день в документации Государственного департамента не обнаруживаются сколь-нибудь значительные материалы о его деятельности до 1919 года.
Однако в картотеке имеется одна примечательная карточка, сохранившая запись относительно связи Лэндфилда с генералом Алексеевым, который был одним из тех генералов, которых антибольшевистские силы поддерживали через банковскую программу. Несмотря на то, что оригинального документа больше не существует, из конспекта явствует, что генералу М. В. Алексееву необходимо было держаться до прибытия «доктора». Упоминание некоего «доктора» является намёком на определённые обстоятельства, поскольку, когда в 1933 году были опубликованы мемуары Сиднея Рейли, то в одной из записей там тоже можно прочитать: «Доктора начали операцию слишком рано, и состояние пациента серьёзное».
Одним из «докторов», которых имеет в виду С. Рейли, был его друг Борис Савинков, бывший террорист и бывший помощник Министра-Председателя А. Ф. Керенского, с которым теперь заигрывали союзники. Б. В. Савинков был военным руководителем другого тайно запланированного восстания против большевиков, намеченного на середину июля 1918 года. Однако вследствие предательства ему пришлось начать действовать преждевременно, что привело к провалу. К Б. В. Савинкову, если бы этот план не провалился, должны были присоединиться другие «доктора» (военные лидеры союзных войск).
Американский консул в Москве Де Витт Пул впоследствии, давая показания Конгрессу в 1920 году, «неоднократно и категорически отрицал, что имел информацию или был причастен к какому-либо заговору против Советского режима (1918)». Однако труд Дэвида Фоглсонга о «секретной войне» показывает, что на самом деле Пул посылал в Вашингтон телеграмму, в которой говорилось о запланированной дате восстания, намеченного на середину июля.
Так как Джером Баркер Лэндфилд совместно с Государственным департаментом были полностью осведомлены о деятельности Бориса Савинкова и той ситуации, которая сложилась в России в июле 1918 года, мы можем вполне допустить, что в критический период июня и июля 1918 года Лэндфилд также поддерживал связь с другими ключевыми деятелями в России. Даже Томаш Масарик благодарил Лэндфилда за то, что он проявлял «глубокую заинтересованность во всех русских делах» и «был предан нам».
О глубине его преданности и размахе его деятельности, скорее всего, мы уже не узнаем, поскольку все остальные дела из той серии, связанной с событиями лета 1918 года, и, особенно, июня и июля в России, были уничтожены в 1929 году по «приказу строевого офицера». Но теперь можно утверждать, что чехи были у него в долгу за его тайные действия в их пользу, а также в пользу их российских дублёров.
Тот факт, что Савинкова предали и, основываясь на ложной информации, он начал восстание в конце первой недели июля, поставило под угрозу всю согласованную последовательность событий. Об этих событиях Лэндфилд и другие были полностью осведомлены, что становится теперь ясным из того уничтоженного документа, в котором Алексееву советуют держаться до прибытия «доктора».
Таким образом, можно предположить, что в действительности стратегия союзников предусматривала, что чехи, войска Савинкова и Алексеева – с юга, японцы – с востока, а также британцы, которые под командованием генерала Пула вошли в Россию с севера, совместными усилиями осуществят попытку свержения большевиков весной и летом 1918 года. И лишним подтверждением этому является то, что британским операциям были присвоены кодовые названия «Сирена» и «Илоуп» (побег с возлюбленным).
А если это так, то с кем собирались «бежать» британцы? Взглянув на ситуацию с другой стороны, можно предположить, что единственным кандидатом на роль «беглеца» была Царская Семья, что, в свою очередь, кажется весьма логичным.
Приблизительно в середине мая в Нью-Йорке, почти в то же время, когда прибыл принц Артур, Чарльз Крейн написал письмо секретарю президента Вильсона Тумулти, в котором благодарил президента за его недавнее решение о поддержке усилий славянского народа. Доказательств того, что Крейн встречался с Лонгом или принцем Артуром во время его пребывания в Нью-Йорке для обсуждения происходящих в России событий не сохранилось, однако это вполне могло произойти, поскольку Крейн и Брекенридж Лонг были близкими друзьями и часто оказывали воздействие на Вильсона по той же повестке дня.
А, кроме того, Крейн имел в Англии такие связи, что получал свою почту в Вестминстерском дворце. В письме к секретарю Вильсона содержится намёк на то, что он встречался с Вильсоном в начале мая, в чём не было ничего удивительного, поскольку президент и его супруга были частыми гостями Крейнов, а Вильсон принял решение уделить больше внимания судьбе чешского легиона в России накануне его восстания в конце мая. Кажется, Крейн ещё раз приложил к этому делу свою умелую руку.
Усилия Чарльза Крейна, предпринятые в интересах Чехословакии, скорее всего, проистекали из характера его отношений с Масариком. Эти отношения были настолько близкими, что сын Масарика Ян жил в Америке вместе с семьёй Крейна и, в конце концов, женился на дочери Крейна Фрэнсис. И снова Крейн служил посредником в деле организации обмена сообщениями и встреч своего друга и доверенного лица Масарика с президентом. И, как уже упоминалось ранее и как утверждал Карл Радек в мае 1918 года, чехи под руководством Томаша Масарика в самом деле были более тесно связаны с судьбой Романовых, чем это описывается в условной советской историографической науке.
Так что, если рассмотреть доклад К. Б. Радека членам ВЦИК в той его части, в которой говорилось об обещании Томаша Масарика содействовать в деле освобождения бывшего царя, проанализировать новую информацию относительно Р. Лэндфилда и С. Рейли и принять во внимание такие операции, как строительство дома в Мурманске и банковскую программу, мы приходим к пониманию чего-то гораздо большего, чем может поведать нам традиционная летопись того периода.
А сотрудничал ли секретно Томаш Масарик с помощью своего старого друга Чарльза Крейна с союзниками, чтобы поднять восстание чешского легиона, и не выступал ли чешский агент по имени Эммануил Воска в качестве связного – это уже, как говорится, дело десятое…
Однако в свете этого нового понимания, соединённого с полученной К. Б. Радеком в мае в Стокгольме информацией относительно торговых операций компании «Ремингтон Армс» с винтовками для «марионеточного Николая», а также с учётом того факта, что С. Рейли был агентом этой компании, «случайный» характер восстания заслуживает более пристального внимания при всём уважении к заявлениям подпольных агентов и «тайных дипломатов», которые принимали участие в этих действиях.
К этому следует добавить, что финансовые и политические интересы союзников в России, включая интересы наиболее крупных финансовых институтов Америки, сильно пострадали. Так, «Нэйшнл Сити Банк», «Дж. П. Морган и Компания», «Кун и Лэб», а также «Гэрэнти Траст», находились под угрозой из-за крупных дефолтов акций вследствие того, что большевики отказались от выплаты всех иностранных долгов. Учитывая сказанное, комментарии Карла Радека по поводу Уолл-стрит и Томаша Масарика, которые стали причиной разногласий между В. И. Лениным и Л. Д. Троцким, теперь приобретают весьма важное значение.
Следует также напомнить, что И. В. Сталин участвовал в выработке условий по выходу чехов из России весной 1918 года, после того как большевики подписали Брест-Литовский договор, выведший Россию из состояния войны. То есть И. В. Сталин принимал участие в выработке соглашений по выводу чехов из России в ходе переговоров, которые Томаш Масарик и Эдуард Бенеш вели в интересах союзников. Таким образом, чешские солдаты, двигавшиеся через Россию с «подписанными Сталиным паспортами», должны были соединиться с войсками союзников на европейском фронте для того, чтобы продолжать сражаться против Германии.
А когда в мае чешские войска открыто выступили против большевиков, этот инцидент приписали столкновениям между чехами и бывшими венгерскими военнопленными, произошедшим в районе Челябинска. Но нет оснований сомневаться в том, что по настоянию Германии большевики пытались разоружить чехов и помешать их проходу через Сибирь. Также невозможным представляется, что действия множества чешских эшелонов, в которых насчитывалось свыше 40 000 солдат, растянувшихся от Пензы на Волге до Владивостока приблизительно на 7 тыс. километров, могли быть так хорошо скоординированы без предварительной подготовки. (Очевидно, что такая дерзкая военная операция требовала тщательной подготовки и едва ли могла бы произойти случайно!)
Как уже обсуждалось, любой план в пользу союзников или Америки, если разбирать ситуацию в России комплексно, скорее всего, основывался на использовании чешских войск для оказания поддержки при свержении большевиков с последующим восстановлением правления в виде конституционной монархии.
Таким образом, чрезвычайно короткая ссылка в мемуарах Масарика на то, что чешское восстание не включало в себя «плана по освобождению Николая», выглядит неубедительно. Ведь даже Карл Аккерман, который был первым американским журналистом, прибывшим в Екатеринбург осенью 1918 года под видом сотрудника «Сэтедэй Ивнинг Пост» и «Нью-Йорк таймс», не верил в это. Аккерман, который имел тесные связи с чехами, писал впоследствии:
«Чехословаки, несмотря на их революционный настрой, были склонны вырвать царя из рук большевиков. Имели место независимые русские и иностранные деловые интересы в Екатеринбурге, которые требовали его освобождения».
Таким образом, с мнением К. Аккермана перекликается и позиция Карла Радека, который на собрании 23 мая сообщил о том, что «Нэйшнл Сити Банк» финансировал операцию по освобождению царя, и что чехи под руководством Т. Масарика будут способствовать этому в обмен на оружие и золото. Конечно же, фактически «Нэйшнл Сити Банк» сильно рисковал из-за значительного падения курсов акций, и его Совет директоров, в который входили Чарльз Крейн и Якоб Шифф, должен был быть весьма этим озабочен. И в одной из статей, которая была опубликована в декабре 1918 года в «Нью-Йорк таймс» по поводу Царской Семьи и «Парфёна Домнина», К. Аккерман высказал некоторые из этих мнений. Но довольно странно, что те же самые мнения появились и в книге «Освобождение царя». Так какова же на самом деле была роль К. Аккермана во всём этом деле? (К. Аккерман рассказал со слов некоего мифического слуги Государя – Парфёна Домнина – что он расстрелян, а Его Семья вывезена из Екатеринбурга в неизвестном направлении.) Но, всё же, можно предположить, что К. Аккерман на деле был гораздо лучше информирован, чем пытался это представить, о чём свидетельствует следующая телеграмма:
«Получена из Берна 9 мая 1918 г.
Уважаемому Государственному Секретарю, Вашингтон
Сэр!
Имею честь переслать в отдельной упаковке кожаный кейс, принадлежащий м-ру Карлу В. Аккерману из “Сэтедэй Ивнинг Пост”. В этом кейсе находятся личные бумаги и материалы для публикаций м-ра Аккермана. Ввиду того, что м-р Аккерман совершил свою поездку в Швейцарию с согласия Департамента, я, если вы не возражаете, рискну передать в Департамент этот пакет для передачи м-ру Аккерману по его прибытии в Вашингтон.
Имею честь, сэр, быть Вашим покорным слугой,
В отдельной упаковке: кожаный портфель».
Как видно, К. Аккерман, подобно многим журналистам в то время, действовал в качестве шпиона и, путешествуя под прикрытием корреспондента «Сэтедей Ивнинг Пост», поддерживал тесные связи с Государственным департаментом. И хотя его не было в России в начале июля, то есть когда произошло восстание Савинкова, но к 7 сентября он уже въехал в Россию через Дальний Восток, чему подтверждением следующая телеграмма Государственного департамента:
«Мы уполномочены принимать по телеграфу или передавать в Департамент или полковнику Хаусу через Департамент послания от Карла Аккермана, который едет сейчас через Дальний Восток.
Лэнсинг (Государственный секретарь США)».
Напрашивается вывод, что К. Аккерман должен был быть хорошо проинструктирован, а, следовательно, его выводы нам следует, по крайней мере, учесть. А выводы эти заставляют думать, что чехословацкий корпус не представлял собой брошенное орудие, катавшееся по всей Сибири, а вполне мог действовать сообща с Сибирским правительством учредиловцев. И хотя традиционная советская история придерживается мнения, что различные Белые правительства независимо распространились в Сибири, но только после освобождения, которому способствовали чехи.
Нам из курса истории также хорошо известно, что эти правительства распались на два основных центра власти. Один находился в Самаре, где власть удерживало Социалистическое Революционное правительство (КОМУЧ), а другой – в Омске, где пыталось действовать самопровозглашённое Временное Сибирское правительство (ВСП). Однако утверждение, что КОМУЧ и ВСП, предположительно возникшие после освобождения Центральной Сибири чешскими легионами, были единственными правительственными структурами, действовавшими в 1918 году, представляется в настоящее время спорным.
Так, в телеграмме, посланной 24 июля 1918 года, Военный Атташе САСШ в Екатеринбурге майор Хоумер Слотер сделал следующее заявление:
«…Новое правительство состоит в основном из не имеющих опыта людей, которые честно признают, что им не хватает опыта, и выражают пожелание получить разумные советы. Америка может контролировать это правительство и его политику, если советники будут посланы незамедлительно. Правительство декларирует себя как временное. Эта Дума была собрана в прошлом январе (1918 г.) и была сразу же закрыта большевиками, после чего на тайном собрании было выбрано настоящее правительство, состав которого станет известен только после поражения большевиков…»
А раз это так, то вполне можно предположить тот факт, что это «теневое правительство» могло иметь контакты с лидерами чешского корпуса ещё до мая 1918 года. Однако если то правительство, на которое ссылается Хоумер Слотер, было КОМУЧем или ВСП, тогда оно действовало тайно и в более изысканной манере, чем мы могли до этого предполагать. Но в таком случае, мы снова можем задаться вопросом – каковы были общие причины чешского восстания?
Действия Слотера были очень подробно описаны в его отчётах, присылаемых из Сибири. На этом фоне любопытно выглядит отсутствие отчётов в период с 16 по 24 июля не только в отношении его деятельности в пользу чехов, но даже в отношении его местонахождения (он утверждал, что находился в Омске вместе с заболевшим консулом США Рэем, однако отчётов, подтверждающих это объяснение, нет). А это доказывает, что его «дело», подобно многим другим «делам», в которых был выпущен этот период, было подчищено, или же он сам не доверил описание своих действий бумаге. Но пробел в его записях не является единственным пробелом, относящимся к действиям агентов в Сибири. И в этом можно убедиться на примере личного дела Сиднея Рейли, в котором также имеется подобный пробел, относящийся к тому же временному периоду.
Присутствие в Сибири ещё одной персоны в июне 1918 года подтверждает, что чехи использовались союзниками для свержения большевиков и спасения Романовых.
Во время войны Эммануил Воска был направлен Томашем Масариком для переговоров с главой британской разведки в Соединённых Штатах сэром Уильямом Вайзмэном. (В то время Воска работал в австро-венгерском дипломатическом представительстве.) Через сэра Уильяма Вайзмэна он снабжал британцев ценнейшей информацией. Он организовал службу перехвата конфиденциальных телеграмм и официальной почты из Германии и Австрии и разоблачил одного из шпионов, работавших в русском посольстве в Вашингтоне. Он также прослушивал и телефонные разговоры на линии германского посольства. Но своей информацией он делился не только с Вайзмэном, но и с президентом Вильсоном, и полковником Хаусом.
Из книги «Последний меморандум», изданной под редакцией Ральфа И. Вебера, в которой описывается деятельность генерал-майора Ральфа Г. Ван Демана, мы узнаем, что 5 июня 1918 года он был послан с разведывательной миссией в Европу. Ван Деман ссылается на свою «специальную миссию» несколько раз, но так и не раскрывает её сущности. (Не исключено, что Ван Деман был послан за границу для координации запланированного на лето 1918 года восстания.) В течение того времени такие действующие сотрудники, как Воска и Хоумер Слотер в Екатеринбурге, отчитывались перед Ральфом Ван Деманом, которого часто называли «отцом американской разведки». В то время действиями Ван Демана «руководил» генерал Кун – компаньон принца Артура Коннаутского во время американского отрезка его майской миссии в Японию, имевшей место всего за несколько недель до этого.
Согласно Веберу, Ван Деман относился к Воске с большим уважением и использовал его во время войны.
Воска был редактором газеты в Австро-Венгрии, попал в неприятную политическую ситуацию и из-за этого был вынужден за двенадцать лет до начала войны 1914 года приехать в Соединённые Штаты. Он был настоящим организатором в США Богемского Национального Альянса. На британскую разведку он работал в 1914–1916 годах, и действия его были чрезвычайно искусными… Оплата всех расходов этих агентов осуществлялась Альянсом. Когда Соединённые Штаты вступили в войну, Воска остановил деятельность Альянса в США, сказав, что теперь он чувствует, что его деятельностью должны руководить США и что это означает военный контроль.
В 1918 году по указанию Ван Демана Соединённые Штаты официально признали Воску: «…мы затем уполномочили Воску и еще шесть человек и послали его вместе с пятью его сотрудниками во Францию…»
Хотя Воска отправился во Францию, имеются другие отчёты, свидетельствующие о том, что он также находился в России. И снова от Ван Демана мы узнаем о том пространстве, в которое был вовлечён Воска:
«… в этом разговоре с Воской было решено, что ему, как и прежде, следует продолжать свою работу, поддерживая тесные контакты с м-ром Бенешем и первым президентом Чехословакии м-ром Томашем Масариком».
Теперь можно предположить, что по указаниям Масарика Воска мог поддерживать контакты с чешским легионом в районе Екатеринбурга. А если мы считаем, что чешские войска должны были спешить к Екатеринбургу не просто по причинам военной тактики, то вполне возможно предположить, что они были вовлечены в попытку освобождения Царской Семьи.
Некоторые исторические труды говорят о том, что после спонтанно произошедшего восстания чешского корпуса Царская Семья была уничтожена главным образом потому, что чехи приближались к Екатеринбургу, и большевики впали в панику, опасаясь, что Романовы будут вырваны из их рук. Но Масарик впоследствии в своих мемуарах утверждал, что чехи не намеревались освобождать бывшего царя. Если вообще Масарик был так же активен в тайных делах, каким он предстаёт в своих отношениях с Воской, сэром Уильямом Вайзмэном и Чарльзом Крейном, тогда, само собой разумеется, он мог рассматривать информацию о деятельности, в которую он был вовлечён, в качестве государственной тайны. И тайну эту он должен был, как глава государства, хранить. А следовательно, это его утверждение, как и многие другие, сделанные в отношении рассматриваемого периода, представляются не соответствующими действительности.
Свидетельства, которые мы анализировали до сих пор, говорят о том, что британские, американские, чешские и французские тайные агенты совместно работали над свержением большевиков и освобождением Царской Семьи. Но для осуществления этого необходимо было, чтобы военные и дипломатические службы различных правительств действовали согласованно.
24 июля 1918 года Хоумер Слотер послал отчёт о ситуации со ссылкой на «larrabee» – шифр, который использовался в окрестностях Екатеринбурга. Этот особенный шифр был разработан в 1913 году и должен был применяться во время любых секретных переговоров между офицерами армии, флота и дипломатической и консульской службами, когда они совместно привлекались к выполнению миссии. В остальных случаях каждая из этих служб должна была использовать свой собственный шифр.
Кроме того, в свете новых доказательств теперь представляется бесспорным, что британский агент капитан Кенет Дигби-Джонс, который случайно (или по совпадению) был рекомендован для службы в Сибири сэром В. X. Кларком (тем же человеком, который сопровождал Армитстеда в «торговой миссии»), передал чехам приказы, что им необходимо взять Пермь и Вятку и соединиться с союзниками под Вологдой как можно скорее.
А в связи с этим весьма интересно привести текст телеграммы генерала Пула в Архангельск:
«Дешифровано. М-р Линдли (Архангельск) (британский поверенный в делах, связанный с банковской программой). 7 ч. 12 мин. вечера 27 августа 1918 г.
Моя телеграмма 101… польский офицер привез шифрованное сообщение от британского, американского и французского консулов в Екатеринбурге. Мы не можем расшифровать наши, но посол Соединенных Штатов дал мне свою копию, в которой содержалась дополнительная информация. В начале июля большевики расстреляли 73 человека, арестованных в городе и его окрестностях, среди которых были и три женщины. Капитан Дигби-Джонс, которого я послал из Вологды около 10 июля, доложил, что время наступило, и сообщил чехам, что им следует приложить все усилия для соединения с нашими войсками под Вяткой».
Но Дигби-Джонс никогда уже не поведает нам свою собственную историю, потому что в секретном сообщении удостоверялось, что он умер «25 сентября в Челябинске от менингита и остановки сердца» и «все подробности известны Элиоту». (Сэр Чарльз Элиот был британским Верховным комиссаром в Сибири, официально посланным в Екатеринбург для расследования обстоятельств исчезновения Царской Семьи.)
Британские летописи также обнаруживают, что генерал М. К. Дитерихс, командовавший другой чешской группировкой, наступавшей со стороны Владивостока, находился на содержании британцев. С выявлением этой дополнительной информации определение чешского восстания, как спонтанного, должно быть пересмотрено, а правильный ответ может быть обнаружен после того, как будет установлено тайное участие американцев в двойной политике.
Через несколько недель после начала восстания чешские легионы проложили себе путь вдоль Транссибирской железной дороги, захватив, таким образом, у большевиков большой кусок Урала и Сибири. Вполне возможно, что «спонтанное» восстание было на самом деле спланированной попыткой отделить Сибирь от основной части России и освободить Царскую Семью. Но при недостатке снабжения и без более серьёзной поддержки союзников оно не могло быть успешным.
Получается, что все разнообразные миссии, включая и миссию принца Артура, входили в скоординированные планы интервенции с последующей попыткой освобождения Царской Семьи. Во время поездки через Соединённые Штаты принца Артура сопровождал генерал-майор Кун, который в то время был командующим 79-й дивизией под Форт-Мэйдом, недалеко от Вашингтонского федерального округа.
К середине июня принц Артур, путешествовавший инкогнито, при посредстве Брекенриджа Лонга, который снова использовал Гэвина Мак Наба в Сан-Франциско, для того чтобы нейтрализовать активность прессы, находился на пути в Японию. Генерал Кун вернулся в Вашингтон, но военная летопись Куна не содержит информации о его местонахождении с начала июня до 28 июля 1918 года, когда он, наконец, объявился и присоединился к своей дивизии во Франции, выведенной туда за время его отсутствия.
Завеса секретности сохранялась, пока принц пересекал Тихий океан, и ещё больше усилилась во время его пребывания в Японии. Весьма интересно, что после того, как 24 июня принц Артур вручил жезл японскому императору, он взял несколько дней «для отдыха», продолжая притом оставаться окружённым непроницаемой стеной молчания в Японии, а позднее, и в Канаде, куда он был доставлен впоследствии на японском крейсере. (Принц не проявился вплоть до 27 июля.)
В то время даже британский посол в Японии сэр Канингхэм Грин не мог прорваться за эту непроницаемую завесу и сетовал, что для получения информации (о принце) ему приходится обращаться к коротким официальным программам и скудным отчётам прессы. Грин присутствовал на встрече принца с японским премьер-министром и сообщал:
«Его Превосходительство добавил, что, очевидно, посылая принца Артура в Японию, король имел в виду нечто большее, чем просто церемонию вручения фельдмаршальского жезла».
Чем бы это «нечто большее» ни было, для нас оно останется секретом. Принц не испытывал недостатка возможностей в осуществлении необходимых приготовлений для обеспечения безопасности Романовых и обсуждения всех связанных с этим подробностей с императором Японии. Официальный отчёт о его миссии, датированный 10 июля, был доставлен в Виндзорский замок полковником Клайвом Виграмом – дублёром, а впоследствии, и преемником личного секретаря короля Лорда Стэмфордхэма. Но как и в случае с большим количеством других необходимых документов, имеющих отношение к событиям, произошедшим в этот отрезок времени, мы, к сожалению, никогда не сможем узнать его содержание.
После провала миссии В. В. Яковлева союзники в течение мая ускоренными темпами работали над дополнительными планами по вызволению Романовых с территории Красного Урала. И в этом случае помощь чешского легиона была жизненно необходима для успеха восстания, запланированного для разгрома большевиков и освобождения Царской Семьи, поскольку к тому времени этот легион уже представлял собой армию союзников в Сибири, а Англия, Франция и Соединённые Штаты не могли отвлекать свои войска с Западного фронта.
Но для решения этих задач необходима была и поддержка Японии. Для обеспечения побега Царской Семьи, содержавшейся в Ипатьевском доме под неусыпным контролем Уралсовета, требовались знания и мастерство множества таких людей, как Генри Армитстед, Йонас Лиед и Джером Баркер Лэндфилд. Поэтому поездка принца Артура была необходима для того, чтобы заложить основы для последующих действий.
Интенсивная деятельность, осуществлявшаяся в России, Англии, Америке и Японии в мае 1918 года, носила не случайный характер. Это были безнадёжные времена, и опасное положение, в котором оказались Романовы в заключении, становилось всё более угрожающим день ото дня. Визит принца Артура в США и Японию по повелению Короля Георга V становится более понятным, когда мы поймём, что политическая ситуация постепенно выходила из-под контроля.
Разговоры о плане побега, после которого Царскую Семью можно было бы перевезти на север России, обретали форму.
Йонас Лиед записал в своём дневнике, что он встретился близ Лондона с Генри Армитстедом из компании «Гудзонов залив» для обсуждения возможности проведения операции по организации побега для Царской Семьи. То есть, фактически, есть основания утверждать, что Генри Армитстед вместе с Лесли Урквартом, близким другом Йонаса Лиеда и сэра Фрэнсиса Линдли (по банковской программе), могли в июне 1918 года принимать участие в попытке спасения Царской Семьи, поскольку под видом осуществления торговой коммерческой миссии они находились за пределами Мурманска.
Эта торговая миссия осуществлялась предположительно без ведома британского МИД. Теперь, однако, представляется маловероятным, чтобы так было на самом деле. Её заявленной целью была консультация по торговым отношениям и попытка поставить преграду экономическому проникновению Германии в Россию. Однако уже никогда не удастся понять, в чём заключались её истинные цели. Один из разработчиков плана британской интервенции, Ричард Улман, замечал:
«Обстоятельства, которыми сопровождалась эта экономическая миссия, до сих пор не вполне ясны… Кажется, министерство иностранных дел не имело к ней отношения».
25 июня 1918 года из Мурманска Армитстед написал письмо своему руководителю С. В. Сэйлу, возглавлявшему компанию «Гудзонов залив», и другому человеку, с которым Лиед встречался в Лондоне по поводу попытки освобождения. Сэйл вел крупные дела в Японии и служил в качестве агента в компании «Балдуин Локомотив компани», которую представлял также и Сидней Рейли. Не следует также забывать, что именно Сэйлу писал глава британской разведки Мансфилд Камминг, благодаря его за использование Генри Армитстеда в «Русской миссии». В своём письме Армитстед выражает большую озабоченность и разочарование:
«Как видите, мы все еще находимся в Мурманске, отчасти из-за того, что выход в Белое море все еще закрыт льдом, и отчасти из-за таких обстоятельств, о которых я не имею возможности написать… Насколько я могу судить, а Уркварт в целом придерживается такого же мнения, вся наша миссия в коммерческом смысле окончится неудачей по тем направлениям, которые вы предлагали. Кларк (сэр Уильям) очень любезен, но типичный бюрократ и, как большинство из них, ставит свою личную карьеру превыше всего.
…Приготовления к этому плану далеки от того, что намечалось, и мы с Урквартом достаточно говорили на эту тему. Третий член нашей миссии Ламберт является единственным штатным сотрудником и, следовательно, помалкивает… Боюсь, что Парис (позднее генерал Пэрис, в то время глава французских войск в Сибири. – Ю. Ж.) будет сильно расстроен, когда он обнаружит… и таким образом, наша миссия завершается ожиданием указаний продолжать их путешествие (курсив мой. – Ю. Ж.). Я напишу вам снова, как только смогу больше разузнать. Генри Армитстед, ответственный за дом в Мурманске, брал Йонаса Лиеда на встречу со знаменитым “С” – Мансфелдом Каммингом – директором морской разведки адмиралом (“Пузырем”) Халлом, чьи операции на море являлись частью попыток по спасению Царской Семьи и одного из великих князей Романовых. Теперь он находился в Мурманске из-за того, что выход в Белое море был “не по сезону” закрыт льдом. Он ожидал приказов продолжать не “наше путешествие”, но “их путешествие”. (…)
“Их путешествие” могло указывать на то, что он ожидал новостей о прибытии императорской семьи». (…)
Таким образом, подводя итог сказанному, можно смело говорить о том, что в «деле спасения Царской Семьи» союзниками, безусловно, был оставлен свой след, более детальные подробности которого ещё подлежат дальнейшему изучению.
2
Так, например, изначальная точка зрения американцев и администрации президента Вудро Вильсона заключалась в том, что Февральская революция 1917 года перевела Россию в идеальное положение – установив прогрессивное правительство, Россия сможет развиваться от автократической страны в такую, которая в конечном итоге займёт своё должное место в ряду демократических наций.
3
Доменик Венер в своей книге «Белое и красное», опубликованной в Париже в 1997 году, цитирует телеграмму, которую Якоб Шифф в апреле 1917 года послал Павлу Милюкову, тогдашнему министру иностранных дел Временного Правительства: «Позвольте мне как врагу тиранической автократии, которая безжалостно преследует людей моей веры, поздравить Вас и русский народ».
4
Думается, что узнав об этих намерениях, генерал Д. Х. Вильямс сообщил по своим каналам относительно планов Государя отправиться в Англию, ответом на что, вероятнее всего, послужила телеграмма короля Георга V от 7/20 марта 1917 года.
5
Но, подавая эту телеграмму, генерал М. В. Алексеев умолчал об одной немаловажной детали, которая имелась в записке-первоисточнике: «О приезде [Царской Семьи – Ю. Ж.] по окончании войны в Россию, для постоянного жительства в Крыму – в Ливадии».
6
По поручению генерала М. В. Алексеева, генерал Д. Вильямс сделал запись беседы, состоявшейся 6/19 марта 1917 года в Ставке между Вдовствующей Императрицей Марией Фёдоровной (приезжавшей туда для встречи с Государем) и Великим Князем Александром Михайловичем. (Текст этой беседы впоследствии был передан генералу М. В. Алексееву.) По мнению Вдовствующей Императрицы, «главным образом в данное время предстоит решить вопрос об отъезде Государя, который отказывается ехать куда бы то ни было без Государыни». Генерал Д. Вильямс пояснил, что уже телеграфировал в Лондон (см. п. 3 примечаний к данной главе), но Марию Фёдоровну в то время беспокоил вопрос о морском путешествии, ибо Она предпочитала, чтобы «Его Величество поехал в Данию». Великий Князь Александр Михайлович выразил опасение, что «какие-нибудь революционеры могут задержать поезд или оказать какие-нибудь затруднения дороге», на что генерал Д. Вильямс ответил, что « … мы – военные представители союзников готовы сопровождать Государя до Царского Села». Великий Князь сказал, «…что это является необходимым и настаивал весьма энергично, чтобы я (Д. Вильямс. – Ю. Ж.) настоял на этом даже против желания Его Величества». Генерал Д. Вильямс обещал обо всём телеграфировать своему послу, а в заключение выразил собственное мнение, что Великим Князьям следовало бы обратиться к народу с манифестом о признании нового российского правительства с целью обеспечения продолжения войны («Совсем непрактичный совет» – сделал свою отметку на тексте записи этой беседы генерал М. В. Алексеев.
7
Эта телеграмма не была получена Государем, который отбыл из Ставки в Царское Село утром 7/20 марта 1917 года.
8
2/15 марта 1917 года, то есть уже в день отречения Государя Императора Николая II от Российского Престола, на заседании Кабинета Министров Министр иностранных дел П. Н. Милюков сделал сообщение, которое нашло своё отражение в Журнале № 1 заседания Временного Правительства:
«Министр иностранных дел по вопросу о дальнейшей судьбе членов бывшей императорской фамилии высказался за необходимость выдворения их за пределы Российского государства, полагая эту меру необходимой как по соображениям политическим, так равно и небезопасности их дальнейшего пребывания в России. Временное Правительство полагало, что распространять эту меру на всех членов семьи дома Романовых нет достаточных оснований, но что такая мера представляется совершенно необходимой и неотложной в отношении отказавшегося от престола бывшего императора Николая II, а также и по отношению к великому князю Михаилу Александровичу и их семьям. Что касается местопребывания этих лиц, то нет надобности настаивать на выдворении за пределы России и при желании их оставаться в нашем государстве. Необходимо лишь ограничить их местопребывание известными пределами, равным образом как ограничить и возможность свободного их передвижения».
9
В ходе этого разговора П. Н. Милюков также заметил, что если его предложение будет принято, Временное Правительство «благоволит ассигновать необходимые средства для их содержания», заверив посланника в том, что таковое будет весьма щедрым.
10
При описании этой встречи в своей книге «Мемуары дипломата» Д. Бьюкенен несколько смещает акцент данного разговора, преподнося его в следующем виде:
«Он (П. Н. Милюков. – Ю. Ж.) не сочувствует тому, сказал он, чтобы Император проследовал в Крым, как первоначально предполагал Его Величество, и предпочитал бы, чтобы Он остался в Царском, пока Его Дети не оправятся в достаточной мере от кори для того, чтобы Императорская Семья могла выбыть в Англию. Затем он спросил, делаем ли мы какие-нибудь приготовления к Их приёму. Когда я дал отрицательный ответ, то он сказал, что для него было бы крайне желательно, чтобы Император выехал из России немедленно. Поэтому он был бы благодарен, если бы Правительство Его Величества предложило ему убежище в Англии и если бы оно, кроме того, заверило, что Императору не будет дозволено выехать из Англии в течение войны».
11
9/22 марта 1917 года состоялось очередное заседание Исполкома Петросовета, на котором обсуждался вопрос о недопущении «отъезда в Англию Николая Романова и его аресте».
12
Примечательно, что совершенно противоположная оценка была дана тогда ещё молодым Уинстоном Черчиллем – Первым лордом Адмиралтейства (Нач. Штаба Королевских Британских ВМС), который также представлял Российскую Империю в «корабельных образах»:
«Трагедия состояла в том, что русский корабль затонул, когда гавань уже была видна. Русская армия в Первой мировой войне проявила уникальную способность – в кратких промежутках между боями она полностью восстанавливала свою боевую мощь. Расстояния, обстоятельства – кто бы мог это исправить? Заслуги царя оценены недостаточно. Как бы его ни критиковали, кто ещё на его месте сделал бы лучше?».
13
В конце концов, Д. Бьюкенену посоветовали не предпринимать в дальнейшем действий, могущих способствовать этому делу, в связи с тем, что есть признаки значительного подъёма антимонархического движения, включая персональные нападки на короля. Частично поводом для этих нападок служит предполагаемый приезд экс-императора и короля Греции Константина, которого он поддерживал. Поэтому не исключалась возможность того, что приезд Царской Семьи мог в значительной степени усилить эту опасную тенденцию.
14
В этом полном отчаяния письме от 20.06./2.07-1918 года П. С. Боткин писал, что с величайшим сожалением должен констатировать, что все его стремления оказались напрасны, а на его письменные обращения и просьбы ни разу не ответили. Так что единственным доказательством того, что эти письма дошли до адресатов, служат лишь курьерские квитанции.
15
В связи с этим запросом Д. Бьюкененом на имя А. Бальфура была отправлена телеграмма следующего содержания:
«Лично. Моя личная телеграмма от 25 июля.
Министр иностранных дел (М. И. Терещенко. – Ю. Ж.) сообщил мне сегодня, что Керенский видел вчера Императора, условился относительно Его отъезда в Тобольск во вторник. Его Величество предпочёл бы уехать в Крым, но, по-видимому, остался доволен предложением переместить место жительства. Я выразил надежду, что в Сибири свобода Императора не будет так ограничена, как в Царском Селе, и что ему разрешат свободу передвижения. Несмотря на то, что он совершил много ошибок, и несмотря на слабость характера, он не преступник, и к нему должны относиться с возможно большим вниманием. Министр иностранных дел ответил, что Керенский, вполне разделяя это мнение, готов всецело идти навстречу желаниям Его Величества. Он дал Ему разрешение выбрать лиц, которые будут сопровождать Его. Возможность для Него свободы передвижения будет зависеть исключительно от общественного настроения в Тобольске. В Царском Селе это было для него опасно. Истинной причиной переезда Императора является растущая среди социалистов боязнь контрреволюции. Я сказал министру иностранных дел, что по моему мнению, эта боязнь неосновательна, поскольку дело идёт о династии. Правда, существует движение в защиту порядка и сильной власти, но … это совершенно другое дело. Министр иностранных дел вполне с этим с согласился».
16
По дороге на Мальту и во время нахождения там Вдовствующая Императрица находилась в хорошем настроении. Она, в частности, настаивала на том, что оба Её Сына живы, но сопровождавшая Её в этой поездке маркиза Милфорд Хейвен впоследствии писала, что Мария Фёдоровна уверяла её, что Царская Семья спрятана на севере России, куда добраться можно только в летнее время. А их охранниками и слугами, как уверяла Она, были жители-старообрядцы, поселившиеся там ещё с петровских времён.
17
5 мая 1917 года М. И. Терещенко сменил на посту Министра иностранных дел подавшего в отставку П. Н. Милюкова.
18
Об этой встрече в Киеве стало известно непосредственно от самого Т. Масарика, так как она не упоминается в личных бумагах Ч. Крейна. Будучи представителем президента В. Вильсона, он, по всей видимости, поехал в Англию для выполнения одной из порученных ему миссий. И то же самое он сделает на следующий год, когда в декабре 1918-го отправится в Китай для выполнения очередной секретной миссии по поручению президента. Однако ясно одно, что непосредственно после того, как он оставил Англию в ноябре 1917 года, строительство дома было ускорено, а также начала оформляться банковская схема финансирования антибольшевистских сил генерала А. М. Каледина, в которой он сам принимал непосредственное участие своими личными капиталовложениями.
19
Командир Донской армии генерал от кавалерии А. М. Каледин застрелился 29 января 1918 года в Новочеркасске.
20
Предполагаемая банковская схема должна была быть использована для того, чтобы приобрести контроль над определёнными банками, включая и Сибирский банк, для размещения в нём фондов союзников.
21
11 декабря 1917 года В. Вильсон уже принял решение оказать тайную помощь генералам А. М. Каледину и М. В. Алексееву против большевиков, но колебался, – участвовать ли ему в подкупе персов, основывая своё решение на отчетах американского консула Маддина Саммерса и результатах поездки Ч. Крейна на юг. (Оба они указывали, что генералы М. В. Алексеев и А. М. Каледин являются «спасением России».) Осознавая, что моральный дух войск Юга России был достаточно низким вследствие недостатка финансирования и снабжения, Государственный секретарь САСШ Роберт Ленсинг считал, тем не менее, что он может предложить им только «Заявление о поддержке», всерьёз полагая, что «ситуацию можно спасти с помощью нескольких слов ободрения».
22
Мак Аду был зятем президента В. Вильсона и, безусловно, не был безучастным наблюдателем – его дочь вышла замуж за Второго секретаря посла при Временном Правительстве. (Соединённые Штаты Америки не признали советское правительство и не высылали посольство до начала 1930-х годов.)
23
В своей книге «Американская секретная война против большевизма» Дэвид Фоглсонг прямо указывает на то, что причина, по которой В. Вильсон обеспечивал союзническую поддержку России именно таким образом, заключалась в том, чтобы, передавая «деньги через союзников Америки, (…) обойти законодательные ограничения на президентскую власть».
24
Вскоре после этого американский консул Де Витт Пул (Дэвид Пул) под предлогом оценки коммерческой ситуации в Центральной России прибыл в Ростов-на-Дону. На самом же деле, главной целью его поездки была встреча с генералом А. М. Калединым и общая оценка военной ситуации. Де Витт Пул также считал, что САСШ должны поддержать «контингент Каледина». Помимо Ростова-на-Дону, Де Витт Пул посещал также и Киев, который, как и упомянутый город, был центром деятельности Ч. Крейна и Т. Масарика.
25
Как писала известный американский историк Присцилла Робертс:
«Большевистская революция в ноябре 1917 г., более чем подтвердила дурные предчувствия (Шиффа) и обусловила стремительное и драматическое изменение в отношении Шиффа к России».
26
Сидней Рейли, широко известный теперь как «ас среди шпионов», до войны проживал в Нью-Йорке, где в качестве военного подрядчика России принимал участие в контрактах на многие миллионы долларов. На сегодняшний день есть все основания предполагать, что он был завербован британской разведкой ещё задолго до 1918 года. Однако первая официальная информация о его связи с британской разведкой относится к 1917 году.
Настоящая имя и фамилия Сиднея Рейли – Соломон Григорьевич Розенблюм. Он родился в марте 1874 года в еврейской семье, проживающей на территории русской Польши. При получении британского паспорта в 1899 году он поменял своё имя на Сиднея Джорджа Рейли. (Насколько удалось установить, С. Рейли получил свой паспорт без прохождения через официальные инстанции, а взятая им фамилия предположительно была девичьей фамилией его первой жены.)
На протяжении многих лет С. Рейли умело вёл свои дела в русских деловых и придворных кругах, а также и за их пределами, а его деловые предприятия в Америке во время Первой мировой войны обеспечили ему финансовую независимость. В самом начале войны он был агентом, принимавшим участие в контракте на поставку русскому правительству 1,2 миллиона 3-линейных винтовок, изготовленных на заводах компании «Ремингтон». (Как мы сможем убедиться позднее, эта фирма будет иметь непосредственное отношение к нашей истории.)
После захвата власти большевиками, одним из первых членов внутреннего круга банковской программы в Москве был некто Хью Линч. А когда в определённых деловых кругах утвердилось мнение, что он стал вести себя неблагоразумно, выбор пал на С. Рейли, который был послан британцами в Россию ему на замену в апреле 1918 года. Косвенное свидетельство этому назначению имеется в книге В. Крымова «Портреты выдающихся людей», где приводится выдержка из воспоминаний бывшего царского чиновника инженера Белоя, знавшего С. Рейли ещё до войны 1914 года и вновь встретившегося с ним в России в 1918 году:
«Мне было известно, что в Москве и Петербурге есть некий Линч, англичанин, хорошо говоривший по-русски, который занимался продажей чеков английских банков на крупные суммы, а вырученные от этих сделок деньги поступали для поддержки Деникинской армии. Я спросил Рейли, правда ли это, и был изумлён, когда Рейли полностью и открыто подтвердил, что это так, но некоторые круги английского правительства не были удовлетворены деятельностью Лича и отдали приказ о смещении Лича и передаче дел в руки Рейли».
27
До революции Кароль Ярошинский вполне успешно вёл свои дела и с разрешения Государя приобрёл контрольные пакеты нескольких банков в Санкт-Петербурге. Кое-кто описывал К. Ярошинского как спекулянта, тогда как другие видели в нём опытного бизнесмена, который использовал акции одного банка, для того чтобы закладывать и использовать кредиты для биржевой игры и скупки акций других банков. В конце концов, ему удалось поставить под свой контроль несколько русских банков, что, безусловно, мог сделать только человек, обладающий опытом и глубоким знанием русской банковской системы. Помимо своих банковских интересов, К. Ярошинский обладал акциями Восточно-Сибирской железной дороги и некоторых нефтяных компаний в Баку. Свой первоначальный капитал он сделал на сельскохозяйственных предприятиях близ Киева, где осуществлял крупные операции с зерном и сахаром. Будучи известным покровителем искусств как в России, так и за её пределами, К. Ярошинский свою особую поддержку оказывал пианисту Артуру Рубинштейну. Щедрость же его была не менее известна, чем меценатство, как, впрочем, и увлечение азартными играми в Монте-Карло. Известно также и то, что К. Ярошинский сохранял лояльность по отношению к союзникам, несмотря на то, что имел место случай, когда один английский репортёр и один из английских чиновников, которые не были проинформированы относительно банковской программы, пытались публично дискредитировать его. Подтверждение лояльности К. Ярошинского мы также находим в сообщении, посланном Директором военной разведки САСШ 25 сентября 1918 года, в котором выражается официальная точка зрения союзников на его личность:
«По неподтвержденному сообщению из Стокгольма, датируемому 5 июня 1918 года, Русский банк для иностранной торговли и Петроградский международный банк принадлежали одному Каролю Ярошинскому».
А далее в нём утверждается, что К. Ярошинский настроен просоюзнически. Некоторое время К. Ярошинский работал в паре со своим помощником Б. Н. Соловьёвым – молодым монархистом и офицером Гвардейской Конно-Артиллерийской бригады. Будучи сыном действительного статского советника и казначея Священного Синода Н. В. Соловьёва и мужем Матрёны Распутиной (на которой он женился после гибели её отца из корыстных побуждений), он довольно быстро вошёл в доверие к А. А. Вырубовой и впоследствии стал её связником с Царской Семьёй. Именно Б. Н. Соловьёву К. Ярошинский поручал для доставки и передаче Царской Семье некие крупные суммы денег, часть из которых тот утаивал для личных нужд.
28
Интересно также и то, что Сидней Рейли – правая рука Ярошинского в этой банковской программе – также был чрезвычайно близок с Великим Князем. В так называемую «группу Вонлярлярского», помимо него самого, входили два бывших царских министра: бывший Министр иностранных дел Н. Н. Покровский и бывший Министр земледелия А. В. Кривошеин. А. В. Кривошеин стоял на конституционно-монархических позициях и был членом консервативного Правого центра, в то время как В. М. Вонлярлярский был двоюродным братом бывшего Председателя Государственной Думы М. В. Родзянко. (Сам же М. В. Родзянко выразил желание остаться в тени, поскольку понимал, что своими недальновидными политическими действиями в марте 1917 года он нанёс всей патриотично настроенной части Русской Армии непоправимую обиду.)
Так вот именно эта группа отвечала за введение финансиста К. Ярошинского в программу оказания помощи союзникам и в финансировании любой деятельности антибольшевистской направленности. И что также весьма примечательно, каждый из этих людей был весьма лоялен по отношению к бывшему Государю.
29
Если только для того, чтобы успокоить В. И. Ленина? Но это не представляется достаточной причиной. И потом, для чего возникла необходимость в секретной передаче денег В. И. Ленину? Или же это был путь для передачи ему взятки в завуалированном виде? (Ведь даже сегодня остаётся невыясненным вопрос о том, были ли вообще получены какие-либо деньги «прогерманскими акционерами».) Непонятым также остаётся и то, были ли вообще какие-либо «прогерманские акционеры». А если это так, то какая же в самом деле цель преследовалась при передаче этих денег В. И. Ленину?
30
В то время К. Ярошинский действовал под псевдонимом Лайвуэе (живой провод).
31
Роберта Брюса Локарта, специального посланника Британии в Советской России, который был оставлен в деле, когда Фрэнсиса Линдли отозвали назад в Лондон, вероятно, по той же самой причине, что и Кейеса, – для прояснения ситуации с банковской программой.
32
Раймонду Роббинсу из американского Красного Креста, который фактически действовал как американский представитель у большевиков.
33
Этот знак был любимым знаком Государыни. Она верила в его магическую силу и оставляла его изображения на личной переписке и многих других принадлежавших ей личных вещах, включая и собственный автомобиль, где таковой был укреплён над облицовкой радиатора, подобно логотипу, устанавливаемому на машинах фирмы «Мерседес-Бенц». В день приезда Царской Семьи в Екатеринбург Императрица нарисовала карандашом этот знак между окнами Своей комнаты в Ипатьевском доме.
34
С. В. Марков был знаком со своим однофамильцем – монархистом и депутатом Государственной Думы Н. Е. Марковым, возглавлявшим фракцию «Союз русского народа». Во избежание путаницы, в Царской Семье С. В. Марков именовался «Маленький Марков», а Н. Е. Марков – «Марков-II».
35
Как выяснилось впоследствии, о. Алексей (Васильев) присвоил себе многое из того, что было передано ему на хранение Царской Семьёй.
36
Великий Князь Михаил Михайлович – 2-й сын Великого Князя Михаила Николаевича и Великой Княгини Ольги Фёдоровны. Как сочетавшегося морганатическим браком без разрешения родителей в 1891 году, Александр III лишил его всех воинских регалий и запретил возвращение в Россию. В течение многих лет он вместе со своей женой графиней Торби проживал на вилле «Казбек» в Каннах. Но основным местом его проживания стал Лондон. Вернуться в Россию Великому Князю Михаилу Михайловичу и его семье было разрешено только спустя двадцать один год, на празднование 100-летней годовщины Бородинского сражения. В начале Первой мировой войны Великий Князь стал Председателем комиссии по консолидации русских заказов за рубежом. В 1916 году он писал Государю о том, что британской разведкой предсказывается вспышка революции в России.
37
Что в дальнейшем произошло с Ольгой Старжевской, остаётся загадкой, но ходили слухи, что она была расстреляна. Как бы там ни было, со всей определённостью можно сказать, что с такими тесными связями, которые были у Рейли во ВЦИК, союзники могли быть хорошо осведомлены.