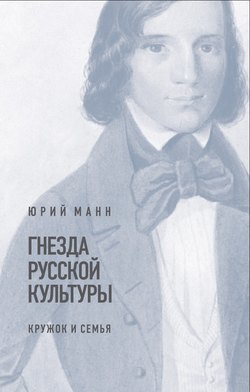Читать книгу Гнезда русской культуры (кружок и семья) - Юрий Владимирович Манн - Страница 5
Часть первая
Кружок
Глава вторая
Ядро кружка
ОглавлениеВ начале 30-х годов вокруг Станкевича собиралось много людей – десятка полтора, если не больше. Но чаще всего на квартирке Николая в доме профессора Павлова бывали Красов, Клюшников, Белинский… Можно сказать, что они составили ядро кружка.
Получилось это непреднамеренно, путем того же «естественного отбора». Сближало сходство интересов, душевные симпатии, примерное равенство в интеллектуальном развитии. Все это заставляло забывать многие другие различия – и в характерах, и в происхождении, и в вынесенных из отеческого дома привычках и склонностях. Ведь за плечами каждого был свой путь, свой склад жизни, свой быт, свои родительские наставления и заветы. Константин Аксаков потом скажет: «И вместе мы сошлись сюда с краев России необъятной».
Василий Красов приехал в Москву с севера, из Вологодской губернии. Он родился в небольшом уездном городке Кадникове 23 ноября 1810 года. Красов поступил на тот же курс, что и Станкевич, хотя был старше его тремя годами. «Опоздание» Красова не случайное: на студенческую скамью его привела непрямая, извилистая дорога.
Поскольку отец Василия был священником, соборным протоиереем, то и ему предстояло, по заведенному порядку, вступить на духовное поприще. Так оно поначалу и устроилось: к одиннадцати годам мальчик был принят в вологодское духовное училище, спустя несколько лет поступил в духовную семинарию. Но семинарии Красов не окончил и, преодолев немалые трудности, сумел добиться права продолжить образование в светском учебном заведении. В сентябре 1830 года его приняли на словесное отделение Московского университета.
Но духовная среда, пребывание в училище и в семинарии сослужили Красову свою службу: он изучил древние языки – греческий и латинский, неплохо знал историю, получил начальные сведения по философии.
Из детских и юношеских лет вынес Красов и хорошее знание народной жизни, быта низших сословий. А главное – постоянный интерес к этой жизни и быту. Позднее один мемуарист, литератор, переводчик русской литературы на немецкий язык Фридрих Боденштедт, хорошо знавший Красова, отметит, что он «по своему происхождению, по своим симпатиям и по роду занятий глубоко коренился в русском народном мире».
По характеру Красов представлял собой забавную смесь самых противоположных свойств. Часто ли можно было встретить, что называется, нещеголеватого щеголя, человека, который одновременно подчеркнуто внимателен и страшно равнодушен к своей внешности? Красов умел совместить и то и другое. «Это был воплощенная чистоплотность, – отмечает Боденштедт, – выбритый всегда тщательно, без малейшей пылинки на платье, но для него было безразлично, как это платье на нем сидело, лишь бы он чувствовал себя в нем удобно».
Если человек физически подготовлен, хорошо владеет своим телом, то он ловок, свободен в обращении, изящен… Так принято считать, но Красов опровергнул бы и это представление. С одной стороны, как говорил тот же мемуарист, Красов «старался придать своим членам гибкость всевозможными телесными упражнениями, был превосходный пловец, смелый наездник и даже ловкий танцор…». А с другой… С другой стороны, известно, что товарищи в шутку прозвали его «штабс-капитан Красов», и добродушный, необидчивый Красов это прозвище смиренно принял: «…оно мне показалось так забавно с моею мелкою угловатою фигурою…».
Противоречия Красова имеют свои причины: юноша был стеснителен, очень стеснителен. А стеснительность нередко приводит к непоследовательности, к «срывам», как бы заставляет человека выступать в двойственном свете. Все зависит от окружения, от того, как тебя воспринимают. Привыкший к бедности, к постоянной нужде (Красов и в студенческие годы подрабатывал уроками), он чувствовал себя свободным лишь в тесном кружке товарищей. Но едва только появлялся «посторонний», да еще знатный, Красов стушевывался, замолкал или говорил и делал не то, что хотел.
В студенческие годы обнаружились актерские способности Красова. Но знали об этом немногие, да и сама актерская деятельность его удачно протекала лишь в сфере, ему хорошо знакомой, близкой, и питалась впечатлениями, почерпнутыми из повседневной, простой жизни.
Боденштедт рассказывает: «С живой фантазией в нем соединялся замечательный талант к мимике, который он сдерживал, однако в строгих границах и, к счастью, давал ему волю только в кругу людей, с которыми он чувствовал себя совершенно без стеснения. В своих рассказах, выливавшихся постоянно в форме отдельных сценок и эпизодов, он умел передать чрезвычайно метко разговор людей разного типа, но вышедших из народа, начиная от простого мужика и кончая священником и мелкопоместным дворянином старого закала, причем он передавал неподражаемо верно и особенности их речи, и самое выражение лица, но положительно не мог представить мало-мальски сносно лиц высшего круга…»
Своему дару рассказчика и подражателя Красов, видимо, большого значения не придавал. Другое дело – поэтическая деятельность.
Василий писал стихи, вел поэтический дневник своих переживаний и чувств. Друзья признали Красова поэтом, да и не только друзья: его стихи охотно печатали московские издания – журнал «Телескоп» и газета «Молва».
Излюбленная тема молодого поэта – подвиги предков в борьбе с татарами, поляками, шведами. Он пишет «Куликово поле» (кстати, посвящая его Станкевичу), в котором «побоище» с татарами трактует вполне современно, в духе гражданской поэзии начала века – как столкновение «свободы» и «тиранства». Он воспевает «булат заветный – радость деда», который «весь избит о кости шведа Тяжелой русскою рукой». Гордится чашей предков: «Я пью из тебя, старину вспоминая; Быть может, ты помнишь злодея Мамая И тяжкое иго жестоких татар…»
Предстоит еще выяснить, откуда у Красова такой интерес к героике прошлого. Но, кажется, тут замешалась и причина личная, биографическая. Не был ли один из предков поэта тем «храбрым дедом», сражавшимся с врагом? Не хранились ли в доме Красовых в Кадникове реликвии – старинная чаша и заветный булат, овеянные дорогими сердцу семейными преданиями?
Когда поэт обращался к современности, в его стихах звучал другой тон – грустный, меланхолический. Красов жалуется на жизнь, на людей, на самого себя: «Я скучен для людей, мне скучно между ними…», «Какая-то разгневанная сила От юности меня страданью обрекла…». Он говорит об одиночестве, о «юдоли хладной суеты», о горечи взаимного непонимания. Единственная отрада – труд, «властительные думы», вдохновение, которое нисходит на поэта в его бедном уединенном пристанище. Именно уединенном: никто не властен нарушить святых часов размышлений и трудов мечтателя.
Конечно, все это отражало реальные переживания Красова, его горькое недовольство жизнью, разлад с окружающими людьми, мучительное чувство застенчивости. Но отражало сквозь призму модной элегической поэзии и поэтому иногда с оттенком подражательности. Но в то время как поэт воспевал одиночество, реальный Красов все больше сближался со Станкевичем и его друзьями. И не только в уединенной «обители» предавался поэт «святому размышленью», но и среди единомышленников, друзей, в пылу горячих споров или на музыкальных вечерах в доме Павлова или у Бееровых.
Станкевич полюбил Красова сразу. Его трогала доверчивость Василия, способность «верить всему чудесному», «пламенные благородные мечтания». Красов увлекался каждым новым человеком, всегда готов был поверить в его необыкновенные достоинства (и это в то время, когда в своих стихах он писал: «мне скучно между ними», то есть между людьми!). Фактов для этого не требовалось, достаточно было произведенного на Красова впечатления, его готовности верить.
Ранним летом 1833 года, накануне экзаменов, Красов часто ночует у Станкевича. Вместе они «учат Кистера», то есть немецкий язык (во времена Станкевича студенты часто обозначали предмет фамилией преподавателя), читают популярного поэта-романтика Козлова.
Ежедневные встречи становятся необходимостью для обоих. «Сейчас послал за Красовым, чтобы он ночевал у меня…» (15 сентября 1833 года). «Приехали с Красовым ночевать ко мне» (14 октября). «Он каждый день почти ночует у меня…» (15 декабря). «До 12-ти часов мы с Красовым не ложились: сначала читали Шиллера, потом говорили, я вспоминал ему первую любовь свою…» (24 апреля 1834 года). Так близко сошлись друзья, что они обсуждали уже не только книги и научные проблемы…
Даже в злую минуту хандры Станкевич не чуждается общества Красова. «Поверишь ли? – пишет он одному из корреспондентов 4 ноября 1835 года, – я не могу видеть ровно никого из самых близких друзей, кроме Красова, который живет со мною и делит мою жизнь; я могу быть еще с Клюшниковым и Белинским».
Когда Станкевич летом 1834 года ездил в Петербург, то он сделал такое же признание в письме к Красову: «Мое нижайшее Белинскому; читай ему и письмо мое: я перед вами наг».
Эта поэзия дружбы, философских споров, ежедневного общения, полной откровенности, радость взаимопонимания почти не отразились в творчестве Красова начала 30-х годов. Разве что в дружеском посвящении или в каком-нибудь намеке. Письма – документ более открытый. Над их строками веет живая атмосфера тех далеких волнующих дней, встают реальные образы и факты.
Летом 1835 года Станкевич и Красов ненадолго расстались – Николай поехал в родные места, Острогожск и Удеревку; Василий – в деревню своих знакомых Ладыженских. Станкевич насилу дождался письма друга. В июле 1835 года Николай сообщил Косте Бееру: «На этой почте я получил… очень большое письмо от Красова; оно исполнено пламенных, благородных мечтаний, как и все беседы его, уверений в любви ко мне и похвалы семейству Ладыженских. Фактов он не сообщает никаких, кроме того, что его невеста говорит ему: „вы обижаете“ вместо „обожаете меня“».
«Я так привык к его благородным фантазиям, – заключает Станкевич, – что теперь в деревне, давно не слыхавши их, сам приходил от них в восторг».
Письмо Красова не сохранилось. Но известно другое его письмо с «уверением любви» к другу. Это «уверение» окрашено в элегические тона, подернуто грустью воспоминаний, ибо написано письмо значительно позднее, в феврале 1840 года. «Я принужден почти тебе напомнить старое время, – писал Красов Станкевичу, – когда мы были молоды и телом и душою и когда тебе было открыто до дна мое бедное сердце…» «Открыто до дна мое бедное сердце» – это как бы ответ на признание Станкевича: «я перед вами наг»; это пароль взаимной дружбы и полной искренности. Далее Красов писал: «Помнишь, это бывало в доме Павлова, в то время когда мы танцевали с Пашетой, когда Беер углублялся в таинства эстетики… золотая весна нашей жизни…».
* * *
Иван Клюшников приехал в Москву из противоположного, южного края, с Украины. Он родился 2 декабря 1811 года в Сумском уезде Харьковской губернии, в хуторе Криничном. Отец Вани был помещиком, и первоначальное образование мальчик смог получить дома: его воспитывал гувернер. Потом Ваню отвезли в Москву, определили в гимназию. Семнадцати лет он поступил на словесное отделение Московского университета.
Клюшников был на два года старше Станкевича и на год младше Красова. Когда он стал студентом, Станкевич еще учился в воронежском пансионе, а Красов – в вологодском духовном училище. Лишь спустя два – два с половиной года судьба сведет их вместе: в 1830 или в начале 1831 года старшекурсник Клюшников подружится со студентом первого курса Станкевичем.
Но еще до этого события Клюшников свел другое знаменательное знакомство. Знакомство было недолгим, и мы бы ничего не узнали о нем, если бы друг Клюшникова не стал столь знаменитым человеком.
Впрочем, едва ли будущего великого писателя Ивана Тургенева – именно с ним встретился Клюшников – можно называть его другом. Отношения между ними были отношениями учителя и ученика, причем на положении ученика оказался Тургенев. В ноябре 1829 года он ушел из московского пансиона (будущего Лазаревского института восточных языков), чтобы в домашних условиях готовиться к поступлению в университет. В это время Иван Клюшников, будучи студентом Московского университета, преподавал Тургеневу всеобщую историю.
Впоследствии Тургенев тоже сблизится со Станкевичем – таким образом, оба участника кружка установили связь еще до того, как возник кружок.
Но, как мы сказали, к 30-м годам Клюшников знакомится со Станкевичем и начинает играть в кружке довольно заметную и своеобразную роль. Она определялась душевным расположением и способностями Клюшникова.
Почти в любой группе людей, в любом кружке находится человек со способностями остряка и балагура. Даже если и другие не страдают отсутствием чувства юмора, склонны к веселью и шутке – а в кружке Станкевича дело обстояло именно так, – все равно непременно сыщется один, который возьмет на себя роль главного, чуть ли не профессионального юмориста. Такая роль выпала на долю Клюшникова.
Мастер на каламбуры, на эпиграммы, Клюшников забавлял своих друзей. От него ждали острот. Клюшников умел разрядить шуткой и напряжение дружеских споров, и полусонную атмосферу какой-нибудь скучной университетской лекции. Неверов вспоминал, с каким трудом слушали студенты лекции по греческому языку профессора С. М. Ивашковского – того и гляди уснешь. Улучив момент, когда Неверов уже начинал клевать носом, Клюшников протягивал ему табакерку, приговаривая стихи:
В тяжелый час, когда душа сгрустнется,
Слеза блеснет в глазах, и сердце содрогнется,
И скорбная глава опустится на грудь, —
Понюхай табаку и горе позабудь.
Но не всегда шутки Клюшникова звучали безобидно и светло. В них ощущалась порою затаенная горечь, глухая досада; в такие минуты чувствовалось, что за веселым каламбуром Клюшников скрывает болезненное меланхоличное настроение.
П. В. Анненков впоследствии назовет Клюшникова Мефистофелем. «Он был Мефистофелем небольшого московского кружка (то есть кружка Станкевича. – Ю. М.) – весьма зло и едко посмеиваясь над идеальными стремлениями своих приятелей… Но жертвы его насмешливого расположения любили его и за его веселость, какую распространял он вокруг себя, и за то, что в его причудливых выходках видели не сухость сердца, а живость ума, замечательного во многих других отношениях, и иногда истинный юмор».
Мефистофель – это сказано очень метко. Шутка Мефистофеля несет в себе скрытую мысль, направлена против мечтательности, прекраснодушия. Ну что же, кому-то приходилось играть в кружке и эту роль – роль холодного скептика, враждебного «идеальным стремлениям своих приятелей». Ведь кружок взрослел, освобождаясь от многих заблуждений и иллюзий.
Анненков, однако, не прав, говоря, что товарищи всегда одобрительно относились к «выходкам» Клюшникова. Порою в его насмешливости открывалась и другая нота, и юмор его казался навязчивым. Но это заметили не сразу.
Из научных дисциплин сильнее всего привлекала Клюшникова история (всеобщую историю, как мы говорили, он преподавал Тургеневу). О своем увлечении Клюшников впоследствии вспоминал:
От юности я изучать привык
Судьбы и дух родимого народа
И братьев гармонический язык.
В истории Клюшникова занимали не столько общие закономерности, сцепление различных причин и следствий – то, что в его время называли философией истории, – сколько конкретные дела и поступки людей. «Я знаю историю по-своему», – сказал как-то Клюшников. Товарищи хорошо знали, что такое «по-своему»: живо, остроумно, но в то же время опираясь на глубокое изучение материала. И вместе с тем рассказывал так, как будто он сам все это видел и пережил.
Клюшников умел переселяться в минувшие времена. Исторические герои – знаменитые, полуизвестные и совсем забытые превращались в его знакомых. По отношению к ним Клюшников являлся не исследователем, но очевидцем («самовидцем»). Он хорошо и всесторонне их знал, умел по-свойски обращаться с ними и даже временами подтрунивал, как над своими товарищами по кружку.
Остряк всегда останется остряком, и Клюшников не мог не внести дух насмешки и иронии в свои исторические штудии. Рассказывают, что он написал в стихах «Обозрение всемирной истории», в котором «дал полную волю своему остроумию». Слушатели держались за животы, когда Клюшников читал свое «обозрение».
Писал Клюшников и серьезные стихи. В них мы вновь встречаем ходовые элегические образы: и «чудную деву», и смущающий поэта «волшебный взор», и «печаль души», и многое, многое другое, знакомое нам по творчеству других поэтов. Как и у Красова, тут были одновременно и искренность, и дань моде, и новизна, и традиция – вернее, искреннее и подлинное преломлялось через призму моды и традиции. Но, пожалуй, личное чувство звучало у Клюшникова сильнее, пронзительнее. И было это чувство в то же время общественным, историческим.
Есть сны ужасные: каким-то наважденьем
Все то, в чем мы виновны пред собой,
Что наяву нас мучит сожаленьем,
Обступит одр во тьме – с упреком и грозой.
Каких-то чудищ лица неживые
На нас язвительно и холодно глядят,
И душат нас сомненья вековые —
И смерть, и вечность нам грозят.
Эти «сны», эти томительные видения, это мучительное недовольство собой нужно было пережить в «своей больной душе» (как скажет поэт в другом стихотворении), чтобы точно выразить ощущения многих и многих людей тридцатых годов. Поэтому стихи Клюшникова нашли широкую популярность у читателей, особенно молодых.
Впрочем, произошло это позднее, после 1838 года, когда Клюшников под зашифрованной подписью, криптонимом θ, стал печатать свои стихи в журнале «Московский наблюдатель». Неизвестно, с какого точно времени начал писать Клюшников стихи (друзья в начале 30-х годов о Клюшникове-поэте ничего не говорят); неизвестно, предпринимал ли он раньше попытки печататься. Известно только, что подпись, криптоним, образовал он от прозвища, данного ему в кружке Станкевича.
Фита, θ, – это начальная буква греческого слова «феос», то есть «бог». Так полушутливо-полусерьезно прозвали Клюшникова за его восторженное, выспреннее, экзальтированное настроение.
Не правда ли, какое странное сочетание? Мефистофель и Феос, насмешник и мечтатель, балагур и ипохондрик… Словом, чудак, человек непутевый, как охотно решил бы сторонний, недоброжелательный наблюдатель. Подобно Красову, но только на свой лад Клюшников воплощал в себе смесь противоположных и как будто бы взаимоисключающих свойств.
Но Станкевич «чудаков» любил. С 1833 года он начинает упоминать Клюшникова среди своих самых близких друзей. А в 1835 году они вместе принимаются за систематическое изучение философии. «С Клюшниковым мы читаем один раз в неделю Шеллинга» (из письма к Неверову от 28 марта 1835 года). «Пришли мне, друг, два экземпляра „Критики чистого разума“ Канта, один мне, другой Клюшникову» (4 ноября). «Теперь мы с Клюшниковым принялись за Канта» (10 ноября).
Клюшников при этом не мог воздержаться от юмора; ему ведь вообще свойственно было подтрунивать и над тем, чем он занимался вполне серьезно, – например, над историей как наукой. Философское же умозрение, строгий систематический ход размышлений вообще были далеки складу его ума – конкретному и образному. Поэтому занятия обоих друзей проходили негладко.
«Иван Петрович сейчас будет ко мне, читать со мною Канта, – сообщает Станкевич 12 ноября 1835 года. – С адскою усмешкою смотрит он на мою попытку отыскать счастие в идее всеобщей жизни и говорит: „Жаль Николаши!”» Надобно знать его, чтоб понять всю прелесть этого сожаления. Не совсем потеряв веру в достоинство немецкой философии, он, однако же, иногда сомневается и говорит, что немец до тех пор хитрит и думает над своим предметом, пока сам забудет, о чем он думал. На эту идею навело его психологическое явление с ним самим: он положил в рот бумажку, жевал, жевал ее часа два, вынул и не помнит – что такое было у него во рту?»
Острóта Клюшникова довольно язвительная: дескать, немецкий философ, плетя сеть умозаключений, отдаляется от реальности, забывает о действительных вещах, подобно человеку, который, разжевывая жвачку, не помнит уже, что он, собственно, взял в рот.
Но Станкевич был не из тех, кого можно было смутить остротой. Посмеявшись вместе с Клюшниковым, он с новыми силами и упорством брался за исследование сложнейших вопросов философии. И увлекал за собою Клюшникова, как тот ни сопротивлялся и ни отшучивался.
Но интересный факт: дружа с Клюшниковым, деля с ним часы занятий и размышлений, Станкевич не посвящал его в самые тонкие свои интимные переживания. Станкевич держался с ним не так, как с Красовым, с которым он проводил ночи напролет в задушевных беседах.
Как-то Станкевич попросил Красова (в письме из Удеревки, в августе 1834 года): «Не читай писем моих всякому встречному или читай пропуская, что нужно. Белинскому, Ефремову я открыт, но Клюшникову, хотя он добр, честен и умен, я не хотел бы обнаружить все, что у меня на сердце; я готов сказать ему это в глаза, и он, верно, поймет меня и оправдает».
Просьбу Станкевича легко понять после того, что мы узнали о характере Клюшникова. Как это бывает с людьми ироничными, Клюшников проявлял иногда ту неосторожность или даже неделикатность, которая невольно оставляет царапины на сердце друга. Довериться ему полностью, до глубины души было небезопасно.
Интересно, что такого же мнения был Белинский, который со свойственной ему определенностью и резкостью объяснил причины своего сдержанного отношения к Клюшникову: «И как открыть ему свои задушевные обстоятельства, когда он, бывало, или опрофанирует их ледяно-ядовитою насмешкою, или создаст из них свою фантазию, которая на то, что ты открыл ему, столько же похожа, как хлопчатая бумага на вареную репу?»
Но и себя Клюшников не щадил. И по отношению к своим собственным «душевным обстоятельствам» был он ироничен и суров. В этом язвительном скептике и безудержном мечтателе жило постоянное недовольство собой, которое принимало иногда комичные и уродливые формы. Клюшников жил в вечных терзаниях, вникал в собственные чувства, анализировал свои поступки, и они сплошь и рядом казались ему низкими и пошлыми. Словом, он был «самоед». Один из друзей рассказывает о забавном факте: как-то за обедом Клюшников съел «полбанки варенья» (был он сластена, как ребенок), а потом горько сокрушался и казнил себя: «Унизил, дескать, обжорством благородство человеческой природы».
«Какой чудак!» – снова воскликнул бы человек посторонний и презрительно пожал бы плечами. Но товарищи, хотя и осуждали болезненные формы самобичевания Клюшникова, знали, что за этим скрывалось. Скрывалось неутомимое беспокойство живой, неомертвевшей души, стремление к осмысленному существованию, к высокой цели.
Так Клюшников жил – не то историк, не то поэт, скептик и энтузиаст, Феос, склонный к ипохондрии, и Мефистофель, чьи иронические стрелы направлены не только на других, но и на самого себя; жил в вечном раздоре с собой, готовый в любую минуту перечеркнуть день вчерашний, для того чтобы начать все с начала.
Поэт Я. П. Полонский, познакомившийся с Клюшниковым в более позднюю пору, нарисовал его стихотворный портрет в поэме «Свежее преданье» (Клюшников фигурирует здесь под именем московского поэта Камкова):
Все понимал: и жизнь и век.
Зло и добро – был добр и тонок,
Но – был невзрослый человек.
Как часто, сам сознавшись в этом,
Искал он дела и грустил;
Хотел ученым быть, поэтом.
Рвался – и выбился из сил.
Он беден был, но не нуждался.
Хотел любить – и не влюблялся.
Как будто жар его любви
Был в голове, а не в крови…
Он по летам своим был сверстник
Белинскому. Станкевич был
Его любимец и наперсник.
К нему он часто заходил
То сумрачный, то окрыленный
Надеждами, и говорил —
И говорил, как озаренный…
Как это хорошо сказано: «был невзрослый человек»! Не ребенок, не юноша, не отрок, а именно невзрослый. «Взрослость» взята в качестве исходного пункта, в качестве точки отсчета, причем отсчета в обратном порядке. Все изменилось – и время, и многие сверстники, а Клюшников не изменился, остался «невзрослым», хотя по годам и по пережитому опыту полагалось бы повзрослеть.
* * *
В начале 1831 года студенты словесного отделения были взбудоражены карой, обрушившейся на одного из их товарищей – Виссариона Белинского. Событию этому предшествовал ряд фактов.
Летом и осенью 1830 года студент первого курса Белинский написал «драматическую повесть в пяти картинах» «Дмитрий Калинин». Произведение незрелое, местами напыщенное, местами многословное, изобиловавшее ходульными сценами и неестественными положениями. Но было у «драматической повести» достоинство, которое не могло не поразить читателей, – чрезвычайно острое ощущение социальной несправедливости, страстное обличение российских порядков.
Герой пьесы, юноша Дмитрий Калинин, как оказалось позже, внебрачный сын помещика Лесинского, живет на положении его крепостного. От бессердечной жены, от сыновей Лесинского, от его прихлебателей Дмитрий испытал все унижения и муки, какие выпадают на долю людей социально бесправных.
Доведенный до отчаяния, он изливает свои чувства в страстном монологе: «Кто дал это гибельное право – одним людям порабощать своей властью волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище – свободу? Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может для потехи или для рассеяния содрать шкуру с своего раба; может продать его, как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно… Милосердный Боже! отец человеков! ответствуй мне: твоя ли премудрая рука произвела на свет этих змиев, этих крокодилов, этих тигров, питающихся костями и мясом своих ближних и пьющих, как воду, их кровь и слезы?..»
Со времен Радищева, автора опальной книги «Путешествие из Петербурга в Москву», никто не осмеливался произносить таких гневных обличительных речей. Казалось, небеса разверзлись над бесчеловечными угнетателями, гремя проклятиями и суровыми пророчествами.
И эту-то драму Белинский вознамерился провести через цензуру, издать отдельной книгой для пользы дорогих сограждан! Трудно было вообразить себе что-нибудь более несбыточное.
Пройдет несколько лет, и Белинский вырастет в опытного и закаленного борца; все, кто встретится с ним, будут отмечать его острое чувство реальности, понимание конкретной ситуации, такт и хитрость, поразительную «ловкость в плавании между ценсурными отмелями» (А. И. Герцен). Но все это пришло потом и было оплачено сокровенными мечтаниями, горячими трепетными надеждами молодости.
Вначале Белинский читал «Дмитрия Калинина» своим университетским товарищам. Обстоятельства этому благоприятствовали: по случаю распространившейся в 1830 году в Москве холеры занятия были отменены, казеннокоштных студентов (то есть студентов, находившихся на обеспечении казны) не выпускали из университета, где они жили, и товарищи Белинского по комнате – П. И. Прозоров, Н. А. Аргилландер и другие – «составили маленькое литературное общество». В течение нескольких вечеров с большим успехом читал Белинский свою пьесу.
Происходило все это в одной из комнат (в «одиннадцатом номере») университетского здания, что на Моховой, на четвертом этаже.
Ободренный похвалами друзей, Белинский в январе 1831 года передал рукопись в цензурный комитет. С трепетом ждал он ответа: и юношеские мечты о славе, и желание сказать читателям правду, открыть им глаза на вопиющие беззакония помещиков и властей – все зависело от решения цензоров. Мечтал он и о гонораре, о первом большом литературном заработке, который бы поправил его скудные финансовые дела, а может быть, помог бы уйти с ненавистного казенного кошта.
И вот юношу наконец вызвали в цензурный комитет… Что произошло дальше, мы узнаем из сопоставления двух документов: воспоминаний Аргилландера и письма Белинского к родителям.
Н. Аргилландер рассказывает: «Раз утром – в это время я был один с ним [с Белинским] в номере и мы занимались чтением какого-то периодического журнала – его потребовали в заседание комитета, помещавшегося в здании университета. Спустя не более получаса времени вернулся Белинский, бледный как полотно, и бросился на свою кровать лицом вниз; я стал его расспрашивать, что такое случилось, но ничего положительного не мог добиться; он произносил только одно, и то весьма невнятно: „Пропал, пропал, каторжная работа!”». В письме от 17 февраля к родителям Белинский сообщал: «Прихожу… в цензурный кабинет и узнаю, что мое сочинение цензоровал Л. А. Цветаев (заслуженный профессор, статский советник и кавалер). Прошу секретаря, чтобы он выдал мне мою тетрадь, и секретарь, вместо ответа, подбежал к ректору, сидевшему на другом конце стола, и вскричал: „Иван Алексеевич! Вот он! Вот г. Белинский!” Не буду много распространяться, скажу только, что, несмотря на то, что мой цензор в присутствии всех членов комитета расхвалил мое сочинение и мои таланты как нельзя лучше, – оно признано было безнравственным, бесчестящим университет, и об нем составили журнал!..»
С этой минуты над Белинским нависла гнетущая атмосфера преследования. Юноша чувствовал, что за его спиной готовят расправу, ждут удобного повода, чтобы нанести удар. Впрочем, этого и не скрывали. Когда однажды Белинский опоздал на занятия, его вызвали к самому ректору, профессору физики и естественной истории И. А. Двигубскому, к тому самому, который участвовал в заседании цензурного комитета. В кабинете находился еще профессор Д. М. Перевощиков, талантливый ученый, математик и астроном, но тоже человек старого закала, невзлюбивший дерзкого студента. «Когда ректор говорил со мною, – сообщал Белинский, – то он [Перевощиков] беспрестанно кричал, что меня надобно выгнать из университета. Наконец ректор в заключение спектакля сказал: „Заметьте этого молодца; при первом случае его надобно выгнать”».
В 1831–1832 годах Белинский много болел. Сказалось нервное потрясение, перенапряжение физических сил, скудное казеннокоштное питание («Пища в столовой так мерзка, так гнусна, что невозможно есть»). У юноши не было хорошего платья, чтобы выйти из дома; да и форменная одежда, в которой надлежало являться на занятия, поистрепалась.
Несколько месяцев провел Белинский в больнице и не смог весной 1832 года держать переводные экзамены на второй курс. Белинский попросил отложить экзамены на осень, но не тут-то было. Власти поняли, что это и есть тот счастливый «случай», которого ждал ректор Двигубский.
В сентябре 1832 года Белинский был отчислен из университета. Официальное объяснение, начертанное в письме помощника попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастова к ректору Двигубскому, гласило: «по слабому здоровью и притом по ограниченности способностей…».
Но эта трагедия, нанесшая Белинскому глубокую неизлечимую травму, повлекла за собой и счастливое событие – сближение со Станкевичем. В час, когда малодушные и корыстные люди отворачиваются от товарища или злорадствуют и подло хихикают («нечего было лезть…»), Станкевич протянул Белинскому руку дружбы. Есть сведения, что именно история с «Дмитрием Калининым» обратила на Белинского внимание Станкевича.
Я. М. Неверов, который лучше всех был осведомлен о мотивах действий Станкевича, вспоминал: «Белинский, будучи студентом, написал драму, сюжетом которой было злоупотребление владетельного права над крестьянами. Этот труд… он представил в цензуру и за это лишен был права посещать университет. Станкевич, услышавши об этой истории от общего нашего товарища Клюшникова, пожелал прочесть драму и ознакомиться с автором»[4].
Принято считать на основании этого свидетельства, что Белинский и Станкевич «познакомились в 1832 году, уже после исключения Белинского из университета». Но в действительности мы можем датировать эту встречу более ранним временем.
К выяснению этого вопроса – одного из самых важных в истории кружка – обратился еще дореволюционный исследователь А. Н. Пыпин в своей книге «Белинский, его жизнь и переписка» (первое издание вышло в 1876 году; второе, дополненное, в 1908 году). «До сих пор не было с точностью указано, – писал Пыпин, – когда Белинский в первый раз сблизился с Станкевичем и как определились их отношения. По университету они были почти современники: Станкевич поступил в университет в 1830 и окончил курс в 1834. По указанию, сообщенному нам А. В. Станкевичем (братом Николая Станкевича. – Ю. М.), Белинский сблизился с Станкевичем в 1832; но первое знакомство было, вероятно, сделано в 1831». В качестве аргумента Пыпин приводил следующий факт: «Знакомство Белинского с Кольцовым относится к 1831 году и могло произойти только через Станкевича».
Аргумент этот действительно очень веский. Станкевич был другом и покровителем воронежского поэта Алексея Кольцова; именно Станкевич ввел Кольцова в свой кружок, познакомил со своими друзьями. Но о том, что Белинский встретился с Кольцовым в его первый приезд в Москву, говорил впоследствии сам Белинский. Приезжал же Кольцов в Москву в мае 1831 года.
Есть еще один архивный документ, подтверждающий все сказанное. Александр Станкевич говорил о знакомстве своего брата с Белинским не только Пыпину, но и известному в свое время литератору Е. Ф. Коршу. Последний же сообщил об этом Пыпину, зная, что тот работает над книгой о Белинском. «Вчера вечером приезжал ко мне Станкевич, – пишет Корш 25 апреля 1874 года, – и говорил, что хотя он действительно застал Бел<инского> у своего брата только в 1832 г., но судя по тому, что Бел<инский> сблизился через него с Кольцовым еще в 1831 году, можно полагать, что знакомство Н. Станкевича с Белинским началось, пожалуй, на университетской скамье»[5].
Следовательно, указание Клюшникова мы можем уточнить в том смысле, что Белинский обратил на себя внимание Станкевича уже тогда, когда его драма возбудила бурю в цензурном комитете. Тогда-то и пожелал Станкевич познакомиться с рукописью драмы (следы этого знакомства сохранились в их переписке: в августе 1837 года Станкевич упоминает цензора Цветаева, «который погубил твою Сироту», то есть «Дмитрия Калинина»). А исключение Белинского из университета, последовавшее годом позже, только укрепило их отношения.
Помимо своего одногодки Клюшникова, Белинский, видимо, установил еще заочную связь с кружком Станкевича через Павла Петрова. Студент словесного отделения, поэт, страстный книгочей, владеющий несколькими европейскими языками, Петров сблизился с Белинским еще в 1829 году, когда тот только поступил на первый курс. «Мы часто бываем вместе, – писал Белинский своим родственникам в декабре 1830 года. – Судим о литературе, науках и других благородных предметах и всегда расстаемся с новыми идеями и новыми мыслями… Вот дружба, которою я могу по справедливости хвалиться!»
И вот теперь Белинский мог «похвалиться» дружбою со всем кружком.
Сближение со Станкевичем отразилось на настроении Белинского. Изгой, выброшенный, по выражению Герцена, «на мостовую большого города, без куска хлеба и без средств добыть его», да еще к тому же политически скомпрометированный, Белинский вдруг увидел перед собой свет надежды. И в его письмах, вопреки «обстоятельствам» и «несчастиям», зазвучали бодрые интонации. «О себе скажу тебе, – писал Белинский брату Константину 20 сентября, 1833 года, – что я живу довольно хорошо для своих обстоятельств. Связь с моим любезным Петровым и многими другими, можно сказать, отборными по уму, образованности, талантам и благородству чувств молодыми людьми, заставляет меня иногда забывать о моих несчастиях».
Дружеские связи крепли так стремительно, что вскоре Белинский стал самым близким Станкевичу человеком, таким же, как Красов, пожалуй, ближе Клюшникова. 11 мая 1834 года Станкевич писал Неверову в Петербург: «Общество, в котором я беседую еще о старых предметах, согревающих душу, ограничивается Красовым и Белинским: эти люди способны вспыхнуть, прослезиться от всякой прекрасной мысли, от всякого благородного подвига!»
Неуклюжий, угловатый в движениях, застенчивый, выглядевший старше своих лет, плохо одетый, Белинский в кружке друзей словно стал оттаивать.
Говорил он свободно, попыхивая трубкой, любил развивать одну тему, до мельчайших подробностей, до конечных выводов. Страстно спорил; если встречал возражения, горячился, стучал кулаком по столу. Друзья прозвали его Неистовым Виссарионом, перефразировав название известного произведения Ариосто «Неистовый Роланд».
В кружок Станкевича Белинский вошел с горестным житейским опытом, каким, вероятно, не смог бы похвастать никто другой. Были среди друзей люди неблагополучные, подобно Красову, не сразу, с трудом отыскавшие свой путь в университет. Были люди, хорошо знакомые с изнанкою жизни, с бытом и условиями существования простого народа. Белинский обладал и тем и другим – и трудной судьбой, и знанием жизни; но, кроме того, он испытал еще глубокое личное унижение, неустроенность своей домашней жизни. С детства чувствовал себя обделенным любовью и лаской, хотя были у него и дом, и отец, и мать.
Родился Виссарион 30 мая 1811 года в городе Свеаборге на Балтийском море, где отец его служил флотским офицером. Когда мальчику исполнилось пять лет, семья перебралась в городок Чембар Пензенской губернии, где Белинский-старший занимал должность уездного врача. Здесь Виссарион получил первоначальное образование: вначале он учился в чембарском уездном училище, потом – в пензенской гимназии.
Пензенская и Воронежская губернии – соседи; следовательно, не зная друг друга, Станкевич и Белинский провели свое детство почти что рядом, среди лугов, полей и перелесков среднерусской полосы. Во всем остальном, однако, сходства не было. Вместо гармоничной дружной семьи была семья, раздираемая мелочными ссорами и грошовыми, но изнуряющими обидами.
Отец Белинского был довольно образованным по своему времени, развитым человеком. Но страшная подозрительность и уязвленное самолюбие сделали из него маленького домашнего тирана. Мать Виссариона, судя по всему женщина недалекая, находила отдохновение в сплетнях и пересудах в обществе соседских кумушек. За ребенком она не следила. Не раз приходилось ему сносить побои – вначале от няньки, которая душила и била его, чтобы он не беспокоил ее своим криком; потом от деспотичного отца, который набрасывался на подростка с кулаками, оскорблял и унижал его. «Я в семействе был чужой», – говорил Белинский позднее.
Бывает, что испытанные в детстве унижения и несправедливость заставляют человеческое сердце зачерстветь, делают его невосприимчивым к страданиям ближних. С Белинским произошло противоположное: личные беды словно оголили его нервы; свое горе умножалось и усиливалось горем чужим.
А было этого «чужого горя» кругом предостаточно: судейские проделки власть имущих, жестокое обращение помещиков с крепостными, безнаказанные убийства и насилия.
Известный биограф Белинского В. С. Нечаева выяснила, что в Пензенской губернии, буквально рядом с Белинским, происходили случаи, напоминавшие по своей жестокости и бесчеловечию то, что было потом описано им в «Дмитрии Калинине». Вот откуда у Белинского ненависть к «людям, присвоившим себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных».
Труднее и драматичнее, чем у Станкевича и других участников кружка, складывалось учение Белинского. Мальчик с детства полюбил книги, много и жадно читал; рано обнаружились его выдающиеся способности, пробудился острый интерес к философским вопросам. Но систематизмом, последовательностью образования, которые бывают так важны в юные годы, когда закладывается фундамент знаний, судьба обделила Белинского. В пензенской гимназии, не отличавшейся, по-видимому, серьезной постановкой обучения, юноша пробыл всего три года с небольшим (исключен за «нехождение в класс», гласил официальный документ). И вот теперь – отчисление из университета после первого курса.
Но то, что не смогли дать Белинскому ни гимназия, ни университет, дал кружок Станкевича.
Позднее Белинский скажет в письме к Боткину: «Подумайте о том, чтó был каждый из нас до встречи с Станкевичем или с людьми, возрожденными его духом. Нам посчастливилось…».
Друзья Белинского по студенческому общежитию, по «номеру» – Прозоров, Аргилландер и другие – были людьми довольно заурядными; пожалуй, только Б. М. Чистяков, любимый студент профессора Надеждина, переводчик эстетического трактата немецкого философа Бахмана, оставил некоторый след в истории русской культуры.
А тут, у Станкевича, – люди действительно «отборные по уму, образованности». Лучшее, что могла предложить в то время молодая Россия.
Известный писатель И. И. Лажечников, характеризуя членов кружка Станкевича, говорил: «Каждый из них не был профессор, но все вместе по части философии, истории и литературы постояли бы против целой Сорбонны», то есть знаменитого университета во Франции, в Париже. «В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи».
Лажечникову, как говорится, карты в руки: в начале двадцатых годов он был директором народных училищ Пензенской губернии, познакомился с мальчиком еще в чембарском училище, а потом продолжал следить за его судьбой.
«Думаю, что для Белинского он был полезнее университета», – сказал Лажечников о Станкевиче.
Герцен в «Былом и думах» высказался еще решительнее: встреча со Станкевичем спасла Белинского.
В чем тайна авторитета Станкевича? Мы уже договорились не торопить события: ответ на этот вопрос должна дать вся книга. Но одну-две детали отметим сейчас.
Существует старое библейское изречение: «Знание преисполняет надменностью!» Кому не встречалось видеть человека, кичащегося своими познаниями, как иной кичится дорогой вещью? Случаи довольно частые во все времена.
Для Станкевича знание языков, наук (и исключительно глубокие знания!), выдающиеся интеллектуальные способности, исследовательская проницательность никогда не были предметом кичливости или средством самоутверждения. То есть поводом для противопоставления себя товарищам, для навязывания им своего авторитета.
Белинский говорил: «Станкевич никогда и ни на кого не накладывал авторитета, а всегда для всех был авторитетом, потому что все добровольно и невольно признавали превосходство его натуры над своею».
Константин Аксаков выразил ту же мысль: «Он имел сильное значение в своем кругу, но это значение было вполне свободно и законно, и отношение друзей к Станкевичу, невольно признававших его превосходство, было проникнуто свободною любовью, без всякого чувства зависимости».
Люди в кружке были разные, как и в любом человеческом объединении: самолюбивые и обидчивые, подчас капризные, вспыльчивые или несправедливые. Поддаваться страстям – в природе человеческой. Никто не считал идеалом и Станкевича, но его свободное, уважительное обращение с друзьями невольно сглаживало крайности, открывая в них лучшее.
Станкевич всегда находился в прямых отношениях с другом. Не чувствовалось никакой скрытой цели, никакой задней мысли. Устанавливалось «нравственное равенство с собеседником», по выражению П. Анненкова.
И наряду с этим – какая чуткость, какое внимание и забота о друзьях!
В письме, отправленном 18 мая 1833 года к Неверову в Петербург, Станкевич советует: «Если ты кашляешь, то посиди несколько дней, попей на ночь чаю, да не раскрывайся и не будь на сквозном ветре. На шее и на груди поноси что-нибудь шерстяное. Ненадобно пренебрегать. Храни себя для дружбы!»
Через несколько дней, 7 июня 1833 года: «Друг мой, пожалуйста, между делом, не трудись много! Я знаю, что ты готов для меня все оставить… но уважь мою просьбу, не оскорбляй меня – не утруждай себя из моих комиссий! Береги свое здоровье, ты слишком неосторожен…»
И это все говорил Станкевич в то время, когда уже отчетливо проявились признаки его тяжелой болезни.
В глубине души Станкевич отнюдь не был спокойным, уравновешенным человеком. Часто укорял он себя в неискренности, в эгоизме, в недостатке энергии, в тех или других ошибках. В его укорах незаметно нарочитого самобичевания, рисовки; это было естественное излияние души, переживающей собственные слабости и мечтающей их преодолеть.
«На жизнь мою смотрю теперь с двух сторон, спрашиваю себя о двух вещах: в чем уклонился я от долга? что сделал дурного? и – что сделал я хорошего в положительном смысле? Я не могу сказать, чтоб я действовал против долга, но, кажется, слишком давал волю эгоизму, и от этого был постоянно неспособен к высокости души, от этого был всегда недоволен собою. Неискренность – вот что еще мучило меня; das Schein <казаться (нем.)> у меня часто противоположно dem Sein <быть (нем.)> (особенно в обществе) – хотя не из дурных видов, а это дает дурное направление и рождает опять недовольство самим собою…
Потом: что же я сделал хорошего? Надобно или делать добро, или приготовлять себя к деланию добра, совершенствовать себя в нравственном отношении и потом, чтобы добрые намерения не остались без плода, совершенствовать себя в умственном отношении. Какое добро мог я сделать на моем месте?.. Совершенствовать душу? но моя упала! – ум? но я для своего ничего не сделал!»
Так писал Станкевич своему другу Неверову в минуту острого недовольства собою.
Клюшников как-то сказал о Станкевиче: «серебряный рубль, завидующий величине медного посеребренного пятака», – и это, без сомнения, была одна из лучших его острот.
4
Привожу цитату из биографической справки о Станкевиче в книге «Поэты кружка Н. В. Станкевича». М.; Л., 1964. С. 76.
5
Процитированное письмо Е. Ф. Корша хранится в Отделе рукописей и редких книг Российской национальной библиотеки в СПб.: фонд 621, ед. хр. 431, л. 2.