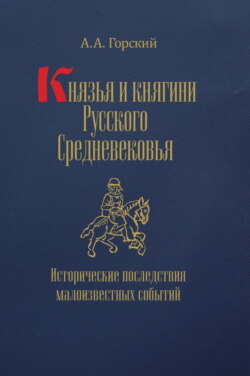Читать книгу Князья и княгини Русского Средневековья. Исторические последствия малоизвестных событий - Антон Анатольевич Горский, А. А. Горский, Вера Буданова - Страница 4
Часть I
Князья
Глава 2
Мстислав Ростиславич
ОглавлениеВ начале 1169 г. суздальский князь Андрей Юрьевич «Боголюбский» организовал поход на киевского князя Мстислава Изяславича. Во главе войска был поставлен сын Андрея Мстислав, а вошли в него князья Глеб Юрьевич Переяславский (младший брат Андрея), Роман Ростиславич Смоленский, его братья Рюрик и Давыд (княжившие в Овруче и Вышгороде – городах Киевской земли), новгород-северский князь Олег Святославич и его брат Игорь (будущий герой «Слова о полку Игореве»), Владимир Андреевич Дорогобужский, а также самый младший из братьев Андрея Всеволод (будущий «Великое Гнездо»). После непродолжительной осады Мстислав Изяславич ушел во Владимир-Волынский, и Киев был взят. При этом Андрей Боголюбский сам не стал садиться на княжение в Киеве, хотя имел на это право: Мстиславу Изяславичу он приходился двоюродным дядей; по смерти Ростислава Мстиславича (1167), сына Мстислава Владимировича, Андрей мог считать себя «старейшим» среди потомков Владимира Мономаха. Но на киевский стол был посажен брат Андрея Глеб Юрьевич[34]. Современники оценивали это событие как именно осуществление воли Андрея: «Богъ посадилъ тя и князь Андрѣи на отчьнѣ своей и на дѣдинѣ вь Киевѣ», – говорили в 1170 г. половецкие послы Глебу[35].
После смерти Глеба Юрьевича (20 января 1171 г.) Давыд и Мстислав Ростиславичи пригласили на киевский стол своего дядю Владимира Мстиславича, младшего и последнего из оставшихся к тому времени в живых сыновей Мстислава Владимировича (от второго его брака). Но Андрею Боголюбскому «не любо бяше сѣдѣнье Володимере Киевѣ, и насылаша на нь, веля ему ити ис Киева, а Романовѣ Ростиславичю веляше ити Киеву»[36] (не нравилось, что Владимир сидит в Киеве, и посылал к нему повеление уйти из Киева, а Роману Ростиславичу велел идти в Киев). До конфликта дело не дошло, потому что Владимир Мстиславич умер 30 мая того же 1171 г. Тогда «приела Аньдрѣи к Ростиславичем, река тако: “Нарекли мя есте собѣ отцемь, а хочю вы добра; а даю Романови брату вашему Киевъ”. Послаша по Романа Смоленьску, и приде Романъ Киеву… и сѣде на столѣ отца своего и дѣда»[37](прислал Андрей к Ростиславичам, говоря так: «Вы назвали меня себе отцом, и я хочу вам добра; даю Киев брату вашему Роману». Послали за Романом в Смоленск, и пришел Роман в Киев… и сел на столе отца своего и деда). Таким образом, Андрей присвоил себе право распоряжаться киевским столом.
Эти события, особенно поход 1169 г., много раз описывались в исторической литературе и породили устойчивое убеждение, что за ними последовал упадок Киева, а значение главного центра Руси приобрел Владимир-на-Клязьме – столица Суздальской земли[38]. Последующие события, из которых ясно, что подобных последствий у взятия Киева 1169 г. не было, не столь популярны в историографии[39].
В 1173 г. благоволение Андрея к Ростиславичам сменилось гневом. Тогда «нача Аньдрѣи вины покладывати на Ростиславичи, и приела кь нимь Михна, река тако: “Выдайте ми Григоря Хотовича и Степаньца и Олексу Святословця, яко тѣ суть оуморили брата моего Глѣба, а то суть ворозѣ всимъ намъ”. Сего же Ростиславьчи не послушаша, и пустиша Григоря от себе. И рече Андрѣи Романови: “Не ходити в моей воли съ братьею своею, а поиди с Киева, а Давыдъ исъ Вышегорода, а Мьстиславъ из Бѣлагорода, а то вы Смоленескь, а темь ся подѣлите”» (начал Андрей возводить вину на Ростиславичей, и прислал к ним Михна, говоря так: «Выдайте мне Григория Хотовича и Степанца и Олексу Святословца, так как они уморили брата моего Глеба, и это враги всем нам». Ростиславичи этого не послушали. И сказал Андрей Роману: «Не подчиняешься моей воле с братьями своими, так уходи из Киева, а Давыд из Вышгорода, а Мстислав из Белгорода, вот вам Смоленск, поделите там владения»). Княжить в Киев Андрей послал своего брата Михалка, а тот отправил вместо себя самого младшего из Юрьевичей – Всеволода. Тогда «Ростиславичи же, и Рюрикъ и Давыдъ и Мьстиславъ послаша кь Андрѣеви, рекуче тако: “Брате, вь правду тя нарекли отцемь собѣ, и крестъ есмы цѣловали к тобѣ и стоимъ вь крестьномъ цѣлованьи, хотяче добра тобѣ, а се нынѣ брата нашего Романа вывелъ еси исъ Киева, а намъ путь кажеши и изъ Руськой земли без нашеѣ вины, да за всими Богъ и сила крестьная”» (Ростиславичи же, Рюрик, Давыд и Мстислав, послали к Андрею, говоря так: «Брат, мы действительно назвали тебя отцом себе, и крест к тебе целовали, и стоим на крестном целовании, желая тебе добра, а ты ныне брата нашего Романа вывел из Киева, а нам указываешь путь из Русской земли[40] без нашей вины, да будет со всеми Бог и сила крестная)». Андрей не дал им ответа, и тогда Ростиславичи въехали в Киев. Киевским князем стал Рюрик Ростиславич[41].
После этого Андрей Боголюбский послал к Ростиславичам мечника Михна с ультиматумом: «Не ходите в моей воли; ты же, Рюриче, поиди вь Смолньскь кь брату во свою отчину; а Давыдови рци – а ты поиди вь Берладь, а в Руськой земли не велю ти быти; а Мьстиславу молви: “В тобѣ стоить все, а не велю ти в Рускои землѣ быти”»[42](«Вы не подчиняетесь моей воле; ты, Рюрик, иди в Смоленск к брату, в свою отчину; а Давыду скажи – иди в Берладь, не велю тебе быть в Русской земле[43]; а Мстиславу скажи: “Все это из-за тебя, не велю тебе в Русской земле быть”»). Из этого послания следует, что именно Мстислав, младший из Ростиславичей, был наиболее активным сторонником того, чтобы выйти из подчинения Андрею. Далее события развивались следующим образом:
Мьстиславъ бо от уности навыклъ бяше не оуполошитися никого же, но токъмо Бога единого блюстися. И повелѣ Андрѣева посла емъше, постричи голову передъ собою и бороду. Рекъ ему: «Иди же ко князю и рци ему: “Мы тя до сихъ мѣстъ акы отца имѣли по любви, аже еси съ сякыми рѣчьми прислалъ, не акы кь князю, но акы кь подручнику и просту человеку, а что оумыслилъ еси, а тое дѣи, а Богъ за всѣмъ”» (Мстислав с юности привык не бояться никого, кроме Бога единого. И повелел, схватив Андреева посла, постричь ему перед собою голову и бороду. И сказал ему: «Иди к князю и скажи: мы тебя доныне как отца считали, по любви, но если с такими речами прислал, не как к князю, но как к подручнику и простому человеку, то что замыслил – то делай, а Бог всем правит»).
После этого Андрей послал на Ростиславичей крупное войско, в которое вошли войска Суздальской, Новгородской, Рязанской, Муромской, Полоцкой, Туровской и Черниговской земель (и даже Роман Ростиславич вынужден был отправить на своих братьев из Смоленска полк во главе с сыном). Командующим войском – сыну Андрея Юрию и воеводе Борису Жидиславичу – Андрей повелел: «Рюрика и Давыда… изьгнати изъ отчины своей, а Мьстислава емыне, не створите ему ничто же, приведете и ко мнѣ» (Рюрика и Давыда изгнать из своей отчины, а Мстиславу, схватив, не делайте ничего, приведите его ко мне). Рюрик затворился в Белгороде, Давыд ушел в Галицкую землю искать там поддержки, а Мстислав засел в Вышгороде, городе Давыда, со своим и Давыдовым полком. К Вышгороду подступила часть сил коалиции во главе с братом Андрея Всеволодом и Игорем Святославичем из черниговских Ольговичей[44]. Дальнейшие события киевская летопись описывает так:
Видивъ же Мьстиславъ Ростиславичь пришедшюю рать, изрядивъ полисы своѣ и выеха на болоньи противу имъ. Обои бо еще жадахуть боя, и свадишася стрѣлци ихъ, и почаша ся стрѣляти межи собою, гонячеся. Видивъ же Мьстиславъ стрѣльци своѣ смятыпеся с ратными, и абье оустрѣмися на нѣ, и рече дружинѣ своей: «Братье, оузрѣвше на Божию милость и на святую мученику Бориса и Глѣба помочь», и абье поѣха кь нимь; бяхуть бо ратьнии на 3 полкы стояще: новгородци, ростовци, посредѣ же ихъ Всеволодъ Дюрдевичь своим полкомъ стоя. И абье Мьстиславъ сшибеся с полкы ихъ, и потопташа середнии полкъ, и инии ратнии видѣвше обьяша ѣ. Бѣ бо Мьстиславъ в малѣ вьѣхалъ в нѣ, и тако смятошася обои, и бысть мятежь великъ и стонава, и клич рамня, и гласѣ незнаемии, и ту бѣ видити ломъ копииныи, и звукъ оружьиныи, от множьства праха не знати ни кониика, ни пѣшьць. И тако бишася крѣпко и разидоша, много же бѣ раненых[45], мертвых же бѣ не много. И се бысть одинъ бои первого дни на болоньи Мьстиславу со Всеволодомъ, со Игоремь и со инѣми моложыпими людми. И по сѣмь придоша всѣ силы, и тако оступиша всь градъ, и приступаху по вся дни, и вырищюще изъ града, да бьяхуться крѣпко, и много бысть Мьстиславлѣ дружинѣ раненыхъ и смертьныхъ добрыхъ. И остояша около города 9 недѣль[46](Мстислав, увидев пришедшую рать, построил свои полки и выехал на поле против них. Обе стороны хотели боя, и схватились их стрелки, начали перестреливаться, гоняясь друг за другом. Мстислав, увидев, что его стрелки сошлись с противником, тотчас устремился на них, и сказал своей дружине: «Братья, уповаем на Божью милость и помощь святых мучеников Бориса и Глеба», и тотчас поехал к ним; противники же выстроились в три полка: новгородцы, ростовцы, а посередине стоял со своим полком Всеволод Юрьевич. И тогда Мстислав сшибся с их полками, и потоптал центральный полк, а другие воины, видев это, окружили его. Мстислав врезался в них с небольшим числом [воинов], и так сразились обе силы, и было великое смятение и стенание, и клич сильный, и голоса неведомые, и тут было видно, как ломаются копья, и [слышен] звук оружия, и от многой пыли не отличить было ни конного, ни пеших. И так бились крепко и разошлись, много было раненых, а убитых немного. И это был один бой на поле у Мстислава со Всеволодом, Игорем и другими молодыми людьми. А потом пришли все силы, и окружили весь город, и приступали к нему каждый день, и выходили [воины Мстислава] из города, и бились крепко, и много было в дружине Мстислава раненых и убитых добрыхъ [мужей]. И стояли около города 9 недель).
Затем подошедший к Киеву из Луцка Ярослав Изяславич перешел на сторону Ростиславичей в обмен на обещание ему киевского стола, и Андреево войско отступило из Южной Руси[47].
И то видивъ Мьстиславъ, и похвали всемилостиваго Бога и святою Бориса и Глѣба помочь невидимо гонящеѣ, и выѣде изь города с дружиною своею, и гнавшие дружина его и оударишася на товарѣ ихъ, и много колодникъ изьимаша. Мьстиславъ же много пота оутеръ с дружиною своею, и не мало мужьства показа с мужьми своими, се же оуже сбысться слово апостола Павла, рекша, еже передѣ написахомъ: «Возносяися смириться, а смиряйся вьзнесеться». И тако вьзвратишася вся сила Андрѣя, князя Суждальского, совокупилъ бо бяшеть всѣ землѣ, и множеству вой не бяше числа; пришли бо бяху высокомысляще, а смирении отидоша в домы свои[48]. (И Мстислав, увидев это, похвалил всемилостивого Бога и помощь святых Бориса и Глеба, которые невидимо гнали [противника], и выехал из города с дружиною своею, и погналась дружина его [за противником], и ударили по их обозам, и взяли много пленных. Мстислав же много пота утер с дружиною своею, и много мужества показал с мужами своими, и так сбылось слово апостола Павла, сказавшего, как раньше мы написали: «Вознесшийся смирится, а смирившийся вознесется». И так возвратилась вся сила Андрея, князя Суздальского, собрал войска со всех земель, и воинов было бесчисленное множество; пришли высоко мысля, а ушли к себе домой смиренные).
Таким образом, попытки распоряжения киевским столом со стороны Андрея потерпели крах. И главным действующим лицом в этой коллизии был младший из Ростиславичей – Мстислав. В следующем году Андрей Боголюбский будет убит в результате заговора своих приближенных, и в Суздальской земле начнется трехлетняя междоусобица – между братьями Андрея Михалкой и Всеволодом и племянниками Мстиславом и Ярополком Ростиславичами. Вышедший из нее победителем к 1177 г. Всеволод Юрьевич будет считаться «старейшим в Володимере племени» (среди потомков Владимира Мономаха), но не станет, подобно Андрею, пытаться присваивать себе право распорядителя киевского стола[49].
Что же известно о герое событий 1173 г. – Мстиславе Ростиславиче?
Он был младшим сыном смоленского и киевского (с 1159 г.) князя Ростислава Мстиславича, внуком киевского князя Мстислава Владимировича, правнуком Владимира Всеволодича Мономаха. Родился Мстислав, по косвенным данным, в конце 1140-х или начале 1150-х годов[50]. Кем была его мать, неизвестно; возможно, она происходила из галицкой княжеской ветви (шедшей от старшего сына Ярослава Владимировича – Владимира, умершего в 1052 г.)[51]. Крестильное имя Мстислава также достоверно не известно: позднейшая агиографическая традиция именует его Георгием; В. Л. Янин отнес к Мстиславу Ростиславичу печати с изображением св. Феодора, но эта интерпретация спорна[52].
Впервые Мстислав упоминается под 1162 г., когда его отец, княживший в Киеве, направил сына в Белгород[53]. По смерти Ростислава (1167) он несколько лет действует совместно с братьями в Южной Руси. В 1169 г. участвует вместе с братьями Рюриком и Давыдом в походе на Киев против Мстислава Изяславича, организованном Андреем Боголюбским[54]. В 1170 г. с теми же Рюриком и Давыдом по повелению нового киевского князя Глеба Юрьевича Мстислав идет на князя Василия Ярополчича (племянника изгнанного из Киева Мстислава Изяславича) к Михайлову (южнее Киева), вынуждая того уйти в Чернигов[55]. В 1170 г. с братом Романом участвует в организованном Андреем Боголюбским походе на Новгород против сына Мстислава Изяславича Романа, окончившемся неудачей[56]. В 1171 г., после смерти Глеба Юрьевича, вместе с братом Давыдом приглашает на княжение в Киев из Дорогобужа своего дядю Владимира Мстиславича[57]. Таким образом, Мстислав долгое время вместе с братьями «ходил в воле» Андрея. Но в 1173 г. его терпение лопнуло и произошли описанные выше события.
В дальнейшем судьба отвела Мстиславу немного времени. В 1175 г. смольняне изгнали княжившего у них его племянника Ярополка Романовича (его отец Роман Ростиславич в это время вновь занимал киевский стол), и «вьведоша» на княжение Мстислава[58]. В следующем 1176 г. произошел конфликт Ростиславичей с черниговским князем Святославом Всеволодичем, потребовавшим себе киевский стол. Святослав занял Киев, но тут пришел на помощь братьям из Смоленска Мстислав с полком, и Ростиславичи хотели дать бой. В результате Святослав бежал из Киева обратно в Чернигов, но после переговоров Ростиславичи уступили ему Киев. Роман отправился в Смоленск на место Мстислава, а Мстислав остался в Киевской земле, по-видимому, вновь получив там княжение в Белгороде. В 1177 г. он просил Святослава Всеволодича способствовать тому, чтобы суздальский князь Всеволод Юрьевич отпустил из плена рязанского князя Глеба Ростиславича, тестя Мстислава[59].
В 1179 г. Мстислава пригласили к себе на княжение новгородцы. Согласно киевской летописи, Мстислав не хотел уходить из «Русской земли» (в смысле Южной Руси), но братья уговорили его. В ноябре 1179 г. Мстислав Ростиславич занял новгородский стол. Той же зимой он совершил большой победоносный поход на «Чудь» (Эстонию). На обратном пути Мстислав урегулировал вопрос о псковском княжении, куда часть местной верхушки не желала принять его племянника Мстислава-Бориса Романовича. Весной Мстислав Ростиславич собирался пойти на Полоцк против князя Всеслава Васильковича, но, дойдя до Великих Лук, отказался от этого замысла, узнав, что его брат смоленский князь Роман заключил с Всеславом (приходившимся Ростилавичам зятем – мужем сестры) союз. Вернувшись в Новгород, Мстислав разболелся и скончался 13 (или 14[60]) июня 1180 г. Был похоронен в новгородском Софийском соборе. В киевской летописи Мстиславу посвящен обширный панегирический некролог. В нем говорится, в частности, что князь «всегда бо тосняшеться оумрети за Роускоую землю и за хрестьяны», что «не бѣ бо тоѣ землѣ в Роуси, которая же его не хотяшеть, ни любяшеть», и «плакашеся по немь вся земля Роуская, не може забыти доблести его»[61] (всегда стремился умереть за Русскую землю и за христиан; не было такой земли в Руси, которая его не хотела бы [иметь князем] и не любила; плакала по нему вся земля Русская, не могла забыть доблести его).
В позднейшей традиции Мстислав Ростиславич известен под прозвищем «Храбрый»; впервые оно фиксируется в статье «А се князи великого Новгорода» Комиссионного списка Новгородской первой летописи младшего извода (середина XV в.): «Мьстиславъ Храбрый Ростиславичь»[62].Такая характеристика вполне соответствует изображению Мстислава в киевской летописи XII в. Но существовало ли прозвище «Храбрый» ранее середины XV в. или изобретено автором статьи «А се князи великого Новгорода», остается неясным[63].
Женат Мстислав был на дочери рязанского князя Глеба Ростиславича (предположение, что это был второй брак, а первой женой Мстислава являлась галицкая княжна, подтверждений не имеет)[64]. Его сыновьями были Мстислав и Владимир. Большинство исследователей считало старшим прославленного полководца Мстислава Мстиславича (ум. в 1228 г.), но вероятнее старшинство Владимира: только о нем Мстислав перед кончиной просит позаботиться своего воеводу Бориса Захарьича; это может свидетельствовать, что сын Мстислав либо был очень мал, либо появился на свет уже по смерти отца (в пользу второго варианта говорит отсутствие до XIII столетия практики называть сына именем живого отца)[65]. Иногда еще одним сыном Мстислава Ростиславича считают Торопецкого князя Давыда, упоминаемого в новгородском летописании под 1212 и 1225–1226 гг., но это мнение, скорее всего, ошибочно[66].
Мстислав Ростиславич, таким образом, внес едва ли не решающий вклад в разрушение проекта Андрея Боголюбского, согласно которому киевские князья должны были, по сути, стать вассалами князей суздальских. Это отсрочило на целое столетие смену общерусской столицы – с Киева на Владимир-на-Клязьме[67]. О том, кто такую смену все же осуществил, – в четвертой главе.
34
ПСРЛ. М., 2001. Т. 2. Стб. 543–546; ПСРЛ. М., 1997. Т. 1. Стб. 354–355.
35
Там же. Т. 2. Стб. 555; Т. 1. Стб. 357.
36
Там же. Т. 2. Стб. 566.
37
Там же. Стб. 567–568.
38
См., например: Карамзин Н.М. История государства Российского: В 12 т. М., 1991. Т. 2–3. С. 191–192; Соловьев СМ. Соч.: В 18 кн. М., 1988. Кн. 1. С. 499–500, 512–519; Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 321–322. Обзор историографии вопроса о последствиях похода 1169 г. см: Подвальное Е.Д. Падение Киева 1169 г. в историографии: между исторической реальностью и сконструированной «истиной» // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2022. № 4 (20).
39
Наиболее подробное их изложение с выводом, что замыслы Андрея по распоряжению из Владимира киевским столом потерпели неудачу, см.: Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971. С. 145–148.
40
«Русская земля» в данном случае подразумевается в узком значении – Южная Русь.
41
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 569–571. Всеволод Юрьевич при этом был захвачен, но вскоре отпущен.
42
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 572–573.
43
Берладью называлась территория между низовьями Днестра и Дуная, вне пределов Руси. Соответственно, «Русская земля» имеется в виду уже в широком смысле, включающем все русские территории. В кратком рассказе о событиях 1173 г., помещенном в Лаврентьевской летописи, наиболее активным противником Андрея среди Ростиславичей называется именно Давыд (хотя главная роль в военном столкновении отводится так же, как и в Ипатьевской летописи, Мстиславу; см.: ПСРЛ. Т. 1. Стб. 365).
44
ПСРЛ. Т. 1. Стб. 573–575.
45
См.: Там же. Стб. 576, примеч. 73.
46
Там же. Стб. 575–576.
47
ПСРЛ. Т. І.Стб. 576–577.
48
Там же. Стб. 577–578.
49
См.: Горский А. А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. СПб., 2016. С. 86–88.
50
Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей: Первые поколения (до начала XIV в.). М., 2015. С. 461^163.
51
Домбровский Д. Указ. соч. С. 133–134.
52
Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси X–XV вв.: В 2 т. М., 1970. Т. 1. С. 112–114, 116–117,121, 203, 231; Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 463–464.
53
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 519. Обобщение информации о владениях Мстислава в разные годы см.: Конявская Е.Л. Смоленские Ростиславичи и их владения по раннему летописанию // Российская история. 2018. № 5. С. 4–7.
54
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 543.
55
Там же. Стб. 550.
56
Там же. Стб. 559–560.
57
Там же. Стб. 566.
58
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 598.
59
Там же. Стб. 603–606.
60
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950. С. 36.
61
ПСРЛ. Т. 2. Стб. 606–611.
62
Новгородская первая летопись… С. 162.
63
Т. Л. Вилкул, обнаружив в характеристике Мстислава в Ипатьевской летописи цитату из «Александрии» – средневекового романа об Александре Македонском, предположила, что ее могли опознать и дать князю прозвище, исходя из того, что храбрость – черта Александра Македонского (Вилкул Т. Л. Мстислав Храбрый – к происхождению эпитета // Древняя Русь: вопросы медиевистики. 2005. № 3 (21). С. 14). Но поскольку в Новгородской первой летописи Ипатьевская не отразилась, когда такое могло произойти – неясно. Характеристика Мстислава как доблестного князя вполне могла дожить в Новгороде до XV в. и вызвать к жизни определение «храбрый».
64
Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 465–468.
65
См.: Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени князей в X–XVI вв.: Династическая история сквозь призму антропонимики. М., 2006. С. 300–301,304.
66
Домбровский Д. Генеалогия Мстиславичей. С. 653–658.
67
Андрей Боголюбский сделал стольным городом Суздальской земли Владимир; но земля по-прежнему называлась Суздальской (по старой – времен Юрия Долгорукого – столице), ее князья – князьями (а начиная со Всеволода Юрьевича – великими князьями) суздальскими (см.: Горский А. А. Политическое развитие Средневековой Руси. М., 2023. С. 80–81, 92–96).