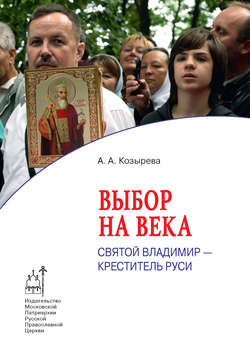Читать книгу Выбор на века. Святой Владимир – креститель Руси - А. А. Козырева - Страница 4
Русь изначальная, языческая
ОглавлениеСлова, вынесенные эпиграфом к рассказу о святом равноапостольном великом князе Владимире, принадлежат иноку Киево-Печерского монастыря Иакову Мниху (монаху), автору древнерусских произведений «Память и похвала князю Владимиру» и «Житие блаженного князя Владимира». Им же было написано и «Сказание о святых страстотерпцах Борисе и Глебе» – первых русских святых, сыновьях князя-крестителя Руси.
Эти национально-патриотические житийные произведения созданы задолго до того, как великий киевский князь Владимир, изначально почитаемый на Руси как святой, был канонизирован официально.
Тщательно выводит киево-печерский монах букву за буквой, сообщая, что и «наречен был в святом Крещении Василий, и дар Божий осенил его, благодать Святого Духа осветила сердце его и научила по заповеди Божией ходить и жить в Боге, и веру твердую удержал неизменной». И, словно выдержав паузу и вздохнув-выдохнув глубоко, восклицает: «О, какая радость и веселие настали на земле! И ангелы возвеселились и архангелы, и духи святых взыграли. Сам Господь сказал, какая радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся (Лк. 15, 7). Такое бесчисленное [множество] душ по всей земле Русской приведены к Богу святым Крещением! Похвалы всякой достойно то дело [которое он] совершил, и радости духовной исполнено».
И как же было не радоваться и не ликовать восторженной душе, ведь в конце X века Само Солнце Правды на веки вечные воссияло над Русской землей!
Исторический период с VIII по X век был временем формирования Древнерусского государства. И если та же Византия объединяла под своей властью самые разные народы, то в районах Среднего и Верхнего Днепра, где и зарождалась Русь, население обладало национальным сродством. Племена восточных славян были близки друг другу по языку и быту, схожи по родовому строю и мировоззрению, что способствовало самому широкому и практически ненасильственному их объединению.
Еще в «Повести временных лет» Нестор Летописец писал: «…откуда пошла русская земля… кто в ней стал первым княжить, и откуда возникла русская земля». Термин «земля» употребляется здесь не в привычном нам географическом смысле, а в значении «народ» и «государство», слово же «княжить» указывает на форму государственного управления.
Киевское государство состояло из нескольких земель, центром каждой из них являлся большой торговый город. По существу, все древнерусские земли были городами-государствами. Не случайно в скандинавских источниках Русь называется Гардарикой (царство городов, страна городов). Подобное устройство в корне отличалось от устроения большинства государств средневековой Европы.
Безусловно, Киев выделялся среди прочих городов. В «Повести временных лет» говорится о родоначальнике полян – Кие, который «велику честь приял от царя» (византийского императора), и утверждается, что Киев назван в честь Кия, как Рим – в честь кесаря Рима (Ромула), как Александрия – в честь Александра Великого (Македонского).
К середине X века Киевская Русь являла собой вполне сформировавшееся государство. Русь Днепровскую, или Изначальную, заслуженно называли городовой и торговой, она имела тесные связи с народами Центральной и Северной Европы. Вот яркие свидетельства того: Карл Великий, король франков и лангобардов, выделил специальных чиновников для ведения дел со славянскими купцами. В Германии у восточнославянских купцов имелись постоянные подворья. Уже в IX веке русских купцов можно было встретить и в более отдаленных землях, например в Багдаде.
Из ранних описаний Руси ценное значение имеет трактат византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей», составленный им в 948–952 годах. В одной из глав император сообщает данные о Руси (Росии), которые во многом основаны на достоверных рассказах самих росов (русов, россов). Глава начинается с географического описания: «…приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются из Немогарда [Новгорода Великого], в котором сидел Сфендослав [Святослав], сын Ингора [Игоря], архонта Росии, а другие из крепости Милиниски [Смоленска], из Телиуцы [Любеча], Чернигоги [Чернигова] и из Вусеграда [Вышгорода]. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава [Киева]».
Мы, однако, вначале вспомним время до «Сфендослава, сына Ингора» – вспомним самого киевского князя Игоря, мужа будущей равноапостольной княгини Ольги и родного деда князя Владимира. Вспомним, чтобы хоть как-то представить себе Русь до христианскую, языческую и понять, что язычество – это не невинная игра в «божков и боженят» с большей частью вымышленными «древнерусскими обрядами», а мировоззрение, подкрепленное бесовской силой.
Годы правления князя Игоря (912–945) были временем активного объединения русских земель. Усмирив непокорных древлян и племя уличей, живших в низовьях Днепра и часто нападавших на купеческие лодки с верховий, киевский князь полностью взял под контроль путь «из варяг в греки».
Не менее важной для князя Игоря была забота о восточных пределах Руси: постоянно приходилось обороняться от варваров-печенегов, налетавших, как внезапный смерч, из глубин Дикого Поля (так называли степи между Доном и Днепром). Немало сил уходило и на то, чтобы не только сохранить доставшееся ему владение, но и расширить его пределы и укрепить границы. Молодое государство, только недавно собранное воедино, то и дело пыталось «расползтись по швам» и требовало постоянного пристального княжеского внимания.
Одним из главных направлений в деятельности древнерусского правителя был ежегодный сбор дани.
Осенью 945 года киевский князь как обычно отправился в полюдье за сбором дани, чиня, если в том возникала необходимость, скорый суд и расправы. Князь Игорь прошелся по землям древлян, собрал дань, но, отправив дружину в Киев, с небольшим отрядом вернулся в древлянские земли – за добором.
Сделал это князь Игорь не потому, что был жаден и ненасытен, беда была в другом: он вынужден был добирать дань для хазар. На протяжении длительного периода Русь постоянно выплачивала дань Хазарскому каганату – ближайшему своему соседу, от которого находилась в зависимости. На это уходила и значительная часть от доходов с торговли. С этой же целью продавались и рабы.
По линии рек Дона, Северского Донца и Оскола, как показывают археологические раскопки, существовало более десяти мощных хазарских крепостей с многолюдными поселениями вокруг. Жители этих поселений состояли на военной службе у каганата, причем, как отмечала выдающийся археолог и историк С. А. Плетнева, «военизация населения касалась… не только мужчин, но и женщин». Она подчеркивала, что основным видом их деятельности «была не охрана пограничья, а проведение в жизнь наступательной политики каганата на западных и северо-западных соседей».
Итак, князь Игорь снова появился в дремучих лесных краях древлян, но им была уже не важна мотивация действий киевского князя – «дожимает» ли он их в личных интересах или вынужден это делать, чтобы расплатиться с хазарами. Древляне решились на отчаянный и жестокий протест.
Приведем цитату из Несторовой летописи: «В год 6453 (945) <…> Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим Малом и сказа ли: „Если повадится волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит“».
Так и вышла большая беда – малочисленную дружину князя Игоря перебили, а ему самому выпала ужасная смерть: его привязали к вершинам двух согнутых деревьев; распрямившись, они разодрали Игоря по – полам.
Не менее дикой будет и скорая расправа, которую учинит над непокорными древлянами вдова – великая княгиня Ольга.
Княжич Святослав, сын Ольги и Игоря, был в ту пору еще мал. И сразу же после насильственной и страшной смерти мужа великая княгиня как мать-регентша и опекунша взяла бразды правления в свои руки. Около двадцати лет Ольга княжила на Киевской Руси, и все годы ее мудрого правления были мирными. В летописях отсутствуют сообщения о том, что Русь предпринимала в тот период какие-либо враждебно-завоевательные походы. Это время стало временем собирания сил, которые вскоре потребовались молодому государству.
Однако само восхождение к власти началось для великой княгини Ольги с кровавого акта отмщения за гибель мужа.
Жестоко расправившись с Игорем, древляне поспешили похоронить его без почестей под городом Искоростенем, а к вдове обратились с предложением брака с их князем Малом.
«Повесть временных лет» свидетельствует: «И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, и пристали в ладье под Боричевым подъемом. <…> И сказала им Ольга: „Так говорите же, зачем пришли сюда?“ Ответили древляне: „По слала нас Деревская земля с такими словами: „Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую землю, пойди замуж за нашего князя Мала“…»
Но княгиня замуж за «миролюбивого» Мала не пошла и отправила древлянских сватов прямо в ладье в глубокую яму, ставшую для них общей могилой. А следом отправила Ольга к древлянам послов сказать: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские люди».
Расправилась Ольга и со вторым посольством: знатные древляне были сожжены в бане.
Ольга следовала языческому погребальному ритуалу, в каждом ее действии был определенный смысл: князь Игорь погиб не дома – умер в пути, поэтому первые послы были убиты и похоронены в ладье, они «уплыли» вслед за князем и должны были отныне служить ему верой и правдой.
Сожжение заживо второго посольства – также соблюдение языческого ритуала: умершего сжигали вместе с так называемыми смердами, или надежными людьми, которых убивали при погребении влиятельного князя.
И в третий раз оказала Ольга посмертные почести своему мужу: во время погребального пира на кургане, воздвигнутом над могилой Игоря, приказала убить лучших древлянских мужей.
В те времена правило «око за око, зуб за зуб» почиталось единственно оправданным.
Потом была осада киевской дружиной города Искоростеня, во время которой Ольга обратилась к осажденным древлянам с просьбой выдать ей в качестве дани «от каждого двора по три голубя да по три воробья», что те с радостью и сделали. Этих птиц она раздала своим ратникам, приказав привязать к лапе каждой птахи по труту. «И, когда стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись голубятни свои, а от них клети и сеновалы. <…> загорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам своим хватать их. А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а прочих людей убила, а иных отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить дань».
Впоследствии великая княгиня Ольга, даже оставаясь язычницей, не проявляла больше подобной жестокости, а потом приняла святое Крещение в Константинополе, но об этом – чуть позже, а сейчас пришло время вспомнить о Сфендославе, сыне Ингора, упоминаемом в трактате византийского императора Константина Багрянородного «Об управлении империей».
Сфендослав, сын Ингора, которого все мы знаем как князя Святослава Игоревича, занимает одно из достойных мест в ряду киевских князей, объединивших восточнославянские племена в великое государство. И если его предшественники, Олег и Игорь, а тем более Рюрик, – фигуры полулегендарные, то в отношении Святослава как конкретной исторической личности вопросов возникает значительно меньше.
Первым из «обрусевших» князей из династии варяжских конунгов[2] он получил славянское имя-титул – Святослав. Перед нами предстает исполинская фигура князя-воина, преисполненного достоинства и мужества, державной мудрости, отваги, внутреннего аскетизма и презрения к личной выгоде. Четырехлетним ребенком он вместе с матерью – великой княгиней Ольгой – принял участие в битве с древлянами и своей детской ручонкой отправил копье в неприятеля, причем метнул копье первым, как и положено вождю!
Участие княжича в походе-отмщении – не прихоть овдовевшей Ольги или сурового воеводы-воспитателя Свенельда. Известно, что великий князь на Руси – не только правитель, но и главнокомандующий армией, всегда начинающий сражение на поле брани. Святослав – пусть еще и ребенок, но, как когда-то его отец, князь Игорь, – правитель государства; его бросок копья – вызов, знак, приказ. Все подчинено сакральной мистике боя, тем более в момент отмщения.
В «Повести временных лет» читаем: «И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня по ногам, ибо был Святослав еще совсем мал. И сказали Свенельд и Асмуд: „Князь уже начал; последуем, дружина, за князем“. И победили древлян».
Святослав рос мужественным юношей, его правила жизни сформировались под влиянием воинов, в большинстве своем – язычников. Детство и отрочество молодого князя прошли вдали от Ольги, в Северной Руси. В летописи, относящейся к 947 году, сообщается: «…отправилась Ольга к Новгороду», где и оставила она сына с воеводами Свенельдом и Асмудом.
Даже император Константин указывает, что молодой князь Святослав находился не в Киеве, а в «Немограде», то есть «Невогороде» – в Старой Ладоге, расположенной на берегу «великого озера Нево» (ныне – Ладожское), где в конце IX века была сооружена первая на Руси каменная крепость.
Причина удаления сына вполне объективная: Ольга старалась уберечь его от хазар, прямое влияние которых на Русь оставалось ощутимым. На Севере молодой князь рос, мужал, а главное – готовил свое войско. Пройдут годы, и удар, нанесенный Святославом Хазарскому каганату, будет столь сокрушительным, что Хазария как государство перестанет существовать.
Вся жизнь Святослава – непрерывный боевой поход. Его мало занимали жизненные удобства. «Не возил с собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в головах», – говорится в летописи. В ней же князь сравнивается с леопардом (пардусом) за ловкость и стремительность.
Главным для Святослава, как и для Вещего Олега (регента-опекуна единственного сына Рюрика Игоря), было стремление к объединению русских земель. В 964 году молодой князь совершил свой первый поход – на север, на Оку, в земли вятичей, освободив их от власти хазар и подчинив Киеву.
Воспользовавшись победой, князь с помощью вятичей там же, на Оке, срубил для дружины ладьи и весной 965 года спустился по Волге к Итилю – главному городу иудейской Хазарии.
Годом позже Святослав подчинил волжско-камских болгар и мордовские племена, повторно разгромив остатки хазарского войска. Выйдя к Северному Кавказу, князь осадил и взял крепость Семендер, победив племена аланов, яссов и касогов – союзников каганата, тревоживших набегами юго-восточные рубежи Руси. Выйдя к Азовскому морю, он основал в районе Кубани крепость Тмутаракань, ставшую впоследствии столицей русского Тмутараканского княжества.
Походы 964–965 годов подняли авторитет Руси в глазах Византии, стремившейся привлечь Святослава к решению своих проблем. Вскоре между странами был заключен союзнический договор, и в 968 году (по другим источникам – в 969-м) князь со своими дружинниками высадился в устье Дуная, чтобы понудить Болгарию к покорности Византии. Святослав разбил войска болгарского царя Петра. Царь погиб, и Болгария подпала под власть Византии.
Придунайские земли, однако, Святослав не покинул. В планах киевского князя было обосноваться здесь и перенести столицу из Киева в Переяславец, в устье Дуная. Это не выглядело бы завоеванием, так как эти земли в то время были заселены в основном росами и славянскими племенами уличей и тиверцев, которых в начале X века присоединил к Русскому государству Вещий Олег.
Нет ничего странного и в том, что Святослав стремился создать новую столицу Руси в непосредственной близости к Византии и ближе к Западу. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – паволоки, золото, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии – серебро и кони, из Руси же – меха, и воск, и мед, и рабы», – передает Несторова летопись слова князя.
Однако планам этим не суждено было осуществиться.
На следующий год князю пришлось мчаться в Киев, атакованный печенегами, которых подтолкнули к походу «верхи Хазарии, осведомленные об отсутствии князя». В «Повести временных лет» сказано: «Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев… И собрал воинов, и прогнал печенегов в степь, и наступил мир».
11 июля 969 года умерла великая княгиня Ольга. «…И плакали о ней плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на выбранном месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела при себе священника, – тот и похоронил блаженную Ольгу», – читаем в Несторовой летописи.
К тому, что мать крестилась, Святослав отнесся спокойно, но сам принять христианство отказался, объяснив это тем, что дружина его не поймет. Великий князь в то время являлся и верховным жрецом. Нередко жреческие обязанности князю приходилось выполнять в походе, когда совершалось жертвоприношение, с тем чтобы умилостивить божество перед битвой, призвать его в помощники.
После похорон матери Святослав оставил Киев и вернулся на Дунай, где к тому времени ситуация в корне изменилась.
Против византийского императора Ники-фора II Фоки созрел заговор, в результате которого тот был вероломно убит. Святослав, узнав о смерти законного правителя Византии, понял, что участие киевлян в борьбе против Иоанна Цимисхия – убийцы Ники-фора – дело чести и долга.
Цимисхий желал приобрести в лице киевского князя выгодного союзника, пытался вести с ним переговоры, то задабривая Святослава, то угрожая ему. В конце концов, не добившись своего, лжеимператор потребовал, чтобы русский князь покинул придунайские земли как принадлежавшие империи. На это Святослав, как пишет византийский хронист Лев Диакон, ответил более чем сурово: пусть византийцы тотчас «убираются в Азию, а иначе пусть и не надеются на заключение мира с тавроскифами».
Весной 970 года Святослав мощным, стремительным броском пересек Балканские горы и выдвинулся к столице Византии. Действуя в союзе с болгарами, печенегами и венграми, он разбивал византийские войска и захватывал города. Пройдя около пятисот километров, он осадил Аркадиополь, расположенный в ста с небольшим километрах от Константинополя (Царьграда). Иоанн Цимисхий собрал все возможные силы для отпора, но победить не смог.
Цимисхий решился на переговоры и по – слал князю дорогое оружие. Послы, поднеся императорские дары, дословно передали Святославу и его просьбу: «Не ходи к городу, но возьми дань сколько хочешь».
Святослав принял дары и с малочисленной дружиной вернулся в Переяславец, где, оценив свои силы, решил, что лучше согласиться на заключение мира.
Цимисхий, однако, слишком опасался Святослава, чтобы смириться с его пребыванием на Дунае. Весной 971 года на придунайские земли выдвинулись византийские войска. «Впереди… двигалась фаланга воинов, сплошь закрытых панцирями и называвшихся бессмертными, а сзади – около пятнадцати тысяч отборнейших гоплитов [пеших воинов] и тридцать тысяч всадников. Заботу об остальном войске император поручил проедру[3] Василию; оно медленно двигалось позади вместе с обозом, везя осадные и другие машины», – писал Лев Диакон.
Вся эта мощь должна была обрушиться на Святослава неожиданно и внезапно, вероломно, ибо он искренне верил договоренностям о том, что его оставляют в покое, признав за Киевом владения на Дунае.
Византийцы сумели подойти скрытно и застать росов врасплох. Они выдвинулись на равнину Северной Болгарии и, легко захватив город Преславу, двинулись к дунайской крепости Доростол, в которой в то время находился сам Святослав.
23 апреля 971 года на близких подступах к крепости произошел первый бой: «Росы, стяжавшие среди соседних народов славу постоянных победителей в боях, дрались, напрягая все силы» (Лев Диакон). Казалось, победа византийцев была близка, но, несмотря на количественное превосходство нападавших, которые использовали «военные машины», метавшие камни на большие расстояния, стремительной и скорой победы не получилось. Под Доростолом росы сражались ожесточенно и мужественно почти три месяца!
Греческий летописец-хроникер, подробно описывая те события, ссылается на сообщения многочисленных лазутчиков, знавших язык росов. Лев Диакон не скрывает своей неприязни к язычникам, как врагам; тем более ценны его высокие оценки как самого Святослава, так и его дружины: «…этот народ безрассуден, храбр, воинствен и могуч…»
21 июля 971 года «на рассвете, – продолжает Лев Диакон, – Святослав созвал совет знати» и, выслушав предложения, сказал: «Не пристало нам возвращаться на родину, спасаясь бегством; мы должны либо победить и остаться в живых, либо умереть со славой».
Переданы заветные слова и в «Повести временных лет»: «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим – должны сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвым неведом позор. Если же побежим – позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о себе сами позаботьтесь».
И снова обратимся к историческим хроникам Льва Диакона: «…выслушав речь своего повелителя, росы с радостью согласились вступить в опасную борьбу… они… построились в мощную фалангу и выставили вперед копья. <…> С неистовой яростью бросался Святослав на ромеев и воодушевлял к бою ряды своих…»
Тогда лучший из лучших византийских воинов, телохранитель Цимисхия Анемас, «устремился на [предводителя росов] и, ударив его мечом по ключице, поверг вниз головой наземь, но не убил. [Святослава] спасла кольчужная рубаха и щит». Соратники князя растерзали Анемаса и с воодушевлением «начали теснить ромеев… Но вдруг разразился ураган… поднялась пыль, которая забила им глаза… Ромеи преследовали их до самой стены, и они бесславно погибали. Сам Святослав, израненный стрелами, потерявший много крови, едва не попал в плен; его спасло лишь наступление ночи…»
Лев Диакон, описывая этот бой, поднявшийся ураган приписывает Божественному вмешательству. Святослав был не рядовым язычником, а верховным жрецом. Да и дружина князя не была скопищем случайных людей, «солдат удачи». Это были бойцы, преданные своему вожаку и жрецу, – военная элита, личная охрана князя-конунга. Гридни, тельники, как называли их на Руси, были воинами отборной дружины.
Несокрушимой силой, отвагой и мужеством отличались ратники последнего языческого князя Киевской Руси Святослава, который, повторим, не просто был верховным жрецом, но отличался смелостью в бою.
Исторические хроники сохранили описания некоторых подвигов князя Святослава и его соратников. Так, прикрывая отход измученного длительной осадой Доростола войска, Святослав всего с двадцатью дружинниками сумел защитить обоз с ранеными и больными. Окруженные со всех сторон византийскими войсками императора Цимисхия ратники во главе с князем рубились как герои, сбросив кольчуги и отшвырнув щиты, и вышли из смертельной схватки победителями.
Вот еще одна цитата из исторических хроник Льва Диакона, относившегося к язычникам неприязненно, но вынужденного признать, что «войска сражались с непревзойденной храбростью. Росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя, как одержимые… Бой шел с переменным успехом, и до самого вечера нельзя было определить, на чью сторону склоняется победа…»
На рассвете 22 июля после бессонной и напряженной ночи Святослав отправил к Цимисхию послов с предложением: они «возвратятся на родину, а ромеи… не нападут на них по дороге… а кроме того, снабдят их продовольствием… Император… с радостью принял эти условия».
Ясно, что у императора не было уверенности в победе, раз он сразу же согласился на условия Святослава.
Вскоре состоялась встреча Цимисхия и Святослава. Любопытно описание этой встречи, составленное Львом Диаконом: «Император прибыл на берег Дуная верхом на коне, в золотых доспехах, в сопровождении огромной свиты всадников в блестящем облачении. Святослав пересек реку в чем-то наподобие скифской лодки; у него в руках было весло, так же как и у его людей… Он выглядел так: …среднего роста – не слишком высок, не слишком низок. У него были густые брови, голубые глаза и курносый нос; он брил бороду, но носил длинные и густые усы. Его голова была выбрита, за исключением локона волос на одной стороне как знака благородного происхождения. У него была толстая шея, широкие плечи, и в целом он выглядел красиво сложенным. Он казался мрачным и диким. На одном его ухе висело золотое ушное кольцо, украшенное двумя жемчужинами, между которыми был посажен рубин. Его белые одежды не отличались от одежд его людей и были лишь чище».
Итак, встреча состоялась. И более величественным в своем достоинстве и явном превосходстве выглядел вовсе не Цимисхий, сияющий блеском золота и начищенного металла, а Святослав, уверенный в своей правоте! Да, он – язычник, варвар, но для него жить по законам совести и правды – основное жизненное правило. И он – законный правитель Киевской Руси! А Цимисхий? Вероломный узурпатор, дни которого сочтены…
Византийские войска согласились дать росам спокойно уйти, а Святослав за это обещал отступиться от Болгарии и земель в устье Дуная. Пропущенные греческой эскадрой ладьи росов спустились по Дунаю в Черное море и, добравшись до острова Березань в Днестровском лимане, остановились на непродолжительный отдых.
Отдохнув, росы, как сообщают летописи, снялись с острова Березань и двинулись к Киеву. Почему-то, однако, для возвращения они избрали не узкий и тихий Южный Буг, а Днепр, где у злополучных днепровских порогов их ожидали печенеги. Узнав об этом, князь не стал рисковать и с малой дружиной решил зимовать в Белобережье.
В голоде и холоде провели они свою последнюю зиму. Ранней весной 972 года они двинулись вперед. Тут-то и напали на них печенеги! В короткой битве ослабленная и истощенная дружина Святослава была полностью истреблена, а печенежский хан Куря обзавелся ритуальной чашей, сделанной из черепа князя: по древнему поверью степняков, пьющий из такой чаши наследует воинские мудрость и доблесть погибшего на поле брани великого воина-полководца.
Так закончил свой жизненный путь последний язычник из русских верховных правителей.
Отважный и мужественный князь, собиратель земель русских, погиб на поле битвы как бесстрашный воин. А чаша из его черепа стала своеобразной последней жертвой языческому прошлому Руси, которой в скором времени предстоит выйти на столбовую дорогу многовековой истории, освященной Православием.
В последние годы правления Святослава, выросшего на языческом Севере, заметно усилились гонения на христиан. Речь идет именно о последних годах его княжения, так как ранее он, согласно летописи, «если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался над тем».
Вначале росы-христиане, заинтересованные в упрочении русско-византийских отношений, приняли участие в походе Святослава. Возникший позднее конфликт между Святославом и Византией, пусть и в лице императора-узурпатора, не мог быть ими одобрен: Византия в их глазах была высшим воплощением христианства. И подобные настроения Святослав не мог упустить из виду. Он пришел к выводу, что некоторые из росов-христиан, находившихся в его войске, являются союзниками византийцев, а возможно, и тайной агентурой империи. Святослав решил жестоко расправиться с ними.
Заслуженную кару, как считал князь, должны были понести не только воины-христиане. В ярости Святослав поклялся по возвращении в Киев «изгубить» всех христиан – единоверцев ненавистного Цимисхия. Он задумал уничтожить и главные «рассадники христианства» на Руси – храмы… И даже успел послать гонца в Киев с приказом сжечь все христианские церкви, что и было отчасти выполнено. Некоторые из них, в том числе ранняя церковь святителя Николая, были разрушены. Археологические раскопки в Киеве показали, что языческое святилище, возведенное позднее князем Владимиром, было поставлено именно на месте христианского храма, остатки которого – камни и часть штукатурки с фресковой живописью – были обнаружены под фундаментом святилища.
Искать защиты христианам было не у кого – святая княгиня Ольга к тому времени почила. Казалось, едва нарождающемуся христианству на Руси вот-вот придет конец. И лишь неожиданная смерть Святослава в стычке с печенегами на пути в Киев избавила киевских христиан от ужасов расправы.
2
Древнескандинавский термин для обозначения верховного правителя.
3
Почетный титул в Византийской империи; начальник или председатель.