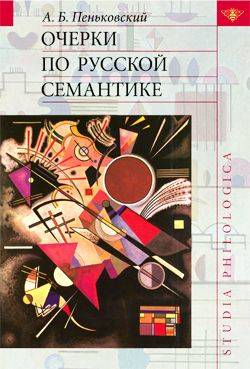Читать книгу Очерки по русской семантике - А. Б. Пеньковский - Страница 3
Часть I. Лексическая и грамматическая семантика
О семантической категории «чуждости» в русском языке
Оглавление…отвергайте название, но признайте существование!
П. А. Вяземский
… На обязанности исследователя-языковеда лежит не только вскрыть данное значение на каком-нибудь одном факте, но и найти все факты языка, обнаруживающие его, как бы они ни были разнообразны…
А. М. Пешковский
Известно, что одним из фундаментальных семиотических принципов с глубокой древности является членение универсума на два мира – «свой» и «чужой», противопоставление которых имеет множественную интерпретацию и реализуется в оппозициях типа «мы – они», «этот – тот», «здесь – там», «близкое – далекое» и мн. др. под. Типичной является также интерпретация основного (базового) противопоставления в аксиологическом, ценностном плане – в виде оппозиции «хороший – плохой», – с резко отрицательной оценкой всего того, что принадлежит «чужому» миру [Лотман 1969, 465 и ел.].
Учитывая, что указанный выше принцип получает широкое и многостороннее отражение в мифологии, в ритуалах и обрядах, в народном искусстве, фольклоре и литературе у разных народов [Eliade 1970], в том числе и у славян [Иванов, Топоров 1965, 156–165 и ел. ] и, в частности, у русских – например, в художественном мире русского былевого эпоса и волшебной сказки [Пеньковский 1986, 127 и ел. ], можно было бы выдвинуть – в виде осторожного предположения – гипотезу об отражении рассматриваемого семиотического принципа также и в языке – в его системе, категориях и механизмах, – и, исходя из этого, предпринять поиски его языковых коррелятов. Таким образом, на обсуждение предлагается гипотеза о существовании семантической категории «чуждости» («отчуждения»? «алиенации»?), которая, в силу сказанного, должна сопрягаться с категорией отрицательной оценки («чужое – плохое») и иметь специальные средства языкового выражения (хотя бы в виде отдельных, не связанных друг с другом звеньев).
Как представляется, это предположение может быть обосновано и подтверждено разнообразными и достаточно доказательными фактическими данными.
* * *
В этой связи должна быть прежде всего отмечена общая для всех славянских языков специфика семантической структуры производных, образующих лексические гнезда с корнем чуж-/ чужд-, которые, как бы повторяя первоначальный этимологический сдвиг (из гот. piuda ‘народ’ → ‘чужой’ в соответствии с [Фасмер 1973: 379], представляют комплекс взаимосвязанных значений: ‘чужой’ → ‘чуждый’ → ‘враждебный’ → ‘плохой’. Ср., например: др. – рус. чужий (щужий) ‘чужой’, ‘чуждый’, ‘злодей’, ‘нечестивец’, ‘отвратительный’; чужати ‘отвергать’, чужатися ‘свирепствовать’ и др. под. [Срезневский 1903: III, 1550 ел. ], старорус. чуждаться ‘гнушаться, брезговать’. Ср. в стилизующем отражении: «– Я проводил господина за город. Тут он простился со мною и не почуж-дался обнять меня…» (И. Лажечников. Басурман).
На этой основе могут быть правильно поняты такие выстраивающиеся в единый ряд, устойчивые (фразеологизованные) словесно-понятийные комплексы, как чужие земли (чужая земля) и чужие страны (чужая страна) др. – русских памятников («Да не будеть же вамъ николи же словеси… о чюжихъ земляхъ» – Сборник 1296 г.; «Избежавъше же ему въ страны чюжи, и тамо животъ свои сконца» – Чтение о житии и погубленни… Бориса и Глеба. [Срезневский 1903: III, 1550] и русских народных сказок («…начали отправлятца в чужи земли… Ну, поплыли оне, приплыли в чужи земли…» – Верхнеленские сказки. Иркутск, 1938. С. 64), чужаядалъная (чужедальная) сторонушка русских народных плачей и народных песен и – что особенно показательно и важно – чужие край (чужие края) ‘заграница’ в русском литературном языке вплоть до конца третьей четверти XIX в. Ср.: «В небольшом моем вояже я был как будто дальний путешественник… Да, правду тебе сказать, я и действительно был в чужих краях. Ибо не успел отъехать 27 верст от Питера, как въехал внутрь Чухны, которая меня, а я ее не понимал…» (Е. Болховитинов – В. Македонцу, 20 марта 1801); «Для чужих краев лучше звание юнкера» (К. Батюшков – А. И. Тургеневу, 1818); «Жерве уволен с позволением ехать в чужие край» (А. И. Тургенев – И. И. Дмитриеву, 6 мая 1819); «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит мою душу…» (А. С. Пушкин – П. А. Вяземскому, 21 апреля 1820); «Прочие книги я еще не посылал, не уверен будучи, точно ли вы еще долго останетесь в чужих краях» (П. А. Плетнев – В. А. Жуковскому, 17 февр. 1833); «Через год Чаадаев поехал в чужие край…» (Д. Свербеев. Воспоминания, 1858); «В течении 22 лет пребывания в чужих краях он только четыре раза побывал в России» (И. С. Аксаков. Ф. И. Тютчев, III. – М., 1874) и т. п.
В этом материале (а он может быть неограниченно умножен) обращает на себя внимание последовательно проведенное использование форм множественного числа чужие край, в чужие край (в большинстве случаев с архаической флексией – и!), в чужих краях, из чужих краев (не чужой край!) даже там, где речь заведомо идет об одной конкретной стране (cр. в «Мемориале» И. С. Тургенева 1852–1853 гг., в записи под 1845 г.: «Отъезд в чужие край. Куртавнель» или еще: «Нам очень не нравился его отъезд в чужие край, в Италию» – С. Т. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем) в столь же последовательном противопоставлении формам единственного числа сочетания свой (наш) край (не свои край!).
Понятно, что в эпоху, когда в русском обществе достаточно прочно утвердилась новая – исторически связанная с Петровскими реформами – система культурных ценностей (ср.: «Краев чужих неопытный любитель И своего всегдашний обвинитель, Я говорил: в отечестве моем Где верный ум, где гений мы найдем?» – А. C. Пушкин. «Краев чужих неопытный любитель…», 1817),[1] обсуждаемая традиционная пара, в которой лексико-семантическая оппозиция «чужое – свое»,[2] усиленная оппозицией по числу (край – край), навязывала говорящим традиционную аксиологию, и, став анахронизмом,[3] должна была уступить место иным средствам номинации, первоначально свободным от экспрессивно-оценочных компонентов значения. Таковы, например, для первого члена пары заграница, за границу, из-за границы, за границей,[4] вытеснившие сочетание чужие край, которое в современном литературном языке вообще не употребляется.[5]
* * *
Указанное выше противопоставление по числу (чужие край – свой край) заслуживает особого внимания, так как представляет собой явление, хотя и известное в литературе, но недостаточно изученное и требующее более глубокой интерпретации. Исходя из того, что первый член этой пары свободно использовался в значении реальной единичности, сопряженном изначально с отрицательной оценкой, соответствующие случаи можно было бы рассматривать в ряду таких словоупотреблений во множественном числе, как: Я университетов не кончал; Я верчусь как проклятая, а ты по театрам ходишь; Муж работает, а она по заграницам разъезжает; Мне, говорит, отдых нужен. Мы работали всю жизнь, не отдыхали, а теперь вот отдыхи какие-то придумали, и др. под.
Приводя подобные факты, исследователи отмечают их принадлежность разговорной речи [Розенталь 1976: 218; Красильникова 1983: 111], их связь с категорией неопределенности [Ревзин 1969], их экспрессивность, которая понимается как «экспрессивное обозначение единичности» [Лекант 1982: 181], как выражение неодобрения и шутки [Исаченко 1954: 123], фамильярности и иронии (ср. характеристику форм мн. ч. существительного заграница в [Уш.: I, 918] и т. п. и квалифицируют их как множественное «гиперболическое» [Арбатский 1972]. Под эту категорию подводятся также формы множественного числа собственных имен (обычно – географических названий) в шутливых или неодобрительных выражениях типа скитаться по всяким Парижам, разъезжать по Европам [Исаченко 1954].
Однако едва ли справедливо видеть в гиперболизации (представлении единичного как множества) основное содержание грамматической семантики форм множественного числа в такого рода контекстах и выдвигать ее терминологически на передний план. Функционально-семантическим центром таких форм, как это будет показано в дальнейшем изложении, следует считать генерализующее обобщение, генерализацию, которая становится основой для пейоративного отчуждения. Сущность последнего состоит в том, что говорящий, отрицательно оценивая тот или иной объект, доводит эту отрицательную оценку до предела тем, что исключает объект из своего культурного и / или ценностного мира и, следовательно, отчуждает его, характеризуя его как элемент другой, чуждой ему и враждебной ему (объективно или субъективно – в силу собственной враждебности) культуры, другого – чуждого – мира.
Объяснение внутреннего механизма этой операции и особенностей ее языкового отражения и выражения следует искать прежде всего в специфике структуры образов «своего» и «чужого» мира, в которых они – эти два мира – представляются мифологическому и мифологизующему сознанию от древности до наших дней.
* * *
«Свой» мир (в максимально сжатой и по необходимости схематической характеристике) – это мир уникальных, индивидуальных, определенных в своей конкретности и известных в своей определенности для субъекта сознания и речи дискретных объектов, называемых собственными именами. «Свой» мир – это мир собственных имен. В нем и нарицательные имена ведут себя как собственные. «Свой» мир – то мир форм единственного числа со значением единичности. Формы множественного числа – там, где они необходимы, – используются в значении неоднородного множества.
«Чужой» мир (в противопоставлении «своему») – это мир этнически и / или хтонически (субстанционально), социально или культурно (и прежде всего – религиозно и идеологически) чуждый и враждебный. Это инишнее царство, ненаша земля, неверия неверная, поганая русского былевого эпоса, земля незнаемая «Слова о полку Игореве», чужие край и поганая нехристь русских славянофилов. Ср. еще «-…Был наш один изборьский в полону в неверных землях, и явилась тому полоненику матушка богородица…» (П. И. Якушкин. Путевые письма, 2 авг. 1859). Ср. также в письме Н. М. Языкова к Гоголю [1841] поздравление с возвращением из «нехристи немецкой». К этому же рейгановский образ империи зла как представление социалистического мира.
«Чужой» мир – мир неподвижный, статичный и плоский. Это мир, в котором нет дискретных объектов, и потому он воспринимается нерасчлененно – как речь на чужом языке. Ср.: «А приехали мурзы-улановья, Телячьим языком рассказывают…» (Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. – М., 1938. С. 99). Во мраке, окутывающем этот мир, не различаются ни частные детали, ни отдельные лица. Чужие предметы и предметно воспринимаемые живые существа образуют единую в своей кишащей слитности враждебную массу, состоящую из кажущихся абсолютно тождественными единиц, носителей одного имени. Индивид поэтому оказывается здесь представителем однородного ряда, из которого он актуально выделяется только в силу занимаемого им положения – правителя, предводителя войска, духовного руководителя и т. п. Взятый в синхронии, этот ряд выступает как толпа. Взятый в диахронии, он представляет генеалогическую линию как родовую бесконечность, подобную родовой бесконечности насекомых и диких животных. И так же, как в сказке уничтоженное в богатырской битве вражеское войско наутро воскресает из мертвых, чтобы начать новое сражение, так в русской былине Батыга-отец сменяет Батыгу-деда, чтобы в свой черед уступить место Батыге-сыну Все они Батыги и все – Батыги Батыговичи: «А й наеде Батька Батыгович со сыном своим со Батыгушкою….» (Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом. М., 1949. Т. I. № 18).
Здесь есть смена, но нет развития. Движение идет по замкнутому кругу и потому иллюзорно. Вновь и вновь оно повторяет то, что уже было: тождество имен свидетельствует о полном тождестве их носителей. Это значит, что сын Батыги получает имя Батька не как династическое имя (ср. традицию династического именования у европейских монархов) и не в честь отца или деда, а потому, что такова его природная сущность: подобно тому как меч есть меч из множества и класса мечей, как щит есть не что иное, как щит – из множества и класса щитов, а Ворон Воронович русских сказок – ворон, так и Батыга не просто называется Батыга, но он и есть батыга – из генеалогической линии и синхронного ряда – толпы бесчисленных батыг. Таким образом, «чужой» мир – это мир форм множественного числа со значением однородного множества и мир нарицательных имен, в котором и собственные имена функционируют как нарицательные [Пеньковский 1989].
* * *
Понятно поэтому, что перевод существительных из ед. ч. во мн. ч. с одновременным преобразованием имен собственных (ИС) в нарицательные (ИН) может использоваться как знак принадлежности их денотатов «чужому» миру и тем самым как средство подчеркнутого выражения их резко отрицательной оценки:
При этом так же, как для ИН ед. → ИН мн. мы различаем, например, театр ‘…’ + ‘свое’ → театры1 ‘неоднородное множество театров’ и театр ‘…’ + ‘чужое’ 4 театры2 ‘однородное множество театров’ + ‘чужое’ + ‘плохое’, что нужно читать как ‘театр – это плохо’, а не как ‘плохие театры’, так и для параллельного ИС ед. → ИН мн. необходимо различать хорошо известные и многократно обсуждавшиеся в литературе случаи типа Ньютоны ‘великие физики’, т. е. «неоднородное множество физиков, объединенных общим признаком ‘подобные Ньютону’ (по их вкладу в науку или по способности сделать такой вклад)» и случаи типа Батыга ‘былинный персонаж, предводитель татарской рати’ → батьки ‘татарские воины, возглавляемые Батыгой’.
Следует специально подчеркнуть, что в случаях типа Ньютоны ‘великие физики’ мы имеем дело с единицами, которые занимают промежуточное положение между ИС и ИН – с разной степенью близости к ИН и с разной степенью связи с исходными ИС (в зависимости от степени однородности – неоднородности обозначаемых ими множеств и от уровня осознания этих признаков носителями языка, а также в зависимости от тех или иных особенностей контекста), но почти никогда не порывают окончательно с ИС, не переходят окончательно в ИН. Поэтому они объединяются с другими семантическими вариантами подобных имен в формах мн. ч., которые несут значение неоднородных множеств, состоящих из единиц, различающихся полом и возрастом (ср.: Ньютоны ‘неоднородное множество лиц, объединенных принадлежностью к семье Ньютона’), временем и местом существования (Ньютоны2‘неоднородное множество лиц, объединенных общностью происхождения, т. е. принадлежащих к роду Ньютонов’) или еще Ньютоны3‘неоднородное множество лиц, носящих фамилию Ньютон’. Значение неоднородного множества в случаях типа Ньютоны4 ‘великие физики’ свидетельствуется обычным употреблением подобных ИС / ИН с определителями временной (новые Ньютоны, Ньютоны наших дней) и этно-национальной (собственные Ньютоны, российские Ньютоны) и т. п. семантики. Все эти семантические варианты объединены также тем, что форма мн. ч. не вносит в них оценочного компонента значения. Положительная оценка, которую обычно отмечают в случае Ньютоны4, не связана с формой мн. ч. (ср. Квислинги и петэны – с отрицательной оценкой), но принадлежит к сфере коннотации исходных ИС.
В соотношениях типа Батыга → батыги наблюдается полный переход ИС → ИН с резким усилением уровня отрицательной экспрессии, сопровождающим значение однородного множества в «чужом» мире.
Резко экспрессивные пейоративно-отчуждающие формы мн. ч., обнаруживающие указанный тип семантического развития, до сих пор не привлекали к себе внимания исследователей и остаются неизвестными науке. Между тем они чрезвычайно интересны и важны, поскольку свидетельствуемые ими отношения семантического перехода и регулярной многозначности обнаженно демонстрируют специфический механизм логики восприятия и оценки всего того, что принадлежит «чужому» миру.
Лютер (Мартин Лютер, 1483–1546, – основатель и глава немецкого протестантизма, лютеранства) → старорус. Лютор → люторы ‘те, кто исповедует «богомерзкую люторскую ересь», лютеране’ → ‘все иноземцы – неправославные христиане’. Ср.: «В нижней части стены (на фресках середины XVII в. в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире. – А. П.) помещены сцены ада и рая. Огромный чешуйчатый змей извивается в правой половине картины, опутывая своими петлями толпу осужденных на вечную муку грешников. Среди них выделяется группа иноземцев в западноевропейских и восточных костюмах; это… иноверцы – “треклятые люторы” и агаряне…» (Я. Н. Воронин. Владимир, Боголюбове Суздаль, Юрьев-Польской. М.: Искусство, 1967. С. 101). Ср. также староукр. лютори ‘лютеране’: «Лютори й кальвини, дознаючи co6i напасти од католиюв, наших тдпирали…» (П. И. -Кулиш. Хмельнищина. Историчт oповщання. СПб., 1861), где заслуживает внимания также словоформа кальвини ‘кальвинисты’.
Магомет (из Мухаммед – основатель ислама) → стар. простор. Махамет → махаметы ‘магометане’, откуда затем бранное грубо уничижительное употребление без четко определенного значения. Ср.: «– Что же вы это делаете, аспиды вы, идолы вы, махаметы проклятые!..» (А. И. Левитов. На дороге).
Мазепа (Мазепа Иван Степанович, 1644–1709, – гетман Левобережной Украины, во время Северной войны 1700–1721 гг. изменивший Петру I и в октябре 1708 г. перешедший на сторону Карла XII) → мазепы: пренебрежительное прозвище, которым жители старообрядческих сел Западной Брянщины называют коренное население окружающих деревень (на территории б. Стародубского полка) и население соседней Северной Черниговщины, входивших в состав старой гетманской Малороссии [Пеньковский 1967].
Бонапарт → бонапарты ‘солдаты наполеоновской армии’. Ср.: «Вдруг взошла заря багряна. Вся Европа застенала. Объявлена война. Бонапарты – люты звери Отворили адски двери Пожрать священный чин…» (см.: К. Ф. Надеждин. Семинарист в своих стихотворениях. – Труды Владимирской ученой архивной комиссии. – Владимир, 1908. Кн. X. С. 27).
Наполеон → наполеоны (наполъоны) ‘солдаты наполеоновской армии’. Ср. в стилизации: «Вдруг услыхала – по дороге кони скачут прямо к нам в ворота. Офицер ихний и два драгуна. А барин… задрожали, достали из-под полы пистолет и стрельнули в офицера… И этот хам французский с коня-то и повалился. Я сильно так закричала, а драгун саблей дяденьку ударили, опосля офицера снова к седлу привязали и поскакали. Я Кузьме закричала, мол, что ж ты, Кузьма, али ты не солдат?… Да напольенов уж и след простыл…» (Б. Окуджава. Свидание с Бонапартом – из письма горничной Ариши); «А вскоре воротились лазутчики и сообщили, что Москва оставлена и наполеоны уходят в обратном направлении» (там же).
Колчак (Колчак Александр Васильевич, 1874–1920, – адмирал, один из руководителей российской контрреволюции, главнокомандующий белогвардейскими вооруженными силами) → колчаки ‘колчаковцы, солдаты армии Колчака’. Ср. в отражении: «– Жаль, тебя в восемнадцатом году пороли мало. Зачем тогда хлеб и мясо колчакам отдал?» (В. Поволяев. Шурик); «– Вы колчаки, што ли, солдатики? – Колчаки, – говорят ребята…» (Д. Фурманов. Чапаев. X).
Ср. также: Антихрист ‘по христианскому вероучению, главный и последний враг Христа, который явится перед концом мира и будет побежден Христом’; ‘главный бес’ → антихристы ‘черти’ → бранное слово. Ср. также Ирод – ироды и др. под.
* * *
Специфика называемых такими именами (ср. еще гитлеры как прозвище немецко-фашистских солдат в годы Великой Отечественной войны) однородных множеств, принадлежащих «чужому» миру и воплощающих «чужой» мир («чужие» миры), заключается в исключительно (предельно!) высоком уровне их однородности.[6]
При этом существенно важно, что эту предельную однородность субъект познания, принадлежащий другому («своему») миру, устанавливает не путем постижения объективного тождества составляющих такие множества единиц, но через операцию субъективного – подсознательного или преднамеренного – отождествления таких единиц, с отвлечением от всех и всяческих различий между ними.
Если «свой» мир – это мир познанный и познаваемый, мир, открывающийся познающему «своему» через выделение из общего и единого отличительных признаков отдельных дискретных объектов, которые таким образом как раз и узнаются-познаются и тем самым «о-свой-иваются»-осваиваются, то «чужой» мир – это мир неведомый и незнаемый (земля незнаемая)[7] – и более того: это мир, который и не следует знать. Отсюда в отношении к «чужому» миру принцип воинствующего невежества – «не знаю и знать не хочу» – с принятой наперед установкой на отказ от выделения отличительных признаков.
Если в «своем» мире все есть «отдельное» «свое», то в «чужом» мире есть только «общее» (отсюда польск. obcy ‘чужой’) и объединяющим признаком этого «общего чужого», в котором гибнут все индивидуальные признаки отдельных предметов и лиц, является их осознаваемая как враждебная «чужесть» и вырастающая на этой почве их резко отрицательная оценка.[8] Таков свойственный обыденному (мифологизующему) сознанию особый тип отчуждающего обобщения, который в терминах народной мудрости выражается поговорками типа «бур черт, сер черт – все один бес, серая собака, черная собака – все один пес».[9] Ср. в стилизующем отражении: «– Я-таки маракую толковать на их лад. – Где же ты выучился говорить по-голландски? – спросил Белозор, довольный, что будет иметь переводчика. – Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, так промеж них наметался по-татарски. – И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, когда ты станешь им болтать по-татарски? – Как не понять, ваше благородие, ведь все одна нехристь!» (А. Бестужев-Марлинский. Лейтенант Белозор. II).
Абстрагирующая сила этого типа сознания настолько велика, что оно в своем восприятии и оценке элементов «чужого» мира свободно снимает любые их различительные признаки и, преодолевая время и пространство, не останавливается и перед такими фундаментальными различиями, как национально-языковые и территориально-этнические (ср., например, в русских былинах отождествления-объединения типа «темна орда – проклята литва») и др. под. Ср. характеристику такого отчуждающего абстрагирования в статье Гегеля «Кто мыслит абстрактно?»:
«Кто мыслит абстрактно? – Необразованный человек, а вовсе не просвещенный… Ведут на казнь убийцу. Для толпы… он убийца и только. Дамы, может статься, заметят, что он красивый, сильный, интересный мужчина. Но такое замечание возмутит толпу: как так? Убийца – красив? Можно ли думать столь дурно, можно ли называть убийцу красивым? Сами, небось, не лучше!.. Это и называется – “мыслить абстрактно”: видеть в убийце только одно абстрактное – что он убийца, – и называнием этого одного-единственного качества уничтожать в нем все остальное, что составляет человеческое существо…» (Г. Гегель. Работы разных лет. М., 1970. Т. 1.С. 391–392).
* * *
Этот имеющий фундаментальное значение тип схематизирующего отчуждающего обобщения, характерный для мифологического и мифологизующего сознания, принципиально отличается от абстрагирования на логической основе как одного из необходимых этапов познания, предполагающего временное отвлечение от тех или иных индивидуальных признаков объекта анализа при учете всего богатства конкретной реальности и сохранении связей с нею. Отчуждающее же абстрагирование, напротив, вбирает в себя весь процесс познания в целом и представляет его последний и окончательный итог, который соединяет в себе признаки обвинительного заключения и не подлежащего обжалованию приговора… Представляя объект наблюдения, мысли и оценки как элемент «чужого общего», отчуждающее абстрагирование не просто отвлекается от его индивидуальных отличительных при знаков, но и скрыто или эксплицитно дискредитирует их.
Эта дискредитация получает в языке специализированное выражение при помощи местоименных слов со значением «обезразличивающего обобщения» и «обезразличивающей неопределенности» признака. Здесь следует иметь в виду две типичных ситуации.
А. Ситуация прямого предметного контакта, когда дискредитации подвергаются отличительные признаки определенного, известного, конкретного, непосредственно наблюдаемого объекта. Языковыми средствами выражения отчуждающего обезразличивания в этой ситуации являются местоименные определители всякий и какой-то: – Почему ты не передала мне паспорт с этой девушкой? – Не могу же я доверять такой документ всякой (какой-то) девчонке; – Ну как она могла, как она могла!.. – Нужно тебе нервничать из-за всякой (какой-то) дуры! – Почему ты с ним так грубо разговаривала? – Буду я деликатничать со всяким (каким-то) хулиганом! и т. п.
Чтобы уяснить различие между высказываниями с всякий и какой-то, рассмотрим их раздельно и более подробно.
Конструкции с обобщающим определителем всякий
«– Как вам не совестно, милостивый государь, морозить меня битый час на улице? – кричит в ухо своему коллеге раздраженный Эмец. – Ах, батюшка, простите, это вы? – наконец отозвался исправник. – А ведь этот дурак все твердил мне: ваше высокоблагородие, вставайте, немец приехал! Так я ему и отвечал: стану ли я беспокоиться из-за всякого проезжего немца!..» (Записки графа М. Д. Бутурлина, 1853). То же в отражениях: «– Да успокойтесь вы, батюшка-барин; что ж вам убиваться из-за всякого прощелыги…» (И. Ф. Горбунов. Старое житье); «– Чего это ты, братец, спустил этому скоту – Померанцеву?… Струсил… Да я бы его на твоем месте… – Да ну его ко всем чертям! Стану я со всяким дикарем связываться…» (А. И. Левитов. Петербургский случай. II); «Повар, фыркнув, ощетинил черные усы и сказал вслед ему: Нанимаете всякого беса, абы дешевле…» (М. Горький. В людях); «– Ты бы хоть поздоровалась с ним. – Была охота кланяться всякому ее хахалю!» (Г. Авдиев. Дочки-матери) и др. под.
Во всех таких случаях обобщающе-признаковое местоимение всякий, являющееся знаком полного и исчерпывающего множества признаков, различия между которыми снимаются вхождением единиц – их носителей в объединяющую их тотальность, по прямому смыслу сочетаний всякий проезжий немец, всякий дикарь, всякий прощелыга, всякий бес, всякий хахаль и т. п. приписывает все множество соответствующих признаков конкретным носителям и тем самым создает алогизм, который и ставит себе на службу семантика «чуждости»: «чужой» мир не может не быть алогичным.
Местоимение всякий в таких высказываниях получает неместоименное экспрессивно-оценочное значение ‘не стоящий внимания, плохой’, откуда далее возможное – субстантивированное – его употребление в случаях типа: «– Это вы утром компот выбрасывали? – Я. – Идиотизм какой. – Не хочу я принимать компот от всякого» (О. Куваев. Территория. 15); «– Чего ты в бутылку-то лезешь? Ну, ошибся человек, с кем не бывает. Молодая, неопытная. – Ну правильно! Она будет ошибаться, а я отвечай за всякую!» (Р. Петровская. Будни и праздники);«– Ну, знаете, если всякий будет требовать… – А я не всякий!..» (А. Дементьев. В командировке как дома); «-…Знаете, это болезнь такая… Наш брат, холостяк, подвержен ей бывает в период от 30 до 35 лет, когда у него начинает сосать под ложечкой при виде всякой благообразной отроковицы. – Стало, я была для вас всякая, Крупинский?» (П. Боборыкин. Труп. I); «Кассирша… злобно прошипела: – Лезет тут всякий…» (В. Ситников. На полустанке) и др. под. Ср. также аналогичное семантическое развитие у синонимического каждый: «Секретарша посмотрела на меня вопросительно и отчужденно. – Главный редактор здесь? – Здесь. Только он вас не примет. – Почему? – Хм. Если каждый будет заходить прямо к главному редактору…» (В. Солоухин. Фотоэтюд).
Вне субстантивированного употребления оценочное значение слова всякий не выдвигается на передний план, а лишь пульсирующе мерцает, просвечивая из-за основного, местоименно-обобщающего значения, которое, будучи отнесено к конкретному, единичному факту, заставляет осмыслять его как регулярное, повторяющееся событие, изменяя его модальность, переводя его из плана реального в план виртуального, т. е. осуществляет его генерализацию: стану ли я беспокоиться для всякого немца, осмысляется поэтому как ‘я никогда не стану беспокоиться ни для какого немца’. Неслучайно, что во всех рассмотренных выше случаях высказывание, являющееся минимальным контекстом определителя всякий, прочитывается как формулировка некоего нравственно-поведенческого принципа подобно пословичным сентенциям типа на всякий чих не наздравствуешься, которые также употребляются всегда применительно к конкретному жизненному факту. Отсюда такие грамматические особенности высказываний со словом всякий, как преимущественное использование форм будущего несовершенного в их переносном эмоционально-экспрессивном значении (см. о них [Бондарко 1971: 168–109]) и различных языковых средств выражения отрицательной модальности (нежелания, отрицательного долженствования и др.) через риторический вопрос (стану ли я беспокоиться?), разнообразные виды антифразиса (была охота ‘я не хочу’, была нужда, нужно тебе ‘не нужно’ и т. п.) и др.
Нетрудно убедиться, что генерализующее всякий выполняет ту же функцию пейоративного отчуждения, что и отмеченный выше перевод имен из ед. ч. во мн. ч. Ср.: «– А с вами я вообще не желаю разговаривать, – ответило кожаное пальто. – Еще секретарши будут мне указывать!..» (И. Меттер. Обида) = Еще всякая секретарша будет мне указывать!.. Ср. еще: «– Позвольте спросить, это чей дом-с? – сказал молодой человек. – А вам чей нужно? – отвечала девка. – А мне нужно… – И молодой человек произнес какую-то дикую фамилию, первую, какая ему пришла на ум. – Не знаю, – произнесла девка отрывисто и пошла прочь, ворча себе под нос: – Мазурики! ишь лукавый их носит!..» (А. Н. Плещеев. Дружеские советы); «Вошла вдова Мокеева, которая соблазняла Гурьяна на замужество, а Гурьян и не смотрит на нее. – Чего нужно? – Ничего не нужно… – Повернулась Мокеева. Гурьян ругается: – Черти, шатаются каждый раз!..» (А. Неверов. Полька-мазурка. I).
Совершенно очевидно, что формы мн. ч. в подобных случаях (подчеркну, что это все та же охарактеризованная выше ситуация А) имеют действительно не гиперболическое, а генерализующее значение. Отсюда возможность выбора того или иного средства генерализации или их усилительное объединение:«– А вы бы не ходили да не выпрашивали. – Тебя не спросила. Не хватало мне еще от сопляков (ср.: от тебя, сопляка; от всякого сопляка, от всяких сопляков) советы выслушивать…» (В. Перовский. Два дня и еще один день); «– Мы жизнь на тебя положили, а ты что? Со всякими проходимцами готова связаться! – Он не проходимец. Он хороший!» (В. Портнова. А все-таки он хороший); «– Одна радость – Люська ко мне забежит посумерничать… – Я же просила тебя не упоминать при мне всяких Люсек-Пусек…» (М. Танина. Услышь свой час).[10] Ср. также использование форм мн. ч. субстантиватов всякий, всякая: «– Я же вам ясно, гражданин, сказала: начальника нет и сегодня не будет. Ходят тут всякие….» (Н. Гейко. Под откос); «– Вы бы, женщина, лучше за собой смотрели… Цепляются тут всякие…» (Е. Зверев. Судный день). Аналогичное семантическое развитие обнаруживает и синонимическое разный в формах мн. ч.: «Спьяну полез однажды скандалить с Даниловым Георгий Николаевич из двадцать пятого дома. – Да я таких! – шумел он. – Лезут всюду разные! С бородами!..» (В. Орлов. Альтист Данилов).[11]
Следует отметить, что наряду с переводом имен из ед. ч. во мн. ч. в генерализующей функции используется также перевод из единичности в собирательность, а также обыгрывание возможностей совмещения этих двух значений: – Буду я деликатничать со всяким хулиганом (со всякими хулиганами, со всяким хулиганьем). Ср.: «– Вот смотри… Права навыдавали кому-попало, всякой шпане! «Волга» у него! Мурло за баранкой! Бабу посадил, скотина, и ослеп!..» (А. Ткаченко. Четвертая скорость. 1);[12] «Огромный будочник… выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: “Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!..”» (В. Гиляровский. Москва и москвичи); «Извозчик поднял скандал. – Всякая шантрапа тоже бы ездила на извозчиках!..» (Д. Мамин-Сибиряк. Любовь. 3); «– Нет, вы только подумайте!.. Всякая мразь мне будет нравоучения читать!..» (И. Потапенко. На хуторе) и др.
Наконец, должно быть отмечено употребление генерализующего всякий с близкими к собирательным экспрессивно-оценочными именами типа ерунда, чепуха, чушь и т. п. Ср.: «– Немножко беспокоюсь, как будет с пропиской… – Не хочу переживать заранее всякую ерунду. Подумаешь, прописка…» (В. Панова. Сколько лет, сколько зим. 2); «– Дело у меня в Москве, понимаете? Срочное дело! У меня предприятие в простое! Только это никого не волнует!!! Волнует вот… всякая хиромантия! – Вы не выражайтесь! – Я не выражаюсь! Я научно определяю ту ерунду, которой вы занимаетесь…» (Г. Горин. Феномены); «Вызвав Светлану, приказал напечатать для Балатьева направление в поликлинику… – Я не нанималась сюда всякую ересь печатать…» (В. Попов. Тихая заводь); «– Я не хочу тебя слушать. Придумываешь всякий вздор!..» (В. Корнев. Соседи); «– Чепуху всякую, милочка, несешь, чепуху!» (И. Герасимов. В отпуске); «– Ты что? Совсем уже?… Чушь всякую городишь!» (М. Есипов. Цирк) и др. под. (см. о них специально в работе [Пеньковский 1995: 36–40]).
То же в случаях типа говорить (рассказывать, обсуждать, выслушивать) всякую гадость (всякие гадости), всякую мерзость (всякие мерзости) и т. п. Ср.: «– Газета наша левая, хотите – считайте ее большевистской… разуверить не могу, да и нет охоты опровергать всякие пошлости…» (А. Н. Толстой. Эмигранты. 33); «– А может быть все-таки уедем? – Опять ты с всякими глупостями…» (Н. Веригина. Развод) и др.
Отсюда – при глаголах речи, мысли, чувства и восприятия – субстантиват всякие, – ого с не отмеченным словарями значением концентрированного выражения отрицательной оценки содержания глагольного действия: наговорить, наслушаться, насмотреться всякого. Ср.: «Я наслушался всякого. Я старался не вникать в их выкрики, но насколько я мог уловить их общий смысл, речь шла о моем барстве, лени, лживости, зазнайстве, бесчувственности…» (А. Крон. Бессонница); «– Я, Олег Константинович, на фронте среди солдат жила, там-то всякого наслушаешься, но разве я когда себе позволю такие грубости, что от нее каждый день слышишь?…» (там же). Ср. также всякое-разное: «– Ну ладно шутить, на мою голову и так достает всякого-разного!» (В. Попов. Тихая заводь) и всячинка, – и (со всячинкой): «– Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой там бывает…» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы).
Конструкции с определителем какой-то
Поскольку какой-то и всякий, как было сказано выше и как в этом легко непосредственно убедиться, свободно коммутируют, замещая друг друга во всех высказываниях, рассмотренных в связи с генерализацией типов, следует признать, что их объединяет общая пейоративно-отчуждающая, признаково-дискредитивная функция и общее – неместоименное – экспрессивно-оценочное значение, развивающееся по особым законам логики восприятия «чужого» мира.
Логической основой этого значения для местоимения всякий является, как мы видели, генерализация. Для местоимения какой-то такой основой является неопределенность. Всякий отрицатель-но оценивает и отчуждает, генерализуя конкретно-единичное, то есть представляя его как всеобщность, в которой гибнут, подвергаясь дискредитации, все множество и разнообразие отличительных признаков объекта. Какой-то отрицательно оценивает и отчуждает, представляя определенное неопределенным и тем самым дискредитируя его от– и различительные признаки. Ср.: Вот что узнает начальник геологоразведки об одном из геологов, интересуясь, честолюбив ли он: «Как всякий такой молодой специалист. Пожалуй, чуть больше. Медведь тут на базу пришел… Он на него с ножиком бросился». А вот что он говорит этому геологу, беседуя с ним: – Мне сказали, что у вас нет дисциплины. Медведи… Какие-то глупые ножики! (О. Куваев. Территория). Ср. еще: «– Посмотри, посмотри на свой пиджак. – На какой еще пиджак я должен смотреть, когда я сижу и ем совершенно сырые яйца… просил всмятку, всмятку я просил. Так нет же, и еще я должен озираться на какие-то сюртуки. Все посходили с ума. Там режиссер требует: подай ему жизнь человеческого духа, видите ли… Здесь пиджаки какие-то должен высматривать…» (И. Смоктуновский. Время надежд).
Всякий, генерализуя, лишает объект индивидуально-отличительных признаков и представляет его неопределенным. Какой-то, лишая объект индивидуально-отличительных признаков, представляет его элементом множества, т. е. генерализует. Различие между всякий и какой-то в контекстах, связанных с ситуацией А, определяется тем, какое место занимает генерализация в их семантической структуре: будучи основой пейоративно-отчуждающей функции определителя всякий, генерализация привязывает его к генерализующим контекстам (их признаки были охарактеризованы выше), тогда как какой-то функционирует вне этой жесткой связи.
Свободно замещая всякий в генерализующих контекстах, ка-кой-то – в качестве немаркированного члена этой пары – выражает рассматриваемые значения и в контекстах без генерализации: Ср.: «– Я сам слышал, как эта старуха сказала, что вы мне не родные… – Какая-то взбесившаяся от злобы мещанка придумала заведомую ложь, а ты и поверил?…» (Ю. Воронов. Мальчики) – *Всякая взбесившаяся от злобы мещанка придумала заведомую ложь, а ты… – Всякая взбесившаяся от злобы мещанка придумает заведомую ложь, а ты будешь верить?! – Можно ли верить всяким мещанкам!..; «– Нет, ты можешь себе представить: прошла мимо, даже “здрасьте” не сказала! – Ну и что ты кипятишься? Какая-то девчонка с ним, видите ли, не поздоровалась, так он переживает!..» (В. Гращенко. Балаган) – *Всякая девчонка с ним не поздоровалась… – нужно тебе переживать из-за всякой (какой-то) девчонки…
Так же, как и рассмотренные выше всякий, разный, каждый, определитель какой-то имеет не отмеченные словарями субстантивированные употребления в пейоративно-отчуждающей функции: «– Ну а что Зойка? – Что Зойка! Нашла себе какого-то… Ну и хмырь!..» (В. Игошин. Зойка); «– Меня, скажите, не спрашивали?… – Спрашивали, спрашивали… Ходила тут какая-mo!..» (А. Скобелев. Человек с портфелем); «Но когда она на другой день опять села на ту же скамейку, и оглянулась вглубь коридора, и опять старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительно, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, – вместо него ковыляли какие-то на костылях, – вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована этой встречей…» (А. Н. Толстой. Гадюка).
Функциональная важность, широта и частотность употребления представленного рассмотренным выше материалом круга местоименных определителей, обслуживающих семантику «чуждости», настолько очевидно велики, что не возникает сомнений в необходимости его лексикографического отражения. Однако академические словари его вообще не замечают, а Уш. и Ож. подают непоследовательно и внутренне противоречиво.
Так, Уш., выделяя интересующее нас значение как самостоятельный лексико-семантический вариант в семантической структуре местоимения всякий: «3. Не заслуживающий уважения, плохой, разг. пренебр. Нельзя иметь дело со всякими проходимцами. То же в знач. сущ. всякий, всякого. Всякий тоже будет соваться. Ходят тут всякие…» [Уш.: I, 417], – в то же время отмечает его как коннотацию к первому, основному значению местоимения какой-то ‘неизвестно, неясно какой’: «то же с оттенком пренебрежения, разг. С каким-то шалопаем дружбу ведет…» [Уш.: I, 1289].
Ож. предлагает противоположное решение. Рассматриваемое значение выделяется как самостоятельный семантический вариант местоимения какой-то: «4. Не заслуживающий внимания, уважения, разг. неодобр. Стану я с какими-то девчонками советоваться. Какой-то молокосос лезет всех учить» [Ож.: 241], но в то же время подается как коннотация к одному из значений местоимения всякий: «2. Разный всевозможный. Всякие книги. Хотят тут всякие, сущ. разг. неодобр.» [Ож.: 99] – почему-то только применительно к субстантивированному его употреблению.
Не вполне адекватной представляется также и формулировка этого значения: «не заслуживающий уважения» [Уш. ], «не заслуживающий уважения, внимания» [Ож. ]: она рационализирует и интеллектуализует то, что принадлежит в большей мере к области экспрессивно-чувственных переживаний, вступает в стилистическое противоречие с определяемыми и не соответствует предметным отнесениям определителей всякий и какой-то (всякий, какой-то вздор, мусор; всякая, какая-то ерунда, чепуха; всякое, какое-то барахло и т. п.). Более точным, как представляется, было бы определение «оцениваемый отрицательно, не стоящий внимания».
Это значение – ‘оцениваемый отрицательно (и поэтому) не стоящий внимания’ – нередко эксплицируется рядоположными пейоративами несчастный, паршивый, жалкий и др., которые усиливают и подчеркивают значение местоименных показателей «чуждости». Ср.: «– Ты, Танька, похоже ненормальная. Подумаешь, какая Раймонда Дьеп! Под колесо кидаешься! Из-за всякого несчастного пса! А ведь этот тип и наехать мог, с такого станется!..» (Р. Григорьева. Последние переселенцы); «– Что ревешь-то, дурочка? Новую заведем. Нужно тебе слезы лить из-за всякой паршивой кошки…» (А. Слепцов. На птичьем рынке); «– Что ж теперь из-за какой-то несчастной бумажки, которая выеденного яйца не стоит, голову в петлю…» (А. Нечаев. Выстрел); «– И ты из-за паршивой какой-то бабенки против друга пойдешь?…» (К. Васильев. Поговорили) и т. п.
Словари, справедливо связывая эту пейоративную лексику с выражением пренебрежения и сопровождая ее соответствующими пометами (разг., разг. – фам., простор., грубо или бран. простор.), тем не менее пытаются затем дать словам этой группы понятийное или синонимическое истолкование. Ср., например, паршивый «плохой, дрянной, ничтожный, презренный» [Уш.: I, 843]; «дрянной, никуда не годный» [Ож., 452]; «ничтожный, скверный, отвратительный» [БАС: IX, 252]; «плохой, дрянной, скверный» [MAC: III, 28]. Все такие раскрытия случайны – отсюда и расхождения в них между разными словарями, – поскольку они пытаются логизировать то, что имеет экспрессивно-чувственную природу и что должно интерпретироваться лишь с точки зрения целей, сферы и условий употребления.
Именно так – и это как раз тот путь, по которому следует идти в подобных случаях, – описывается словарями экспрессивно-оценочный определитель несчастный: «Употребляется для выражения неприязненного, пренебрежительного или презрительного отношения к кому-, чему-н.» [Уш.: II, 556]; «Употребляется для выражения неодобрительного, пренебрежительного отношения к кому-, чему-либо (обычно со словами: тот, этот, какой-нибудь и т. п.)» [БАС: VII. 1207–1208]; «Употребляется обычно в сочетании с местоимением этот для выражения неприязненного, неодобрительного отношения к кому-, чему-н.» [Ож.: 376]; «(обычно в сочетании со словами какой-то, этот). Употребляется как определение для выражения презрительного, пренебрежительного отношения к кому-, чему-л.» [MAC: I, 484].
* * *
Вне генерализующих контекстов и соотношения с всякий следует выделить еще употребление какой-то в охарактеризованном значении в контекстах, где это значение осложняется семантикой ограничения – ‘всего лишь’, ‘всего-навсего’, ‘всего только’ и т. п.
а) В условиях противопоставления: «Я прочел им мой роман в один присест… Старик сначала нахмурился. Он ожидал чего-то непостижимо высокого…, а вместо того вдруг такие будни и все такое известное. И добро бы большой или интересный человек был герой… а то выставлен какой-то маленький, забитый, даже глуповатый чиновник…» (Ф. М. Достоевский. Униженные и оскорбленные. VI); «…он меня обнял и даже облобызал… Правда, так он поступал со всеми выступающими, но то ведь были писатели, его друзья, а я какой-то студентишко…» (В. Солоухин. Фотоэтюд); «…мое появление лишний раз напоминало ей о ее ошибке, о том, как низко она пала, выйдя замуж за Веньку, неотесанного парня с окраины. Благородное воспитание, ковры, фарфор – и вдруг какой-то безродный Венька…» (Л. Сапронов. Старожил). Ср.: всего лишь маленький, забитый чиновник; всего навсего студент; всего только безродный Венька. Ср.: «…он думал, что она вымещает на нем свою обиду за неудавшуюся судьбу – “только учительница”…» (С. Есин. Текущий день) = какая-то учительница; «– Кто она и кто он? Учительница, образованная, и он – всего лишь тракторист!..» (И. Акульшин. Дела семейные) = какой-то тракторист.
б) В качестве определителя к сочетаниям с количественным значением: осталось каких-то десять километров; нужно доплатить каких-то пять – шесть рублей; готов поднять скандал из-за какого-то литра молока; торговаться из-за каких-то десяти копеек и т. п. Ср.: «Манташев, в мрачной неврастении, кричал, что какой-то десяток миллионов франков его никак не устраивает…» (А. Н. Толстой. Эмигранты. 28).
Отмечая этот – очень широко распространенный – тип употребления какой-то, словари через отсылку к соответствующему значению местоимения какой-нибудь (ср.: «то же, что какой-нибудь во 2-м значении» [БАС: V, 697]) определяют его как «приблизительно, не больше» [Уш.: I, 1289]; «в количестве не больше, чем что-л.» [Ож.: 241], «приближающийся по количеству к чему-л.» [БАС: V, 696], «приближающийся к какому-л. количеству, не превышающий какое-л. количество» [MAC: II, 169].
Совершенно очевидно, что если первое из двух указываемых словарями взаимосвязанных значений – значение приблизительности – является контекстно обусловленной модификацией основного, базового значения неопределенности, то второе – ограничительное значение ‘не больше чего-н.’ – является производным от экспрессивно-оценочного значения ‘оцениваемый отрицательно (и поэтому) не стоящий внимания’, т. е. такой, которым можно и сле-дует пренебречь, откуда затем ‘ничтожный’ и, в частности, ‘ничтожный в количественном отношении’. Однако ожидаемая помета «пренебр.» при рассматриваемом значении отсутствует, хотя в другом месте, иллюстрируя пренебр. несчастный, лексикографы приводят примеры с пренебрежительно-ограничительным значением местоимения какой-то. Ср.: «– И какие деньги, – каких-то несчастных сто тысяч. Мамин-Сибиряк, Хлеб» [БАС: VII, 1208; MAC: II, 484]. Ср. еще: «…Такая светлая головка – и в рабском положении. И за что? За каких-то презренных полтораста рублей!..» (П. Боборыкин. Долго ли?); «– Но вам уже предоставили двухнедельный отпуск. – Тоже мне отпуск. За каких-то две недели здоровья не поправишь…» (П. Боровский. Счета и счеты) и др.
Во всех таких случаях местоимение какой-то по видимости свободно заменяется местоимением какой-нибудь, чем и объясняется их полное отождествление в словарях. Так же свободно как будто осуществляется и обратная замена. Ср.: «Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось» (И. С. Тургенев. Записки охотника); «…через каких-нибудь четверть часа домишки совсем не стало – торчали только какие-то гнилые столбики» (С. Залыгин. Тропы Алтая. 1); «– Какова сумма куртажа? – Тысяч сто каких-нибудь… Пустяки!..» (А. Н. Толстой. Эмигранты).
Тем не менее, при всей их близости, значения этих двух местоименных определителей в составе количественных оборотов не вполне тождественны. И различаются они тем, какое место в их семантике занимает ‘приблизительность’.
В семантической структуре оборотов с какой-то, поскольку это местоимение привязано к ситуации прямого предметного контакта и точного знания об объекте (см. выше), ‘приблизительность’, т. е. количественная неопределенность, есть лишь способ дискредитирующего представления определенности. Поэтому здесь актуализовано пренебрежительно-ограничительное значение. «Каких-то два часа» – это два часа, и не больше и не меньше, но это так ничтожно – всего два часа, что кажется, что это просто ничто.
«Каких-нибудь два часа» – это часа два, т. е. время в некотором диапазоне между несколько меньше, чем два часа, и несколько больше, чем два часа (хотя и с тенденцией к сдвигу в сторону ‘меньше’; ср. аналогичное развитие семантики предлога около ‘приблизительно’), и это значит, что ‘приблизительность’ здесь есть неопределенность знания о количестве, которое поэтому и задается не числом, а диапазоном. Неопределенное местоимение какой-нибудь – с его этимологическим значением безразличного равенства ‘безразлично, какой-нибудь’ – обезразличивающе дискредитирует весь диапазон в целом, выделяя из него конкретное число только как его представителя. Поэтому актуализуется пренебрежительно-выделительное значение.
Какой-нибудь, таким образом, обладает обезразличивающей силой на порядок более высокой, чем какой-то, и, являясь немаркированным членом этого противопоставления, свободно замещает местоимение какой-то, тогда как обратная замена оказывается не вполне безупречной. Эта закономерность находит свое выражение и в частотном соотношении определителей какой-то и какой-нибудь в составе количественных оборотов – со значительным и безусловным преобладанием последнего. От-сюда мы естественно переходим к использованию какой-нибудь в ситуации Б.
Б. Ситуация мысленного контакта, когда – в виде догадки, предположения о возможном, размышления и т. д. – обезразличивающей дискредитации подвергаются отличительные при-знаки того или иного предмета мысли как объекта пейоративного отчуждения (при отсутствии точного и полного знания о нем):
«…А не сподличал ли Суров? Наплел какую-нибудь несусветицу из ревности?…» (В. Попов. Тихая заводь); «– Что ты плетешь какую-то несусветицу? – Я вот слышу: опять нового начальника прислали. Ну, думаю, снова какой-нибудь хрен моржовый и снова мне за него вкалывать» (В. Попов. Тихая заводь) = Приехал снова какой-то хрен моржовый, а я за него вкалываю; «– Ну нет и нет писем. Женился, наверное, на какой-нибудь финтифлюшке и молчит…» (Г. Кремин. Лили дожди…) = Какая девушка тебя ждала, а ты на какой-то финтифлюшке женился.
То же в генерализованных ситуациях: «– Какая-нибудь соплюшка, а на ней кримплен какой-нибудь, какой-нибудь финский костюм шерстяной…» (А. Болотов. Свои дети) = Какая-то соплюшка, а на ней…; «– Вот для меня, как для всех, самое большое счастье – это жить на свете. А на меня вдруг в темном углу какая-нибудь, простите, сволочь с ножом…» (В. Тендряков. Расплата. II. 6); «Какой-нибудь жулик встретится тебе ночью, напугает, а то и ограбит» [Уш.: I, 1289] и т. п.
Во всех подобных случаях экспрессивно-оценочное значение определителя какой-нибудь согласуется с тем же значением определяемых предикативно-характеризующих имен несусветица, хрен моржовый, финтифлюшка, соплюшка, сволочь, жулик, усиливает и подчеркивает его. Поэтому особый интерес представляют те случаи, где какой-нибудь выступает при нейтральных именах, как в приведенном выше примере из А. Болотова – кримплен, костюм какой-нибудь. Ср. еще: «– А я прихожу домой – поздно вечером, – отпираю дверь ключом – ни души. Дворничиха чего-нибудь в холодильнике оставит, что ей заблагорассудится, колбасы какой-нибудь…» (В. Панова. Сколько лет, сколько зим. 1); «– Нечего есть было, паря, – голодом пухли… Картошки какой-нибудь, и той не было…» (В. Колыхалов. За увалом); «И что же дается на наших театрах? Какие-нибудь мелодрамы и водевиле!…» (Н. В. Гоголь. Петербургские записки).
То же в сочетаниях с собственными именами: «Русская слава может льстить какому-нибудь Козлову, которому льстят и петербургские знакомства, а человек немного порядочный презирает и тех и других» (А. С. Пушкин); «…другой мосье, тоже усатый и похожий на первого, проворчал, что самое лучшее было бы собрать этих клошаров и выслать в какую-нибудь Гвиану, пусть бы они там передохли…» (А. Крон. Бессонница. XVII); «Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки» (А. П. Чехов. Шведская спичка).
Этот последний пример – из Чехова – заслуживает особого внимания. БАС приводит его в качестве иллюстрации к производ-ному от основного значения («тот или иной; безразлично, какой именно» [БАС: V, 696]), определяемому как «разг. неизвестно какой» (там же). В то же время MAC приводит его среди примеров, иллюстрирующих второе – обсуждавшееся выше – значение «2. Разг. Не стоящий внимания, незначительный, ничтожный» [MAC: II, 19]. Оба словаря, таким образом, предлагают логико-понятийную интерпретацию того, что, например, Уш. определяет как экспрессивно-оценочную коннотацию к основным значениям местоимений какой-нибудь и какой-то («то же, с пренебрежительным оттенком» [Уш.: I, 1289]. В чем, однако, состоят различия между этими последними, остается нераскрытым. Между тем это очень важно.
Высказывание: «Он отверг ее любовь для какой-то Акульки» – может интерпретироваться трояким образом: 1. ‘Женщину, для которой он отверг ее любовь, зовут Акулька, но, кроме этого, я ничего о ней не знаю’; 2. ‘Я знаю эту Акульку, но считаю ее недостойной его любви’ и 3. ‘Женщину для которой он отверг ее любовь, зовут Акулька, и я расцениваю это отрицательно, потому что считаю всех носительниц этого низкого и грубого имени низкими и не стоящими его любви’.
Высказывание: Он отверг ее любовь для какой-нибудь Акульки – имеет существенно иную интерпретацию: ‘Женщину, для которой он отверг ее любовь, зовут Акулька, и я расцениваю это отрицательно, так как считаю носительниц всех низких и грубых имен (таких, например, как Акулька) не стоящими его любви’.
Оба местоименных определителя имеют пейоративно-отчуждающую функцию, оба генерализуют, обезразличивая индивидуальные признаки элементов соответствующих множеств, но какой-нибудь устанавливает более широкий объем каждого такого множества и формирует их на более широкой признаковой основе. Так, в цитированном выше примере («…собрать всех этих клошаров и выслать в какую-нибудь Гвиану…») возможной прямой объективной интерпретации ‘выслать в одну из трех Гвиан – британскую, французскую или нидерландскую’ следует, учитывая общую экспрессию целого, предпочесть экспрессивно-оценочную интерпретацию: ‘выслать к черту на рога, в Америку, в одну из гибельных стран, например в Гвиану’; пушкинское: «… .какому-нибудь Козлову…» должно прочитываться: ‘жалкие петербургские писаки вроде Козлова’ и т. п. Точно так же кримплен какой-нибудь – это не ‘один из видов (сортов) кримплена’, а ‘чужой, отвергаемый мною импортный материал типа кримплена’; колбаса какая-нибудь – не ‘один из сортов колбасы’, а ‘не удовлетворяющая нормальным запросам убогая снедь вроде колбасы’; какие-нибудь мелодрамы и водевили – не ‘те или иные мелодрамы и водевили’, а ‘низкопробные и рассчитанные на нетребовательную публику постановки типа мелодрам и водевилей’ и т. п.
Во всех таких случаях пейоративно-отчуждающее значение генерализации комплексно совмещено с выделительно-«примерным» и сравнительным (‘наподобие’, ‘вроде’, ‘типа’) значением, которое в определенных условиях (например, в составе сравнительных конструкций) может выдвигаться на передний план. Ср.: «– Я к нему всей душой, но ведь он мимо меня, как мимо стенки какой-нибудь, проходит…» (С. Смирнов. В деревне);«…улыбается по-взрослому, тонко, значительно, высокомерно, как какой-нибудь граф Монте-Кристо» (В. Тендряков, Весенние перевертыши).
Это значение не фиксируется существующими словарями, хотя все они отмечают его у местоимения какой-то… Ср.: «3. Употребляется при примерном сопоставлении кого-, чего-л. по признакам, свойствам или примерном приравнивании кого-, чего-л. к кому-, чему-л. – По-вашему, Рудин – Тартюф какой-то. Тургенев. Рудин» [MAC: III, 19]. Тот же пример в [БАС] объясняется несколько иначе: «При выражении удивления по поводу сходства кого-, чего-л. с кем-, чем-л.» [БАС: V, 697].
Между тем это значение сравнения-сопоставления в сложном комплексе неопределенности, обезразличивающе-признаковой генерализации и пейоративного отчуждения свойственно и некоторым другим местоимениям с– нибудь: «…хозяин у автомобиля чистюля, у которого все блестит, все надраено, все на месте…: деньги в кошелек положены, а не в карман, как часто у мужчин бывает, шнурки вдеты в ботинки, а не валяются где-нибудь в галошнице…» (В. Поволяев. Место под солнцем); «– Не ходите, господа! Евграф разволнуется, напьется и заснет где-нибудь на диване…» (А. Крон. Бессонница); «Лисовский медленно повернул налево к парку Мон-Сури и сразу же увидел: посреди улицы валялась пушистая новая кепка, шагах в десяти – окровавленный платок, подальше – большая лужа крови. Лисовский ногтями стал драть подбородок. В Ростове где-нибудь – эка штука лужа крови, но здесь – ого!» (А. Н. Толстой. Эмигранты. 27) и т. п.
Едва ли можно сомневаться, что где-нибудь в галошнице надо понимать не как ‘в каком-нибудь месте в галошнице’, а как ‘в каком-нибудь совершенно неподходящем месте вроде галошницы’; где-нибудь в Ростове – не ‘в каком-нибудь месте, пункте, районе (на какой-нибудь улице, площади, в каком-нибудь переулке) Ростова’, а ‘в каком-нибудь низкопробном городе, например в Ростове’ и т. п. Ср.: где-нибудь в калошнице и в какой-нибудь галошнице; где-нибудь в Ростове и в каком-нибудь Ростове. Ср. еще: «…другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются потом за них жгучими сожалениями» (Б. Грифцов. Перевод: О. Бальзак. Шагреневая кожа) = в какой-нибудь мансарде; «– Зайдешь, говорит, куда-нибудь в ресторан – только и слышишь: “Дюжину устриц!..”» (Н. Успенский. Издалека и вблизи, VI) = в какой-нибудь ресторан; «Он хороший кучер и вообще малый трезвого поведения и доброго нрава, но имеет одну слабость: прихвастнуть… и все как бы в мою пользу. Вдруг, например, расскажет где-нибудь на станции, на которой нас обоих с ним очень хорошо знают, что я граф, генерал и что у меня тысяча душ…» (А. Ф. Писемский. Плотничья артель) = на какой-нибудь станции. Очевидно, что при полном семантическом тождестве с какой-нибудь определитель где-нибудь отличается только типом связи: это неописанный в синтаксической литературе особый тип согласования по синтаксической (обстоятельственной) функции.
То же пейоративно-отчуждающее значение, осложненное выделительно-примерной семантикой, ярко выступает в конструкциях противопоставления с отрицанием не. Ср.: «– Это ведь тебе не что-нибудь, не мотоцикл какой-нибудь паршивый, а ма-ши-на!..» (В. Ковельский. Через ветровое стекло); «– Стыд-то какой! Она ведь не откуда-нибудь, не из глухого угла сюда приехала, а из Москвы!..» (Н. Григорьев. В Париж!).
Во всех подобных случаях имеет место резкое противопоставление того, что выдвинуто в центр круга культуры и ценностного мира говорящего – субъекта сознания и оценки, помечено знаком + и служит точкой аксиологического и тимиологического (рангового) отсчета, всему тому, что центробежно сдвинуто па периферию и уравнено в общей обезразличивающей отрицательной и дискредитирующей оценке (см. об этом [Пеньковский 1995: 36–40], то же в наст. изд., с. 50–54):
– Ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор – вон какая птица, тебе и не выговорить!.. (Л. Андреев. У окна); И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, а не кого-нибудь!.. (В. Распутин. Живи и помни).
– Впервые попал я в столь редкую ситуацию, когда один… сдает, другой принимает, и не что-нибудь, а живые души! Отдел кадров!.. (Правда, 22 окт. 1986); – Надо ж понимать, что ты не с чем-нибудь имеешь дело, а с человеческим телом… (И. Анисимов. В больнице).
– Он ведь не куда-нибудь убежал, а на фронт… (Е. Суворов. Совка); – Мы не где-нибудь живем, а в Сибири… (Г. Немченко. Проникающее ранение);
– Чтобы ему хорошо там было, не как-нибудь, а настоящим бы манером (М. Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы); – Мы так должны сделать, чтобы Ленинградский райнаробраз созвонился с Октябрьским райздравом. И не как-нибудь, а чтобы по-хорошему созвонились… (С. Залыгин. Вылечила);
– Не-ет! – шептала Пальмира, – моим мужем будет только моряк. И не какой-нибудь, а обязательно военный моряк, офицер… (Г. Семенов. Птичий рынок); Банька была не какая-нибудь, только для избранников судьбы, сауна, – русская была, с каменкой!.. (Г. Немченко. Проникающее ранение).
Отсюда многочисленные субстантивированные употребления, не отмечаемые словарями: «– Есть, – говорит, красоточка моя, один мужчина, очень замечательный. Не какой-нибудь, а начальник!..» (В. Ляленков. Крещенские морозы); «– К ему – к подлецу – не какая-нибудь пришла, а девица в соку…» (А. И. Левитов. Петербургский случай, II); «– Да чего вы боитесь? – смущенно забормотал Антон. – Вот увидите, я не какой-нибудь.…» (В. Андреев. Бабьим летом); «– Вы не подумайте, – сказала она, что я – какая-нибудь…» (Г. Семенов. Иглоукалывание). «– Дурак! Ты что думаешь, я какая-нибудь, да?!..» (Н. Евдокимов. Происшествие из жизни Владимира Васильевича Махонина), откуда специализированное значение ‘женщина легкого поведения’.
* * *
Семантика пейоративного отчуждения в подобных контекстах может получать усиленное и подчеркнутое выражение введением особого – специализированного знака отчуждения, частицы там:
«– Ведь у людей что самое красивое? Не лицо, не что-нибудь там другое, а ноги…» (Н. Евдокимов. Была похоронка); «– Встанет чуть свет, ходит на цыпочках, дверями не хлопает, посудой не гремит, в избе прибрано, завтрак поспел вовремя, и не какая-нибудь там каша, а блины в сметане…» (А. Генатуллин. У родного порога); «…он, может быть, впервые за все годы получил возможность отдохнуть с семьей, и не в каком-нибудь там… “бре”, а летом, в августе…» (Л. Крейн. Дуга большого круга); «Надежда овладела общим вниманием, хотя переговаривалась только со мной, улыбалась лишь мне, а не каким-то там посторонним и незнакомым» (А. Белов. Марш на три четверти, I, 3); «И когда Надежда Константиновна <…> сказала ему однажды, что все это от переутомления, Владимир Ильич, покачав головой, возразил ей: – Нет, Надюша, нет, нет! Это не от какого там переутомления: это… Брест!..» (А. Югов. Страшный суд); «Она все время пела что-то… причем не грустное там что-нибудь, а быстрое и бодрое» (Р. Киреев. Застрявший) и т. п.
БАС отмечает употребление частицы там с пометой «разг.» лишь в сочетании «с местоимениями какой, какое, что и наречиями когда, где, куда: а) при возражении на чужие слова, обычно с повторением оспариваемого слова, обозначая: совсем не, вовсе не. – А что! трудно служить? – Какой там трудно?! (Н. Успенский. Старое по-старому; 2); б) для выражения сомнения в реальности чего-л. или для отрицания чего-л. – Марья, щи вари! Куда там! Только глазами поводит. А. Неверов. Марья-большевичка, 2…» [БАС: XV, 88]. Ож., имея в виду те же случаи (Какие там у тебя дела! Чего там!), характеризует там как частицу, «употребляемую для придания оттенка сомнения, пренебрежения» [Ож.: 725]. И только Уш., охватывая все – несомненно взаимосвязанные, но не тождественные – случаи и типы употребления частицы там, разъясняет: «Употребляется в предложениях и словосочетаниях с разделительными союзами, а также после местоимений и местоименных наречий, преимущественно неопределенных, для придания оттенка сомнения или пренебрежения» [Уш.: IV, 649].
Таким образом, если в БАС частица там – только средство передачи возражения и сомнения, то в Ож. и в Уш. учитывается также и семантика пренебрежения, что, однако, не решает проблему до конца.
Кажется совершенно очевидным, что семантическим центром этого слова является значение отчуждения, а все остальное – возражение, отрицание, сомнение, пренебрежение и т. д. – только контекстуально обусловленные экспрессивно-семантические модификации и приращения.
Там – с его основным местоименно-наречным обстоятельственным значением ‘не здесь’, ‘не теперь’ (откуда далее ‘не в моем сознании’) – отсылает в другие локусы, в другие времена, в другие культурные и ценностные миры, куда от «я – здесь – теперь» можно перебраться только оценивающей мыслью. И если оценивающее сознание воспринимает «другое» как «чужое – плохое», то принадлежащее ему там оказывается знаком отчуждения и – в силу отчуждения – знаком отрицательной оценки. Ср.: «– Мусье, любезнейший! ну что ж карту-то!.. – Карты нет-с; а что прикажете, – отвечал лакей, – вот закуски здесь на столе-с… – Ну, какие у вас там закуски! мерзость какая-нибудь!..» (И. И. Панаев. Провинциальный хлыщ).
Будучи знаком, меткой, маркой «чуждости», там, внесенное в нейтральный контекст объективного описания или высказывания, переводит его в субъективный экспрессивно-оценочный план, обнаруживая множественность «чужих» миров, делая явными скрытые «чужемирные» сферы сознания и культуры.
Такова, например, в соответствии с принципом «чужая душа – потемки», сфера чужого сознания, сфера мысли и чувства всех, кто «не-я»: «– О чем ты там думаешь? – спросила мать, но девочка, погруженная в свои мысли, не слышала ее и не отозвалась…» (В. Григорьев. На пороге); «– Между прочим, мне все равно, что вы там думаете обо мне…» (Г. Семенов. Утренние слезы); «Может быть, и он так думал, я уж там не знаю, только…» (В. В. Стасов – Д. В. Стасову, 30 мая 1896) и др. под. Ср. еще: «– Она переживает, а ты… – А я не знаю, что она там переживает и знать не хочу…» (В. Петелин. Берег счастья).
Такова же сфера неизвестных субъекту сознания и оценки имен и именований, которые именно своей неизвестностью толкают мысль на позицию отчуждения в географическом и ином пространстве и/или во времени: «– Послушайте, как вас там, Нина Петровна, кажется…» (Н. Леонов. Явка с повинной, I); «– Колхоз-то ваш “Россия”, что ли, называется? – Не знаю, батюшка, как он там прозывается. Колхоз отсюда далече, а мы, глико, старые…» (Д. Кузовлев. Березуги); «– Настоятель кладбища, или как их там называют теперь, промелькнул за воротами» (О. Попцов. Без музыки); «Ему снилось, что та, которую все звали Катериной Алексеевной, а он Катеринушкой, а прежде звали драгунской женой, Катериной Василевской, и Скавронской, и Мартой, и как еще там, – вот она уехала…» (Ю. Тынянов. Восковая персона, I, 5) и т. п.
«Чужим» и потому отрицательно оцениваемым и отвергаемым оказывается во многих случаях не сам «чужой» мир, а его, противоречащее стандартному о нем представлению, внутреннее разнообразие. Именно этим, по-видимому, объясняется констатируемая словарями и свидетельствуемая многочисленными фактами, но остающаяся загадочной позиция там в сочинительном ряду однородных членов (и не только с разделительными союзами): «-…В книжках пишут: весна, птицы поют, солнце заходит, а что тут приятного? Птица и есть птица и больше ничего. Я люблю хорошее общество, чтоб людей послушать, об религии поговорить или хором спеть что-нибудь приятное, а эти там соловьи или цветочки – бог с ними…» (А.Чехов. Убийство); «Топоры, ломики, малые саперные лопаты… И никаких литературных институтов или там семинаров по эстетике…» (Н. Атаров. Пути-дороги Сергея Антонова); «Перед поездкой в Швейцарию… домашние забросали заказами. Кофточки там, пиджачки, брючки, туфельки…» (В. Солоухин. Камешки на ладони); «…начала перелистывать историю болезни, в которой… болезни пока не значились. Ну там насморк, вазомоторный ринит. Ну там ангина, грипп…» (В. Солоухин. Приговор) и т. п.
В этой связи следует отметить также различные соединения там с местоимениями «разнообразия» – всякий, разный, всевозможный и др. под. Ср., например: «Она находилась в том возрасте, когда собственные увлечения, всякие там встречи и знакомства забывают напрочь» (В. Андреев. Тревожный август); «– Я человек не ресторанный… – говорил он сам о себе. – Мне там всякие селедочки, всякие закуски холодные и горячие не нужны… Вкуснее, чем моя жена, никто не умеет готовить…» (Г. Семенов. Иглоукалывание); «Не хотели принять его самоотвод во внимание – не обессудьте. На заседания он, конечно, будет ходить, тут уж ничего не поделаешь, а насчет всего остального, поручений там всяких, – извините-подвиньтесь. У него своих забот хватит…» (Ю. Убогий. Дом у оврага) и т. п.
Очевидно, что во всех приведенных случаях там не только выражает отрицательную оценку и пренебрежение («придает оттенок пренебрежения», как указывают словари), но и является знаком отчуждения в полном и точном значении этого термина. Так, в первом предложении (ср. нейтр. всякие встречи и знакомства) автор – изнутри подсознания героини – не только отрицательно оценивает увлечения, знакомства и встречи, но и отчуждает их намеренным изгнанием из памяти и замыканием в другом – ставшем чужим – времени молодости субъекта сознания и оценки. Точно так же во втором примере представлена не просто отрицательная оценка «всяких селедочек и закусок», но отрицательная оценка их как принадлежащих чужому – не домашнему, а ресторанному типу кухни. В третьем предложении противопоставлены близкие сердцу «свои» заботы пренебрежительно оцениваемым «всяким там» разнообразным «чужим» поручениям и т. д.
Особенно показательны в этом отношении те случаи, когда отрицательная экспрессия сведена к минимуму или вообще отсутствует, а семантика отчуждения выступает в чистом виде: «Ведь ледник – это не лес со всякими там деревьями, кустарниками и почвами…» (Знание – сила. 1973. № 12. С. 13 – с точки зрения ученого-гляциолога); «…теперь, когда я не смог бы спутать грузинского “енисели” с армянским “двином”, когда перепробовал всевозможные там “камю” и “корвуазье”…» (В. Солоухин. Бутылка старого вина); «…слышать это из уст ямщика, чуждого, казалось бы, всевозможным там “коллизиям” и терзаниям душевным…» (А. Югов. Страшный суд) и др.
Анализ более широкого материала мог бы показать, что даже в условиях, обеспечивающих «чистоту» семантики «чуждости = отчуждения», частица там как специализированный знак «чуждости» не обладает самостоятельностью, но функционирует, как правило, во взаимодействии со всеми противопоставлениями, которые образуют эту семантическую категорию (таковы базовые противопоставления «этот – тот», «мы – они», «я – ты», «наш – их» и «наш – ихний», «мой – твой», «теперь – тогда» и др.), со всей аксиологической сферой и системой выражающих оценки коннотаций, со всеми лексическими и грамматическими средствами, которые работают на них. Изучение этих связей должно быть предметом специальной работы.
Настоящие заметки лишь приоткрывают завесу над этой обширной областью, связывающей язык с общественным сознанием, социальной психологией, идеологией, культурой и искусством.
Дальнейшее углубленное ее изучение позволит прочесть новые страницы скрытой грамматики русского языка и осуществить тем самым завет А. С. Хомякова, который в письме А. Ф. Гильфердингу писал: «Хоть бы мы свою грамматику поняли! Может быть, мы бы поняли тогда хоть часть своей внутренней жизни!» (1855 г.).
Литература
Арбатский 1972 – Арбатский Д. Л. Множественное число гиперболическое//Русский язык в школе 1972 № 5
БАС – Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М.; Л ИАН, 1950 – 1965
Бондарко 1971 – Бондарко А. В. Вид и время русского глагола М Просвещение, 1971
Даль – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка М, 1881 – 1882
Засорина 1977 – Засорина Л. Н. Частотный словарь русского языка М Русский язык, 1977
Eliade 1970 – Eliade M. Sacrum, mit, historia Warszawa, 1970
Иванов, Топоров 1965 – Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые моделирующие системы М. Наука, 1965
Исаченко 1954 – Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким Братислава, 1954 Ч 1
Красильникова 1983 – Красильникова Е. В. Некоторые проблемы изучения морфологии разговорной речи // Проблемы структурной лингвистики. 1981 М. Наука, 1983
Лекант 1982 – Современный русский язык / Под ред. П. А. Леканта М. Высшая школа, 1982
Лотман 1969 – Лотман Ю. М. О языке типологических описаний культуры//Труды по знаковым системам Тарту, 1969 Т IV
MAC – Словарь русского языка В 4 т. М. Русский язык, 1981 – 1984
НСРЯ – Новый словарь русского языка. М. Русский язык, 2001
Ож– Ожегов С. И. Словарь русского языка М Русский язык, 1975
ОШ – Ожегов С. И., Шведова И. Ю. Толковый словарь русского языка М, 1997
Пеньковский 1967 – Пеньковский А. Б. Фонетика говоров Западной Брян-щины Дисс канд филог наук М, 1967
Пеньковский 1986 – Пеньковский А. Б. Русские персонифицирующие именования как региональное явление языка восточнославянского фольклора // Лексика и грамматика севернорусских говоров Киров, 1986
Пеньковский 1987 – Пеньковский А. Б. Лексико-синтаксическая струк-тура блоков полного усиленного отрицания в русском языке // Русский син-таксис словосочетание и предложение Владимир, 1987
Пеньковский 1989 – Пеньковский А. Б. Ономастическое пространство русского былевого эпоса как модель его художественного мира // Язык жанров русского фольклора Петрозаводск, 1989
Пеньковский 1995 – Пеньковский А. Б. Тимиологические оценки и их выражение в целях уклоняющегося от истины умаления значимости // Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова, Н. К. Рябцева. М.: Наука, 1995.
Ревзин 1969 – Ревзин И. И. Так называемое немаркированное множественное число // ВЯ. 1969. № 3.
Розенталь 1976 – Современный русский язык /Под ред. Д. Э. Розенталя. М.: Высшая школа, 1976. Ч. 1.
СП – Словарь языка Пушкина. В4 т. М., 1956–1961.
Срезневский 1903 – Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903. Т. 3.
СТРЯ – Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2001.
СЦРЯ – Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1867.
Уш. – Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935–1940.
1
Ср. гротескное противопоставление «чужие леса – свой лес» в рассказе Ф Эмина «Сон, виденный в 1765 г Генваря первого», где главный член ученого собрания животных, получивший образование «в чужих лесах», преследует тех, кто обучался «в своем лесу», так как «весьма пристрастен к чужелесным» (Русский архив, 1873 Кн 3 Вып 1 °C 1922)
2
Следует отметить также такой широко распространенный вариант этого базового противопоставления, как «наше – не-наше» с модификациями. Ср. «– Господи! Как я кричала ныне во cнe, – рассказывала мне девочка – Будто бы какой-то ненашенский царь тебя мучил; жег он тебя на огне, щипал разожженными железными щипцами «(А И Левитов Дворянка III) Ср. также табуированное именование черта – ненаш (С Максимов Нечистая сила, неведомая сила//Собр соч СПб, [б г] Т 18 С 4 Примеч 1)
3
Этому не смогла воспрепятствовать и попытка ее славянофильской гальванизации в 40 – 60-е гг XIX в Ср. показательное название программного стихотворения Н М Языкова «К ненашим», датированного 1844 г
4
Показательно отсутствие всей этой лексики в словаре Даля, где приведено только производное заграничный «за границей находящийся или оттуда привезенный» [Даль I, 570], возмещавшее отсутствие прилагательного *чужекрайный / *чужекрайний, производного от чужие край. Ср., однако, чеш. cizokrajny ‘иностранный’, слвц. cudzokrajny ‘тоже’
5
Сходное положение в белор. и укр. (ср заграниця и закордон, за гра-нщю и за кордон и т п), тогда как все остальные славянские языки с большей или меньшей последовательностью сохраняют исконные образования с корнями – соответствиями рус чуж-/ чужд-
6
Показательно широкое использование образов таких множеств при сравнении в качестве эталонных носителей признаков однородности, неразличимости, тождества Ср. «Не отличался год от года, /как гунн от гунна, гот от гота/ во вшивой сумрачной орде. / Не вспомню, что, когда и где. / В том веке я не помню вех, / но вся эпоха в слове плохо… / Года, и месяцы, и дни / в плохой период слиплись, сбились, / стеснились, скучились, слепились…» (Б. Слуцкий. «Конец сороковых годов…»).
7
Вот несколько показательных примеров, иллюстрирующих противопоставление «своего» и «чужого» мира по этому признаку: «– Слушай, а что это у тебя здесь устроено? Газончик, каменья какие-то… Зачем? – Как зачем? – засмеялся Никулин… – Красиво, не видишь, что ли? – Ну, газон, травка там… ладно. А каменья-то, каменья-то зачем? – говорил Степан, все более раздражаясь. – Я люблю камни. – Никулин простодушно улыбался. – Камни? Да ты что? – наседал на него Степан. – Что ты мне голову морочишь? Камень он камень и есть. Тяжесть мне их нравится, прочность. И они же все разные, ты посмотри. И форма, и цвет, и на ощупь тоже. Видишь, сколько оттенков?» (Ю. Убогий. Дом у оврага);«– Удивительно, – проговорила задумчиво Таня, – у нас дома своей собаки никогда не было, и мне они издали все казались одинаковыми: четыре лапы, хвост… А у них у каждой – свой характер. Как люди…» (Р. Григорьева. Последние переселенцы);«– Ох, русские люди… Чего только в нас не намешано – и доброта святая, и к жертве любой готовность, и преданность, и притворство, и лукавство, и к разбою склонность. Француз или немец – тот одной краской мазан, а наш – радуга, все цвета налицо!» (Ю. Нагибин. Заступница).
8
Отсюда вырожденные варианты имен, которые, утратив определенно понятийное содержание (ср. ироды, махаметы и т. п.), функционируют как nomina obscoena, в качестве сгустков пейоративной экспрессии.
9
Отсюда – с усечением – фразеологизмы один бес, один пес, один черт (и продолжающие этот ряд образования по фразеосхеме – одна холера, один хрен и др. под.) с общим значением ‘одно и то же, все равно, безразлично’ (о явлениях, оцениваемых отрицательно). Ср.: «– Меняют их как перчатки, и каждый… свои порядки устанавливает. Ну а нам один бес деваться некуда, работаем…» (Г. Пономарев. Всем миром);«– Хотел было в город податься, на завод, да мать уперлась: оставайся и иди в мастерские. А, думаю, один пес, мастерские так мастерские…» (В. Ильин. Со службы на работу);«– Братья-то потом на шахты подались. И правильно сделали! Я бы им тут один хрен жизни не дал, куркулям!..» (А. Знаменский. Осина при дороге);«– Диагноз они теперь будут уточнять! А не одна ли холера, если он умер…» (К. Власенков. Диагноз);«– Зря ты, Мишка, отказался. Была бы хоть польза от нэпмана. – Он не нэпман, а агент по снабжению. – Один черт. Посмотри на костюм, галстук, лакированные ботинки. – Ты грубый и примитивный социолог. Для тебя одежда – главный признак классовой принадлежности» (А. Рыбаков. Выстрел). – Словари – кроме БАС – эту фразеологическую серию не фиксируют. БАС же приводит из нее только один черт с яркой иллюстрацией из письма Ленина Горькому в середине ноября 1913 г.: «Вы изволили очень верно сказать про душу – только не „русскую“ надо бы говорить, а мещанскую, ибо еврейская, итальянская, английская – всё один черт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно…»[БАС: XVII, 947).
10
В связи с этим примером должно быть отмечено и подчеркнуто органическое единство отрицательной экспрессии пейоративного отчуждения и отчуждающей силы экспрессивного тотального отрицания, также использующего перевод имен из ед. ч. в мн. ч.: «Вернусь, сразу же в баню. Никаких душей и ванн. Нет! По старинке. Куплю у инвалида веничек… Нот души!» (В. Шугаев. На тропе); – Нужны мне всякие души и ванны!; «– Виноват, – сказал я робко, – а мне говорили, что Евлампия Петровна будет ставить. – Какая такая Евлампия Петровна?… Никаких Евлампий!..» (М. Булгаков. Театральный роман. 9); «На выпускной вечер Вадим не пошел. Надо было вносить деньги, а у матери он брать не хотел. Да и не надо ему никаких выпускных вечеров…» (И. Грекова. Вдовий пароход, 23) и др. (см. об этом в работе [Пеньковский 1987] и в наст. изд. с. 101–120). Ср. обыгрывание этого приема у Н. Н. Златовратского: «– Дяденька, Иван Якимыч! Вы это будете? – вскрикнул я. – Я.… А какой я тебе дяденька?… У меня, брат, нет никаких племянников…<…> – А может, дяденька Иван Якимыч, других племянников не помните ли, с которыми в лес-то ходили, пред которыми душу свою тоскливую открывали? <…> А мы, племянники глупые, говорили тебе, чтоб тоску твою унять: “Хорошо, мол, дяденька, важно в лесу-то!..” <…> Может помнишь, как ты за нас, своих племянников, у отцов наших прощенья просил…» (Н. Н. Златовратский. Иван Якимыч – питерский учитель, 1868–1870).
11
Ср. также случаи, в которых можно видеть эллипсис субстантиватов всякие, разные: «Лицо у нее от носа стало краснеть, краска разливалась по щекам: – Какого черта вы прицепились?… Ходят тут!.. – с яростью выпалила она» (Д. Гранин. Картина, 1); «И еще черного мне буханку…; Heт, три! – Продавщица небрежно двинула по прилавку круглые подовые хлебы. – Что ты, миленькая, не эти… Эвон, кирпичики аржаные. – Гала рванула хлебы назад. – Ходят, сами не знают чего надо…» (Р. Григорьева. Последние переселенцы).
12
Ср.: «– Жильцов пустила… – Жильцо-ов? Ты чего, вовсе с приветом?… Шпану всякую насобираешь – отвечай потом за тебя…» (Р. Григорьева. Последние переселенцы), где собир. шпану соотнесено с реальной множественностью.