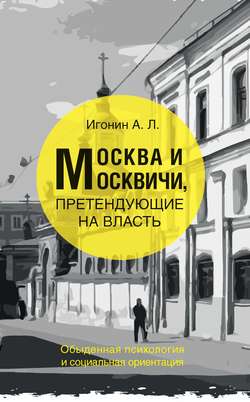Читать книгу Москва и москвичи, претендующие на власть. Обыденная психология и социальная ориентация - А. Л. Игонин, Андрей Леонидович Игонин - Страница 3
Введение
ОглавлениеСодержание книги переносит нас в период от начала 70-х до начала 90-х годов. В то время в Москве (и не только в Москве) особенно четко выделялись три вида субкультур[1]. Если для их обозначения использовать названия станций метро, вблизи которых представители данных субкультур концентрировались, то можно назвать эти субкультуры арбатской, кунцевской и пролетарской.
Характеризуя первую из данных субкультур, арбатскую, следует отметить, что название «Арбат» ассоциируется у нас как со станцией метро в центре города, так и со знаменитой улицей, куда устремляются приезжие. Но для коренных москвичей это слово означает нечто большее, чем название станции метро или улицы. Как отметил знаток старой Москвы С. Шмидт (сын знаменитого в 30-х годах академика О. Шмидта), под термином «Арбат» надо понимать не просто место в городе, a «социокультурную общность». Это общность людей, проживающих на улицах и в переулках в районе Арбата, а также в любом другом месте в пределах Садового кольца, объединенных родственными и дружескими связями, общими умонастроениями, интересами, увлечениями, симпатиями, антипатиями, поветриями моды и бытовыми привычками.
Вторая субкультура, кунцевская, названа так потому, что станция метро «Кунцевская» ассоциируется с местом обитания номенклатурных работников высокого ранга (партийных функционеров, высокопоставленных чиновников, крупных хозяйственников, генералов, академиков, председателей правлений творческих союзов и т. п.). Комплекс элитных домов около станции метро «Кунцевская» получил поэтому среди москвичей ироническое название «Царское село».
У проживающих в Кунцево, и не только в этом микрорайоне, номенклатурных работников имелись характерные черты, которые выделяли их среди других москвичей и позволяли считать представителями одной субкультуры[2]. В отличие от людей с Арбата, многие из представителей кунцевской субкультуры были выходцами с периферии. Система партийной работы с кадрами предусматривала перемещение людей из Москвы в провинцию и наоборот.
Наконец, третья московская субкультура – пролетарская – может быть названа таким образом как по преимущественному простонародно-рабочему происхождению и положению, так и по названию одной из станций метро, расположенной на востоке столицы. Именно в этих районах города сосредоточены промышленные предприятия и, соответственно, живут работающие на них люди.
Среди пролетариев было много провинциалов, приехавших в Москву «по лимиту». Как известно, в течение многих лет отцы города старались из идеологических соображений поддерживать в Москве достаточно большое число представителей рабочего класса. Без пополнения людьми с периферии эта часть населения столицы быстро таяла, так как многие ее представители выбивались из рабочих в другие, более престижные группы. Тем не менее, значительная часть оставалась работать на предприятиях или, во всяком случае, жить в прилежащих к ним районах города. К людям пролетарского типа относились не только приезжие, но и коренные москвичи, в силу каких-то причин не способные или не желающие переходить в иные социальные группы.
1
В соответствии с определением, содержащимся, например, в учебнике по социологии Н. Смелзера, субкультура – это часть какой-либо культуры (в данном случае советской). Представители определенной субкультуры придерживаются одних и тех же ценностных ориентаций и традиций, что обусловлено принадлежностью к одному социальному классу, одной исповедуемой религии, одному этническому происхождению, одному месту проживания и другими объединяющими этих людей характеристиками.
2
М. Джилас, М. Восленский и многие другие критики советской власти считали даже, что слой партийной номенклатуры при социализме в нашей стране – это не только носитель особой субкультуры, но и самостоятельный общественный класс. Эксплуататорский, конечно.